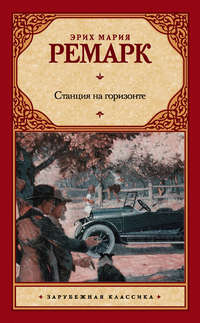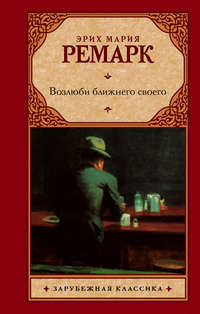Полная версия
Жизнь взаймы, или У неба любимчиков нет
– Крокодил? Далай-лама?
– Да нет. Никто. Машина-то вдалеке стояла, около спуска для начинающих. Вряд ли кто углядел. А даже если! Все равно я счастлив! Я-то уж думал, что никогда больше нашу старушку водить не смогу.
– Сегодня, похоже, у нас вечер счастливцев, – проронила Лилиан с горечью. – Вы только поглядите на это!
Она показала глазами на столик, за которым, сияющая, полнолицая, в окружении друзей-подружек сидела Эва Мозер. У нее был вид человека, только что отхватившего главный приз в лотерею и не знающего, куда деваться от толпы новоявленных почитателей.
– Ну а вы? – спросила Лилиан Хольмана. – Температуру мерили?
Хольман только рассмеялся:
– Завтра успеется. Сегодня и думать об этом не хочу.
– А по-моему, у вас жар, вам не кажется?
– Мне все равно. Да и не кажется мне.
«Зачем я к нему пристаю? – с досадой подумала Лилиан. – Неужели я ему завидую, как все вокруг завидуют Эве Мозер?» – Клерфэ сегодня не придет? – вдруг вырвалось у нее.
– Нет. К нему сегодня кое-кто приехал. Да и с какой стати ему каждый день сюда таскаться? Ему, должно быть, скучно здесь.
– Тогда почему он не уезжает? – спросила Лилиан сердито.
– А он и уедет. На днях. В среду или в четверг.
– На этой неделе?
– Ну да. Наверно, вместе с гостьей своей и уедет.
Лилиан промолчала; она не знала, нарочно Хольман про гостью упомянул или нет, но именно поэтому решила считать, что нарочно, и не стала ни о чем расспрашивать.
– У вас выпить не найдется? – вместо этого спросила она.
– Ни капли. Остатки джина я сегодня Шарлю Нею отдал.
– Но разве днем вы за бутылкой водки не ездили?
– Бутылку я Долорес Пальмер пожертвовал.
– С чего вдруг? Образцовым пациентом решили стать?
– Вроде того, – слегка смутившись, ответил Хольман.
– Сегодня днем вы таким паинькой еще не были.
– Как раз поэтому, – сказал Хольман. – Хочу снова ездить.
Лилиан отодвинула тарелку.
– С кем же теперь мне удирать отсюда по вечерам?
– Да найдутся охотники. И Клерфэ еще не уехал.
– Допустим. А потом?
– Разве Борис сегодня не заглянет?
– Нет. Не заглянет. Да с ним и не удерешь. Я сказала ему, что у меня голова болит.
– А она у вас болит?
– Болит. – Лилиан встала. – Раз уже сегодня все такие счастливцы, осчастливлю-ка я нашего Крокодила. Пойду спать. В объятиях Морфея. Спокойной ночи, Хольман.
– Что-нибудь не так, Лилиан?
– Ничего. Обычная тоска. Симптом хорошего самочувствия, как сказал бы Далай-лама. Потому что при плохом самочувствии пациенту уже не до мерехлюндии. На страхи и панику просто сил не остается. До чего же Бог милостив, не правда ли?
Ночная сестра обход закончила. Сидя на кровати, Лилиан тщетно пыталась читать. Потом все-таки отложила книгу. Снова ей предстоит ночь – мучительное ожидание сна, потом сон, прерываемый провалами внезапных пробуждений, когда летишь в невесомости, не ведая, где ты и кто, не узнавая ни стен, ни себя в этих стенах, просто сквозь свист и нескончаемость секунд падаешь во тьму, а вокруг лишь страх, муторный морок смерти, покуда из черноты смутно не проступит прямоугольник окна, а перекрестье рамы не перестанет казаться крестом на вселенском погосте, комната не станет знакомой палатой, а жалкий комочек первобытного ужаса с застрявшим в горле криком не окажется ею, живым существом, на кратчайший миг вечности обретшим имя Лилиан Дюнкерк.
В дверь постучали. В коридоре стоял Шарль Ней в тапочках и пурпурном шлафроке.
– Все чисто, – прошептал он. – Пошли к Долорес! Эва Мозер прощается.
– Куда? Зачем? Чего ради она снова прощаться надумала?
– Это мы хотим попрощаться. Не она.
– Так ведь прощались уже, в ресторане.
– То было так, для отвода глаз. Пошли, не порть людям вечер.
– Да неохота мне.
Шарль Ней вдруг бухнулся на колени перед ее кроватью.
– Пойдем, Лилиан, кудесница лунного серебра, чаровница дыма и пламени! Сама подумай: останешься здесь – будешь злиться в одиночестве, пойдешь туда – будешь злиться, что пошла. Что здесь злиться, что там – не все ли равно! Пошли!
Он вдруг прислушался, потом приоткрыл дверь. Из коридора еще явственней донесся стук костылей. Мимо проковыляла старушка.
– Видишь, все идут. Даже стрептомициновая Лили. А вот и Ширмер с Андре.
Мимо проехал и Седая Борода в кресле-каталке, которую чарльстонной припрыжкой вез вихлявый молодой человек.
– Смотри, даже мертвецы восстают, чтобы сказать Эве Мозер «Ave Caesar, morituri te salutant», 6– не унимался Шарль Ней. – Хоть на один вечер забудь свою русскую хандру, вспомни жизнелюбивый нрав твоего валлонского папаши! Одевайся и пошли!
– И не подумаю одеваться. В пижаме пойду!
– Приходи в пижаме. Только приходи!
Долорес Пальмер жила этажом ниже. Вот уже три года она обитала в роскошной палате, представлявшей собой настоящие апартаменты: спальня, гостиная, ванная комната. За эти хоромы она и платила больше всех и в санатории, а подобострастным почтением персонала пользовалась беззастенчиво и безмятежно.
– У нас для тебя две бутылки водки в ванной, – объявила она Лилиан. – Где хочешь сесть? Рядом с виновницей торжества, отправляющейся прямиком в здоровую жизнь, или среди остающейся братии? Выбирай сама.
Лилиан огляделась. Картина была привычная: занавешенные полотенцами лампы, Седая Борода в инвалидном кресле обслуживает граммофон, раструб которого для приглушения звука заткнут тряпьем, стрептомициновая Лили устроилась в уголке прямо на полу, ведь от сильных наркотических лекарств у нее проблемы с равновесием и она – чуть что – падает. Остальные со шкодливо-напускным азартом баловников на состарившихся детских лицах расселись как попало. Долорес Пальмер была сегодня в длинном платье китайского шелка с разрезом внизу. Лицо ее было отмечено печатью трагической красоты, которую сама она не сознавала. Зато ее любовников этот облик завораживал, словно фата-моргана в пустыне. Домогаясь ее, они изощрялись в экстравагантностях, меж тем как сама Долорес мечтала о жизни простой, с незатейливыми радостями мещанской роскоши. Роковые страсти только докучали ей, но, поскольку она их пробуждала, ей то и дело приходилось им противостоять.
Эва Мозер сидела у окна, тоскливо глядя на улицу. Куда только подевалось ее недавнее счастье!
– Она ревет, – вздохнула Мария Савиньи, обращаясь к Лилиан. – Как тебе это понравится?
– С чего вдруг?
– Сама спроси. Ты все равно не поверишь. Считает, что ее дом здесь.
– Да, мой дом здесь, – запричитала Эва Мозер. – Здесь я была счастлива. Здесь у меня друзья. А внизу я никого не знаю.
На секунду все смолкли.
– Но вы можете остаться, – попытался утешить ее Шарль Ней. – Вас никто не гонит.
– Гонит! Родной отец гонит! Говорит, ему не по карману меня здесь держать! Хочет, чтобы я профессию освоила. Какую еще профессию! Я же ничего не умею. А то немногое, что раньше умела, здесь позабыла.
– А здесь все забываешь, – безмятежно изрекла из своего угла стрептомициновая Лили. – Кто здесь пару годков пробыл, тот внизу считай что уже не жилец.
Лили вот уже сколько лет оставалась у Далай-ламы на положении подопытного кролика: тот опробовал на ней новые методы лечения. Сейчас он испытывал на ней стрептомицин. Лекарство она переносила плохо, но даже надумай Далай-лама махнуть на нее рукой и выписать, участь Эвы Мозер нисколько Лили не грозила. Единственная из пациентов санатория, она была родом из здешних краев и запросто нашла бы себе место – все знали, какая замечательная она кухарка.
– На что я гожусь? – продолжала ныть Эва Мозер, все больше впадая в панику. – В секретарши? Да кто меня возьмет? На машинке еле-еле тюкаю. К тому же секретаршу из санатория все бояться будут, вдруг заразная.
– Пойдете секретаршей к чахоточному, – прокаркал Седая Борода от граммофона.
Лилиан смотрела на Эву во все глаза, словно перед ней доисторическое ископаемое, вдруг выползшее из-под земли на поверхность. Ей и раньше случалось видеть выписанных пациентов, которые уверяли, будто предпочли бы остаться, но делали это просто из деликатности, щадя чувства остающихся да и в себе стараясь заглушить неловкость, чуть ли не стыд дезертиров, покидающих медицинское поле брани. Но с Эвой Мозер все иначе, она паникует всерьез, отчаивается без всяких шуток. Ее и правда страшит жизнь внизу.
Долорес Пальмер придвинула к Лилиан рюмку водки.
– Ну и особа! – прошипела она, с отвращением глядя на Эву. – Что за манеры! Что она себе позволяет! Какое непотребство, скажи?
– Я пойду, – заявила Лилиан. – Это выше моих сил.
– Не уходи! – взмолился Шарль Ней. – О ты, прекрасный, мерцающий свет неведомого, побудь еще немного! Эта ночь полна теней и банальностей, и вы с Долорес нужны нам, как путеводные галеоны перед нашими изодранными парусами, лишь бы не разбиться об утесы гибельных пошлостей из уст Эвы Мозер. Спой нам, Лилиан!
– Только этого не хватало. Что спеть? Колыбельную всем так и не рожденным детям?
– У Эвы будут дети! Много детей – ручаюсь! Нет, спой песню об облаке, которое проплывает и не вернется, о снеге, запорошившем сердце. Об изгнанниках, заплутавших в горах. Спой нам! Нам, а не этой кухонной амебе Эве! Это нам, только нам нужно темное вино самоупоения сегодня ночью, поверь мне! Безудержная сентиментальность облегчает душу лучше всяких слез.
– Не иначе, Шарль откопал-таки где-то полбутылки коньяка, – деловито отметила Долорес, на своих длинных, высоких ногах направляясь к граммофону. – Поставь нам лучше какую-нибудь из новых американских пластинок, Ширмер.
– Чудовище, а не женщина! – простонал Шарль Ней, провожая ее глазами. – Прекрасна, как вся поэзия мира, но в голове арифмометр. Я люблю ее, как любишь джунгли, а она отвечает мне, как огород. Что мне делать?
– Упиваться и страданием, и счастьем.
Лилиан встала. В ту же секунду дверь распахнулась, и в проеме возникла Крокодил.
– Так я и знала! Сигареты! Алкоголь в палате! Оргия! И даже вы здесь, мадемуазель Руэш! – прошипела она в сторону стрептомициновой Лили. – На костылях, а туда же! И вы туда же, господин Ширмер! Вы тоже! Вам давно пора лежать в кровати!
– Мне давно пора лежать в могиле, – радостно откликнулся седобородый. – Теоретически я давно уже там! – Он остановил граммофон, вытащил из раструба комок шелкового исподнего и помахал им в воздухе. – И живу считай что взаймы. А для такой жизни и законы другие, чем те, что я соблюдал от рождения.
– Вот как? Это какие же, позвольте спросить?
– А вот какие: бери от жизни что можно, и чем больше, тем лучше. А уж как этого достичь – личное дело каждого.
– Попрошу вас немедленно отправиться в кровать. Кто вас сюда привез?
– Мой собственный разум.
Седая Борода забрался в кресло-каталку. Андре явно не решался его везти. Лилиан выступила вперед.
– Я вас отвезу. – И покатила кресло к двери.
– Значит, это вы! – взъярилась Крокодил. – Так я и думала!
Лилиан вывезла коляску в коридор. Шарль Ней и остальные последовали за ней, хихикая, как застуканные за очередной проказой детишки.
– Минуточку! – возгласил вдруг Ширмер, разворачиваясь вместе с креслом обратно к двери. – Того, что вы упустили на своем веку, – объявил он Крокодилу, – троим вашим больным хватило бы для долгой счастливой жизни. Спите спокойно, уж вашу-то чугунную совесть ничто не потревожит.
Он развернул кресло обратно. Дальше по коридору его покатил уже Шарль Ней.
– К чему столько пафоса, дружище? – рассуждал он. – Эта дрессированная зверюга только исполняет свой долг.
– Да знаю я. Но с каким высокомерием! Ничего, я еще ее переживу. Предшественницу ее пережил, хотя той всего сорок четыре было, а она за какой-нибудь месяц возьми и помри от рака, – а уж эту тварь… Кстати, а сколько вообще лет нашему Крокодилу? За шестьдесят-то уж точно. Если не все семьдесят. Переживу и ее!
– Какая возвышенная цель! – ухмыльнулся Шарль. – И до чего мы все-таки благородные люди!
– О нет, – с мрачным удовлетворением прокаркал Седая Борода. – Мы обречены смерти. Но мы такие не одни. Остальные тоже обречены. Все! Все поголовно! Просто мы сознаем это. А другие нет.
Примерно полчаса спустя в палату Лилиан вдруг заявилась Эва Мозер.
– Моя постель не у вас? – спросила она.
– Ваша постель?
– Ну да. Мою палату уже убрали. И всю одежду куда-то запрятали. Но где-то же мне надо спать? Куда могли подеваться мои вещи?
Это был обычный санаторский розыгрыш: когда кого-то выписывали, в ночь перед отъездом припрятать его вещи. Эва Мозер была в отчаянии.
– У меня же все было выстирано-выглажено. А вдруг перепачкается! Мне теперь там, внизу, каждый грошик считать придется.
– Неужели отец о вас не позаботится?
– Ему бы только избавиться от меня. По-моему, он снова жениться надумал.
Лилиан вдруг поняла, что не в состоянии больше выносить это плаксивое существо ни секунды.
– Идите к лифту, – сказала она. – Спрячьтесь там где-нибудь и дождитесь, пока не приедет Шарль Ней. Он ко мне направится. А вы идите прямиком в его палату, дверь он наверняка не запрет. Оттуда позвоните мне. Скажете, что замочите его смокинг в горячей воде, а все белье забрызгаете чернилами, если вам сию же секунду не вернут вашу постель и ваши вещи. Понятно?
– Да, но…
– Их просто припрятали. Не знаю кто. Но если и Шарль этого не знает, я буду очень удивлена.
Лилиан сняла трубку.
– Шарль? – Жестом она велела Эве отправляться к лифту. – Шарль, ты не мог бы на минуточку ко мне заглянуть? Да? Хорошо.
Не прошло и двух минут, как он постучал.
– Ну, чем там дело кончилось с Крокодилом? – спросила Лилиан.
– Все обошлось. Долорес в таких случаях просто бесподобна. Вот уж артистка! Взяла и сказала все как есть – дескать, нам, остающимся, просто необходимо было залить тоску-печаль. Блестящая идея! По-моему, Крокодил ушла чуть ли не в слезах.
Зазвонил телефон. Голос Эвы Мозер звучал в трубке настолько громко, что Шарль тоже его расслышал.
– Она у тебя в ванной, – сообщила Лилиан. – Уже пустила горячую воду. В левой руке у нее твой новый парадный костюм, в правой твои чернила для авторучки. Ярко-синие. Не вздумай к ней врываться. Как только ты тронешь дверь, она приведет чернильную бомбу в действие. Вот, сам поговори.
Она передала Шарлю трубку, а сама отошла к окну. Внизу, в деревне, сиял огнями Палас-отель. Еще недели две-три, и конец фейерверку. Туристы улетучатся, как перелетные птицы, и сквозь тоскливую пустоту весны, лета, осени потянется долгий, однообразный год – и так до следующей зимы.
За спиной у нее Шарль положил трубку.
– Вот стерва! – проговорил он с сомнением в голосе. – Вряд ли она сама до этого додумалась. Слушай, зачем ты меня позвала?
– Хотела узнать, что Крокодил сказала.
– С каких это пор ты так нетерпелива? – Шарль усмехнулся. – Ну, об этом мы завтра еще поговорим. Побегу спасать парадный костюм. С этой дурехи станется, она его сварит. Спокойной ночи! Прекрасный был вечер!
Он прикрыл за собой дверь. Лилиан прислушалась к торопливому шарканью его шлепанцев по коридору. Его парадный костюм, усмехнулась она про себя. Символ его надежды на выздоровление, на свободу, на соблазны ночной жизни там, внизу, в суете городов, для него это такой же талисман, как для нее оба ее вечерних платья, совершенно не нужные здесь, наверху, а она все равно с ними не расстается, словно от этого жизнь зависит. Она снова подошла к окну, уставилась на огни внизу. Прекрасный вечер! Сколько уже было таких «прекрасных» вечеров, скорбных, убийственно-безнадежных…
Она задернула шторы. Опять этот страх! Пошла доставать припрятанные таблетки снотворного. На секунду ей почудился за окном знакомый рокот мотора. Посмотрела на часы. Да, Клерфэ, он мог бы спасти ее от ужасов долгой ночи. Но ему не позвонишь. Хольман ведь сказал – у него гостья. Кто бы это мог быть? Какая-нибудь бабенка, здоровенькая, – из Парижа, из Милана или из Монте-Карло. Ну и черт с ним, все равно он через пару дней уезжает! Она запила водой таблетку. Пора сдаться, думала она, пора послушаться Бориса: примириться, свыкнуться, научиться с этим жить, прекратить сопротивление, сдаться – но ведь как только я сдамся, мне конец!
Она села за стол, достала лист почтовой бумаги. «Любимый! – вывела она. – Ты, чье лицо я вижу лишь смутно, ты, так и не пришедший, вечно желанный, разве не чувствуешь ты, как утекает наше время?» – тут она остановилась, оттолкнула от себя бювар, в котором скопилось уже много таких же, едва начатых посланий, писем без адресата, и, глядя на белый листок перед собой, подумала: «Какого черта я плачу? Как будто этим что-то изменишь…»
5
Одеяло укрыло старика настолько ровненько, что казалось, тела под одеялом нет вовсе. Голова скорее напоминала череп, обтянутый мятой папиросной бумагой, но тем ярче в глубоких впадинах глаз светились лучистой синевой зрачки. Старик лежал на узкой койка в узкой, как пенал, каморке. У койки, на ночном столике, на квадратиках доски в ожидании очередного хода замерли шахматные фигуры.
Фамилия старика была Рихтер. Из своих восьмидесяти лет он уже целых двадцать прожил в санатории. Поначалу он роскошествовал в двухместной палате на втором этаже; какое-то время спустя переселился на третий – в палату с балконом, потом на четвертый, уже без балкона, а теперь, когда деньги кончились совсем, ютился в этой комнатушке. Но оставался при этом гордостью санатория; стоило кому-то из пациентов впасть в уныние, Далай-лама неизменно ставил его в пример. Рихтер отвечал ему благодарностью на свой манер: оставался умирающим, но не умирал.
Сейчас у его одра сидела Лилиан.
– Вы только взгляните на это! – Старик недовольно указал на доску. – Он же играет как сапожник! После этого выпада конем он в десять ходов получает мат. Я просто не узнаю Ренье. Раньше-то он хорошо играл. В войну вы здесь уже были?
– Нет, – покачала Лилиан головой.
– Он во время войны поступил, в сорок четвертом, кажется. Это было счастье! Прежде-то, милая юная барышня, мне с цюрихским шахматным клубом приходилось играть, по переписке. Это же тягомотина, сил нет!
Единственной страстью Рихтера были шахматы. Во время войны все прежние его санаторские партнеры либо выписались, либо поумирали, а новые все не появлялись. Двое друзей из Германии, с которыми он играл по переписке, погибли на фронте в России, еще один попал в плен под Сталинградом. Несколько месяцев он маялся вообще без соперников, впал в хандру, даже исхудал. Тогда главный врач разыскал для него адрес шахматного клуба в Цюрихе. Однако большинство тамошних шахматистов оказались для Рихтера слишком слабы, а игра с немногими достойными противниками раздражала трудностями связи. Поначалу нетерпеливый Рихтер сообщал ходы по телефону, но это выходило слишком накладно, пришлось довольствоваться перепиской, однако в военное время письма шли долго, дожидаться хода случалось по двое суток. Мало-помалу и эта вялая переписка заглохла, и Рихтеру оставалось только упражняться разбором партий из шахматных учебников.
А потом приехал Ренье. После первой же сыгранной партии Рихтер сиял – наконец-то достойный соперник! Однако Ренье, француз, только что освободившийся из немецкого лагеря для военнопленных, узнав, что Рихтер немец, играть с ним впредь наотрез отказался: обостренные войной национальные предрассудки не обошли и санаторские палаты. Огорченный Рихтер снова начал хиреть, вскоре слег и Ренье, но о примирении не могло быть и речи. Покуда еще одному пациенту, обращенному в христианство негру с Ямайки, не пришло в голову остроумное решение. Он тоже был лежачий. И в один прекрасный день он написал и Ренье, и Рихтеру по письму, в каждом из которых вызывал противника на шахматный матч по телефону. Оба, и Ренье, и Рихтер, страшно обрадовались. Единственное затруднение состояло в том, что сам негр в шахматах почти ничего не смыслил, однако он и тут нашел выход: против Рихтера играть белыми, против Ренье черными. И дело пошло: Ренье у себя в палате сделал первый ход и по телефону сообщил его негру. Тот просто передал его Рихтеру и дождался ответного, который, своим чередом, по телефону переправил Ренье. И так далее. У самого негра даже шахматной доски не было, ведь его единственной задачей было лишь обеспечить связь между Рихтером и Ренье, которые теперь играли друг с другом, сами о том не догадываясь. Главная хитрость состояла в том, чтобы с одним играть белыми, а с другим черными – в противном случае ему пришлось бы ходить самому.
Вскоре после войны, однако, негр умер. Ренье и Рихтер к этому времени обеднели, и обоим пришлось переселиться в палаты поскромнее – один лежал на четвертом этаже, другой на третьем. Роль негра перешла к Крокодилу, ходы противникам сообщали палатные сестры, и оба по-прежнему свято верили, будто играют с негром, – им объяснили, что у того развился туберкулез гортани и он потерял голос. Все шло прекрасно, покуда Ренье вдруг не стало лучше и ему не разрешили вставать. Он, конечно же, первым делом отправился проведать негра, тут все и раскрылось.
Впрочем, национальные чувства тем временем успели поостыть. Узнав, что родные Рихтера в Германии погибли от воздушного налета, Ренье заключил с немцем мир, и с тех пор оба с тем бо´льшим упоением сражались друг с другом на шахматной доске. Вскоре, однако, Ренье снова слег, и, поскольку оба лежали теперь в палатах без телефона, ходы опять передавались через посыльных, миссию которых брали на себя добровольцы из числа ходячих пациентов. Но три недели назад Ренье умер. Рихтер в те дни был настолько плох, что и его конца ждали с часу на час, и никто не решился сообщить ему о смерти закадычного соперника. Вот Крокодил и рискнула выйти на замену, благо за это время сама выучилась играть, – впрочем, тягаться с Рихтером ей, конечно же, было не по зубам. В итоге Рихтер, все еще мнивший, будто играет с Ренье, только диву давался: за столь короткий срок болезнь превратила хорошего шахматиста в форменного осла!
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
1
Полетт Годдар (1910–1990), известная американская киноактриса, исполнительница главных женских ролей в фильмах Чарли Чаплина «Новые времена» и «Великий диктатор». С 1936 по 1942 год была женой Чаплина, с 1958-го – жена Ремарка. (Здесь и далее прим. пер.)
2
В журналистском обиходе стран Запада, особенно в политической карикатуре, имя Иосифа Сталина часто фигурировало в итальянско-мафиозном варианте: Джузеппе.
3
Спокойной ночи (англ.).
4
Дэзи, дорогая, пойдем! (англ.)
5
В оригинале автор употребляет русское слово «душа».
6
«Здравствуй, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя» (лат.) – слова, которыми идущие на бой гладиаторы приветствовали императора.