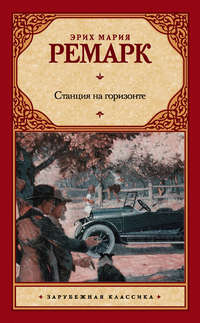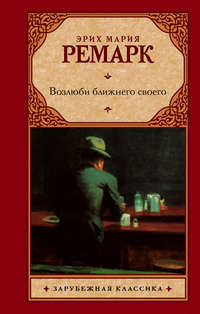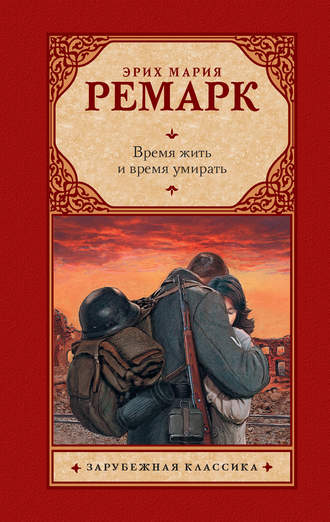
Полная версия
Время жить и время умирать
Гребер рассеянно кивнул, огляделся по сторонам. Деревня уже исчезла из виду. Скрылась за сугробом. Ничего кругом – только небо да равнина, по которой они ехали на запад. Полдень. Солнце смутно просвечивало сквозь серую мглу. Снег тускло поблескивал. И вдруг что-то в нем прорвалось, горячо и стремительно, и он впервые почуял, что избежал смерти, уезжал от нее прочь, прочь, прочь, вот с этим чувством он неотрывно смотрел на разъезженный снег, исчезающий под колесами, метр за метром, и метр за метром ведущий навстречу безопасности, на запад, на родину, навстречу непостижимой жизни за спасительным горизонтом.
Водитель, переключая скорость, толкнул его локтем. Гребер вздрогнул. Пошарил в карманах, выудил пачку сигарет:
– Держи…
– Мерси, – ответил водитель, не глядя. – Я не курю. Только жую.
5
Поезд узкоколейки остановился. Солнце озаряло замаскированный вокзальчик. Дома вокруг лежали в развалинах; вместо них соорудили несколько бараков, крыши и стены которых были выкрашены в камуфлирующие цвета. На путях стояли железнодорожные вагоны. Пленные русские перегружали их содержимое. Узкоколейка соединялась здесь с более крупной линией.
Раненых отвели в один из бараков. Те, что могли ходить, расселись по грубо сколоченным скамейкам. Подошли еще несколько отпускников. Они старались привлекать к себе как можно меньше внимания. Опасались, что их увидят и отошлют обратно.
Утомительный день. Блеклый свет играл сам с собой на снегу. Издали доносился рокот самолетных моторов. Не сверху, просто где-то неподалеку, наверно, спрятан аэродром. Позднее над вокзалом пролетела эскадрилья, стала набирать высоту, пока не превратилась в стайку жаворонков. Гребер задремал. Жаворонки, думал он. Мир.
Разбудили их двое полевых жандармов:
– Документы!
Жандармы были здоровые, крепкие парни, и держались они с решительностью людей, которым не грозит опасность. Безупречные мундиры, вычищенное оружие, да и весил каждый минимум фунтов на двадцать больше, чем любой из отпускников.
Солдаты молча предъявили отпускные билеты. Жандармы досконально их изучили, потом вернули обладателям. Велели предъявить и солдатские книжки.
– Питание в третьем бараке! – наконец сказал старший. – И приведите себя в порядок. Что у вас за вид! Хотите заявиться на родину как свиньи?
Отпускники отправились к третьему бараку.
– Ищейки чертовы! – буркнул один, с лицом, заросшим черной щетиной. – Горазды куражиться, вдали-то от фронта! Мы для них ровно преступники.
– Под Сталинградом они десятками расстреливали как дезертиров тех, кто потерял свой полк, – сказал другой.
– Ты был под Сталинградом?
– Если б я был под Сталинградом, то сейчас не сидел бы здесь. Из котла никто не вышел.
– Слышь, – сказал немолодой унтер-офицер, – на фронте можешь говорить что угодно. Но здесь дело другое. Лучше держи рот на замке, коли смекаешь, как для тебя полезнее, ясно?
Они стали в очередь, каждый со своим котелком. Ждать пришлось час с лишним. Ни один не сходил с места. Мерзли, но ждали. По привычке. Наконец им выдали по черпаку супа, в котором плавало немножко мяса с овощами и картошкой.
Тот, что не был в Сталинграде, осторожно огляделся по сторонам:
– Не поверю, что жандармы жрут то же самое.
– Мне бы твои заботы! – презрительно бросил унтер-офицер.
Гребер хлебал суп. По крайней мере, горячий, думал он. Дома еда будет другая. Мама приготовит. Может, даже сардельки с луком и картошкой и малиновый пудинг с ванильным соусом на сладкое.
Ждать пришлось до ночи. Жандармы дважды проверяли у них документы. Прибывали новые и новые раненые. С каждой новой партией отпускники все больше нервничали. Боялись, что их оставят здесь. Наконец, уже после полуночи, собрали эшелон. Похолодало, на небе высыпали крупные звезды. Все их ненавидели, ведь они означали хорошую видимость для авиации. Природа и погодные условия как таковые давно не имели значения, считались хорошими или плохими лишь с точки зрения войны. Как защита или как опасность.
Начали грузить раненых. Троих сразу же снова вынесли. Скончались они. Носилки так и оставили на платформе. Те, что с покойниками, без одеял. Света нигде не было.
Затем настал черед ходячих раненых. Их тщательно проверяли. Нас не возьмут, думал Гребер. Слишком их много. Эшелон полон. Он тупо смотрел в ночь. Сердце стучало. Над головой незримо урчали самолеты. Он знал, что это свои, немецкие, но все равно боялся. Боялся куда больше, чем на фронте.
Наконец объявили:
– Отпускники!
Они устремились к эшелону. Там опять стояли жандармы. Днем, при последней проверке, каждый получил бирку, которую теперь надлежало сдать. Они поднялись в вагон. Там уже сидело несколько раненых. Отпускники толкались, распихивали друг друга. Кто-то во всю глотку командовал. Снова пришлось выходить и строиться. Затем их отвели к следующему вагону, где тоже были раненые. Разрешили войти. Гребер нашел место в середине. Не хотел сидеть возле окна. Знал, что́ могут натворить осколки.
Эшелон не трогался. В купе темно. Все ждали. Снаружи стало тихо, но эшелон по-прежнему стоял. За окном двое жандармов уводили под конвоем какого-то солдата. Мимо прошел отряд русских, они тащили ящики с боеприпасами. Потом появились несколько эсэсовцев, которые громко разговаривали между собой. Эшелон все стоял. Первыми начали ругаться раненые. Имели право. С ними пока что ничего уже случиться не могло.
Гребер откинул голову назад. Попробовал уснуть, чтобы проснуться, когда эшелон тронется, но не мог. Прислушивался к каждому звуку. Видел в потемках глаза остальных. Они поблескивали в тусклом отсвете снега и звезд. Лиц не разглядишь, слишком темно. Только глаза. Вагон был полон темноты и беспокойных глаз, а кое-где мертвенно белели бинты.
Состав дернулся и тотчас опять замер. Послышались возгласы. Немного погодя захлопали двери. Двое носилок вынесли на платформу. Еще два покойника. Еще два места для живых, подумал Гребер. Лишь бы в последнюю минуту не привезли новых, а нас не высадили! Все думали об одном и том же.
Состав опять дернулся. Платформа медленно заскользила мимо. Жандармы, пленные, эсэсовцы, штабеля ящиков – а затем вдруг равнина. Все потянулись к окну. Еще не верили. Небось опять станет. Но эшелон продолжал движение, и мало-помалу резкий перестук обрел ровный ритм. Снаружи мелькали танки и орудия. Солдаты, провожающие взглядом вагоны. Гребер вдруг ощутил огромную усталость. Домой, думал он. Домой. О господи, я даже радоваться не смею.
Утром пошел снег. На одной из станций эшелон остановился, подвезли кофе. Станция располагалась на окраине маленького городка, от которого мало что уцелело. Выгрузили умерших. Эшелон переформировали. Гребер с суррогатным кофе бегом поспешил к своему купе. Сходить за хлебом не рискнул.
По эшелону шел патруль, вылавливая легкораненых, которым надлежало остаться в здешнем госпитале. Новость быстро облетела весь вагон. Люди с плечевыми ранениями кинулись прятаться в уборные. Дрались за место. В ярости и отчаянии вышвыривали друг друга, не давая захлопнуть дверь.
– Идут! – крикнул кто-то с улицы.
Комок распался. Двое втиснулись в уборную, захлопнули дверь. Третий – он упал в потасовке – смотрел на свою руку, помещенную в лубки. По бинтам расползалось красное пятно. Четвертый открыл дверь, выходившую в противоположную от платформы сторону, с трудом выбрался наружу, в снежную круговерть, и прижался к вагону. Остальные так и сидели на своих местах.
– Дверь закройте, – сказал кто-то. – Не то они сразу смекнут, что к чему.
Гребер закрыл дверь. На секунду внизу, в вихре снега, мелькнуло белое лицо скорченного раненого.
– Я хочу домой, – сказал раненый с промокшей повязкой. – Дважды попадал в полевой госпиталь, пропади он пропадом, и каждый раз сразу обратно на фронт, без отпуска на выздоровление. Я хочу на родину.
Он с ненавистью обвел взглядом здоровых отпускников. Никто ему не ответил. Патруль подошел нескоро. Двое обходили купе, еще несколько охраняли снаружи выявленных легкораненых. Одним из патрульных был молодой фельдшер. Он бегло просматривал документы раненых и, глядя уже на следующий документ, равнодушно бросал:
– Выходите.
Один не встал. Маленький, невзрачный мужчина.
– На выход, дедуля, – сказал патрульный жандарм. – Разве не слышали?
Тот не шевелился. У него было забинтовано плечо.
– Живо! На выход! – повторил жандарм.
Раненый не шевелился. Крепко сжал губы и смотрел в пространство перед собой, будто ничего не понимает. Жандарм стоял перед ним, широко расставив ноги.
– Что, особого приглашения ждешь? Встать!
Раненый по-прежнему будто и не слышал.
– Встать! – прогремел жандарм. – Не видите, что к вам обращается старший по званию? В трибунал захотели?
– Спокойствие, – сказал фельдшер. – Только спокойствие.
Лицо у него было розовое, без ресниц.
– У вас кровотечение, – обратился он к солдату, который подрался возле уборной. – Нужна перевязка. Выходите.
– Я… – начал тот. Но увидел, что подошел второй жандарм, который вместе с первым подхватил невзрачного солдата под здоровую руку и поставил на ноги. Солдат тонко закричал, с неподвижным лицом. Второй жандарм обхватил его за талию и, точно легкий сверток, выдвинул из купе. Проделал он все это деловито, без грубости. Солдат больше не кричал. Исчез в толпе на платформе.
– Ну? – спросил фельдшер.
– А после перевязки я поеду дальше, господин военврач? – спросил человек с окровавленной повязкой.
– Посмотрим. Возможно. Сначала вас надо перевязать.
Солдат вышел, очень расстроенный. Он назвал фельдшера военврачом, но и это не подействовало. Жандарм подергал дверь уборной.
– Конечно, – презрительно сказал он. – Больше им ничего в голову не приходит. Вечно одно и то же. – И скомандовал: – Открывайте! Живо!
Дверь открылась. Один из солдат вышел.
– Всех перехитрили, да? – рявкнул жандарм. – Зачем запираетесь? В прятки играете?
– Понос у меня. Думаю, уборная как раз для этого.
– Вот как? Именно сейчас? И я должен поверить?
Солдат слегка распахнул шинель. Все увидели Железный крест первого класса. А он посмотрел на пустую грудь жандарма и спокойно произнес:
– Да, должны.
Жандарм побагровел. Но фельдшер опередил его, сказал, не глядя на солдата:
– Будьте добры, выходите.
– Вы не проверили, что со мной.
– Я вижу по повязке. Выходите, пожалуйста.
Солдат бегло усмехнулся:
– Ладно.
– В таком случае здесь мы закончили, так? – нервно спросил фельдшер у жандарма.
– Так точно. – Жандарм взглянул на отпускников. Каждый из них держал в руке свои документы. – Так точно, закончили. – Следом за фельдшером он вышел из вагона.
Дверь уборной беззвучно открылась. Ефрейтор, который тоже сидел там, протиснулся в купе. Лицо у него было мокрое от пота. Он сел на лавку и немного погодя шепотом спросил:
– Ушел?
– Вроде да.
Ефрейтор долго молчал. Только обливался потом.
– Я буду за него молиться, – наконец сказал он.
Все так и уставились на него.
– Что? – недоверчиво спросил кто-то. – Еще и молиться будешь за эту жандармскую сволочь?
– Нет, не за этого гада. За того парня, что был со мной в уборной. Он посоветовал мне остаться; дескать, сам все уладит. Где он?
– На улице. Уладил, ничего не скажешь. Так обозлил жирную сволочь, что тот дальше проверять не стал.
– Я буду за него молиться.
– Да пожалуйста, молись, сколько хочешь.
– Непременно. Моя фамилия Лютьенс. Я непременно буду за него молиться.
– Ну и хорошо. А теперь заткнись. Завтра помолишься. Или подожди хотя бы, чтоб эшелон тронулся, – сказал кто-то.
– Буду молиться. Мне надо домой. Если попаду в здешний госпиталь, отпуск на родину не получу. А мне позарез надо в Германию. У жены рак. Ей всего-навсего тридцать шесть лет. Тридцать шесть сравнялось в октябре. Уже четыре месяца не встает с постели.
Затравленным взглядом он обвел купе. Никто слова не сказал. Слишком уж будничная история.
Через час эшелон продолжил путь. Солдат, который вылез за дверь, не вернулся. Вероятно, сцапали его, подумал Гребер.
В полдень зашел унтер-офицер:
– Кого побрить?
– Что?
– Побрить. Я парикмахер. Мыло у меня превосходное. Еще из Франции.
– Побрить? На ходу?
– Конечно. Только что брил в офицерском вагоне.
– А сколько стоит?
– Пятьдесят пфеннигов. Полрейхсмарки. Дешево, если учесть, что сперва придется обстричь вам бороды.
– Ладно. – Один достал деньги. – Но если порежешь, не получишь ни гроша.
Парикмахер поставил мыльницу, достал из кармана ножницы и гребень. С собой он прихватил и большой бумажный пакет, куда бросал волосы. Потом принялся намыливать. Работал у окна. Пена была такая белая, будто и не мыло вовсе, а снег. Действовал он ловко, сноровисто. Побриться вызвались трое. Раненые отказались. Гребер сел четвертым. Посмотрел на троих, уже выбритых. Выглядели они странно. Щеки и лоб от непогоды красные, в пятнах, подбородки же сияли белизной. Лица наполовину как у солдат, наполовину как у записных домоседов. Гребер слышал, как скребет лезвие. От бритья он повеселел. Оно уже было частицей родины, особенно потому, что занимался бритьем старший по званию. А ты сам вроде как уже был в штатском. Под вечер – новая остановка. На вокзале стояла полевая кухня. Все пошли за харчами. Только Лютьенс не двинулся с места. Гребер видел, как он торопливо шевелил губами. И здоровую руку держал так, будто сплетал ее с незримой второй рукой. Левая, забинтованная, лежала за пазухой. Им раздали капустный суп. Чуть теплый.
До границы добрались вечером. Всех высадили из вагонов. Отпускников строем повели на дезинсекцию. Они сдали одежду и нагишом сидели в бараке, чтобы вши на теле передохли. В помещении было тепло, вода горячая, выдали и мыло, сильно пахнувшее карболкой. Впервые за много месяцев Гребер очутился в действительно теплой комнате. На фронте, правда, печки у них иногда были, но тогда грелся всегда только тот бок, что ближе к огню, другой мерз. Здесь же теплой была вся комната. Кости наконец-то могли оттаять. Кости и череп. Череп мерз намного дольше.
Они сидели, искали и давили вшей. Головных вшей у Гребера не было. Лобковые и платяные вши на голове не живут, это давний закон. Вши уважали свои территории, между собой не воевали.
В тепле его клонило в сон. Он видел бледные тела товарищей, пятна обморожений на ступнях, красные борозды шрамов. Они вдруг перестали быть солдатами. Их обмундирование где-то прожаривали паром, а они были просто голыми людьми, которые ловили вшей, и разговоры их вдруг изменились. О войне никто уже не заикался. Все рассуждали о харчах и о женщинах.
– У нее родился ребенок, – сказал один, по имени Бернхард. Он сидел рядом с Гребером, и в бровях у него ползали вши, а он, глядя в зеркальце, их ловил. – Я два года дома не был, а ребенку четыре месяца. Она говорит, ему четырнадцать месяцев, и он от меня. Но мать мне написала, что он от русского. Да и писать об этом она начала только десять месяцев назад. До тех пор ни слова. Как ваше мнение?
– Бывает, – равнодушно сказал лысый мужик. – В деревнях много детишек от пленных.
– Вот как? Но мне-то что делать?
– Я бы такую бабу выгнал, – сказал кто-то, меняя бинты на ногах. – Это ведь свинство.
– Свинство? Почему же свинство? – возмутился лысый. – В войну дело обстоит иначе. Понимать надо. А ребенок кто? Мальчик или девочка?
– Мальчик. Она пишет, на меня похож.
– Если мальчик, то можно его оставить. Пригодится. В деревне всегда нужны помощники.
– Так ведь он наполовину русский…
– Ну и что? Русские – арийцы. А стране нужны солдаты.
Бернхард отложил зеркальце.
– Не так-то все просто. Тебе легко говорить. С тобой такого не случалось.
– Может, ты бы предпочел, чтобы ребенка твоей жене заделал какой-нибудь жирный боров из тех, что по брони дома отсиживаются?
– Ну уж нет.
– Вот видишь.
– Могла бы меня дождаться, – тихо и смущенно сказал Бернхард.
Лысый пожал плечами.
– Одни дожидаются, другие нет. Чего уж тут качать права, раз годами дома не появляешься!
– Ты сам-то женат?
– Нет. Слава богу, нет.
– Русские не арийцы, – вдруг сказал похожий на мышь человек, остролицый, с маленьким ртом. До сих пор он молчал.
Все воззрились на него.
– Тут ты ошибаешься, – отозвался лысый. – Арийцы они. Мы же с ними были союзниками.
– Недочеловеки они, большевистские недочеловеки. Никакие не арийцы. Так про них пишут.
– Ошибаешься. Поляки, чехи и французы – недочеловеки. Русских мы освобождаем от коммунистов. Они арийцы. За исключением коммунистов, понятно. Может, и не из лучших, не из господ, как мы. Обычные арийцы-работяги. Но истреблению не подлежат.
Мышь уперся:
– Они всегда были недочеловеками. Я точно знаю. Самые что ни на есть недочеловеки.
– Все давно изменилось. Как с японцами. Нынче и они тоже арийцы, с тех пор как стали нашими союзниками в войне. Желтые арийцы.
– Оба вы неправы, – пробасил невероятно волосатый мужчина. – Русские не были недочеловеками, пока мы с ними были союзниками. Зато теперь недочеловеки. Вот как обстоит дело.
– Так что ж ему делать с ребенком-то?
– Сдать куда надо, – снова веско сказал Мышь. – Легкая милосердная смерть. Что еще?
– А жена?
– Это дело властей. Заклеймить позором, обрить наголо, концлагерь, тюрьма или виселица.
– Ее пока что не трогали, – сказал Бернхард.
– Вероятно, они пока не в курсе.
– В курсе. Моя мать сообщила.
– Тогда, значит, власти продажные и халатные. Им тоже место в концлагере. Или на виселице.
– Слышь, отстань ты от меня, – неожиданно со злостью сказал Бернхард и отвернулся.
– Вообще-то француз, пожалуй, был бы лучше, – заметил лысый. – Согласно последним исследованиям, они только наполовину недочеловеки.
– Середнячки-вырожденцы. – Бас взглянул на Гребера. Тот обнаружил на его крупной физиономии легкую усмешку.
Кривоногий парень с куриной грудью, беспокойно сновавший по комнате, остановился.
– Мы – раса господ, – сказал он. – А все прочие – недочеловеки, это ясно… но, собственно, кого тогда считать простыми людьми?
Лысый задумался, потом сказал:
– Шведов. Или швейцарцев.
– Дикарей, – объявил бас. – Конечно же, дикарей.
– Так ведь белых дикарей давно уже не существует, – сказал Мышь.
– Да ну? – Бас пристально посмотрел на него.
Гребер задремал. Он слышал, как остальные снова принялись рассуждать о женщинах. Сам он мало в этом разбирался. Отечественные расовые теории не вязались с его представлениями о любви. Он отказывался думать о племенном отборе, о родословной и плодовитости. А солдатом разве что свел знакомство с несколькими шлюхами в тех странах, где воевал. Они выказывали такую же практичность, как члены Союза немецких девушек, но, по крайней мере, это была их профессия.
Они получили назад свои вещи, оделись. И вдруг опять стали рядовыми, ефрейторами, фельдфебелями и унтер-офицерами. Тот, что с русским ребенком, оказался унтер-офицером. Бас тоже. Мышь – обозным солдатом. Он совершенно сник, увидев, что другие – унтер-офицеры. Гребер осмотрел свое обмундирование. Оно было еще теплое и пахло кислотами. Под пряжками подтяжек обнаружилась колония беглых вшей. Все дохлые. Отравлены газом. Он сковырнул их ногтем. Потом всех отвели в барак. Политофицер произнес речь. Стоя на трибуне, позади которой висел портрет фюрера, он разъяснил, что теперь, когда едут на родину, они берут на себя огромную ответственность. О фронтовом времени нельзя говорить ни слова. Ни слова о позициях, населенных пунктах, армейских частях, передвижениях войск и местах дислокации. Повсюду подстерегают шпионы. Поэтому главное – молчать. Болтуна ждет суровое наказание. Ненадлежащая критика тоже приравнивается к измене родине. Войну ведет фюрер, он знает, что делает. Положение блестящее, русские совершенно истощены, они понесли катастрофические потери, а мы готовим контрнаступление. Продовольственное снабжение первоклассное, дух в войсках отличный. Еще раз: указывать названия каких-либо населенных пунктов – измена родине. Нытье тоже.
Офицер сделал паузу. После чего, уже другим тоном, сказал, что фюрер, несмотря на колоссальную занятость, заботится обо всех своих солдатах. Он распорядился, чтобы каждый отпускник привез на родину подарок. С этой целью ему выдадут продуктовый пакет, который дома следует вручить родственникам в доказательство, что на фронте все как нельзя лучше и солдаты даже могут привезти подарки. Тот, кто вскроет пакет по дороге и съест сам, понесет наказание. Проверка в пункте назначения все покажет. Хайль Гитлер!
Они стояли навытяжку. Гребер ожидал «Германии превыше всего» и «Хорста Весселя»; Третий рейх – большой мастер по части песен. Но ничего такого не произошло. Раздался приказ:
– Отпускники в Рейнскую область, три шага вперед!
Несколько человек вышли из строя.
– Отпуска в Рейнскую область запрещены, – объявил офицер. И обратился к ближайшему: – Куда хотите поехать вместо этого?
– В Кёльн.
– Я же только что сказал, Рейнская область под запретом. Куда хотите поехать взамен?
– В Кёльн, – недоуменно повторил тот. – Я из Кёльна.
– В Кёльн ехать нельзя, неужели непонятно? В какой другой город вы хотите поехать?
– Ни в какой. В Кёльне у меня жена и дети. Я работал там слесарем. Отпускной билет выписан в Кёльн.
– Вижу. Но туда вы поехать не можете. Поймите наконец! В настоящее время Кёльн для отпускников под запретом.
– Под запретом? – спросил бывший слесарь. – Почему?
– Вы с ума сошли? Кто тут задает вопросы? Вы или власти?
Подошел какой-то капитан, что-то шепнул офицеру. Тот кивнул. Потом скомандовал:
– Отпускники в Гамбург и в Эльзас, шаг вперед!
Никто не вышел.
– Рейнцам остаться здесь! Остальные, не в ногу, налево кругом! Шагом марш за пакетами!
Они снова стояли на платформе. Немного погодя подошли рейнцы.
– Что стряслось-то? – спросил бас.
– Ты же слыхал.
– В Кёльн тебе нельзя? Куда теперь поедешь?
– В Ротенбург. Сестра у меня там. Но что мне делать в Ротенбурге? Я живу в Кёльне. Что случилось в Кёльне? Почему мне нельзя в Кёльн?
– Осторожно! – сказал кто-то, глядя на двух эсэсовцев, которые, скрипя сапогами, протопали мимо.
– Плевал я на них! На кой мне в Ротенбург? Где моя семья? Они были в Кёльне. Что там стряслось?
– Может, твоя семья тоже в Ротенбурге.
– Нету ее там. Там нету места. И жена с моей сестрой друг дружку терпеть не могут. Что же стряслось в Кёльне? – Слесарь смотрел на остальных. В глазах у него стояли слезы. Толстые губы дрожали. – Почему вам можно домой, а мне нет? Столько времени прошло! Что случилось? Что с моей женой и детьми? Старшего Георгом звали. Одиннадцать лет. Что же там такое?
– Послушай, – сказал бас. – Ты ничего сделать не можешь. Отбей жене телеграмму. Пусть едет в Ротенбург. Иначе ты вообще ее не увидишь.
– А поездка? Кто ее оплатит? И где ей жить?
– Если тебе нельзя в Кёльн, то и жену твою оттуда не выпустят, – сказал Мышь. – Наверняка. Таковы предписания.
Слесарь открыл рот, но ничего не сказал. Лишь немного погодя обронил:
– Почему не выпустят?
– А ты сам прикинь.
Слесарь обвел взглядом всех вокруг.
– Быть не может, чтобы все было разрушено! Немыслимо это!
– Скажи спасибо, что тебя обратно на фронт не отсылают, – вставил бас. – А ведь могли бы.
Гребер молча слушал. Чувствовал, что его знобит и что озноб идет не снаружи. Неуловимое, призрачное вернулось, оно давно уже витало вокруг, и толком не поддавалось разумению, ускользало, и возвращалось, и смотрело на тебя, и имело сотни размытых лиц, и было безлико. Он посмотрел на рельсы. Они вели на родину, в прочное, теплое, ожидающее, мирное, единственное, что еще осталось. А теперь вот оказывается, то самое, с фронта, кралось следом, зловеще дышало рядом, и прогнать его невозможно.
– Отпуск, – с горечью сказал слесарь из Кёльна. – Это называется отпуск? Что дальше?
Остальные смотрели на него и уже не отвечали. Казалось, на нем вдруг зримо проступила доселе спрятанная хворь. Он ни в чем не виноват, но словно отмечен странной печатью, и все незаметно отодвинулись от него. Радовались, что эта чаша их миновала, но и сами пока не были в безопасности – потому и отодвинулись. Несчастье заразительно.
Эшелон медленно вкатился под дебаркадер. Черная его громада поглотила остатки света.
6
Утром ландшафт выглядел иначе. Отчетливо проступал из мягкой рассветной дымки. Теперь Гребер сидел у окна, прижавшись лицом к стеклу. Он видел поля, еще в пятнах снега, но уже заметны и оставленные плугом ровные черные борозды, и юные нежно-зеленые всходы. Ни воронок от снарядов. Ни разрушений. Плоская, гладкая равнина. Ни окопов. Ни блиндажей. Сельский край.