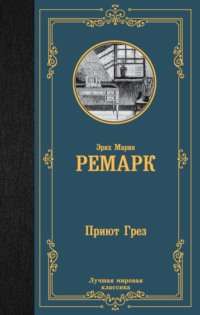Полная версия
На Западном фронте без перемен

Эрих Мария Ремарк
На Западном фронте без перемен
Эта книга не обвинение и не исповедь. Просто попытка рассказать о поколении, загубленном войной, хотя оно и избежало ее снарядов.
© The Estate of the Late Paulette Remarque, 1929
© Перевод. Н. Федорова, 2014
© Издание на русском языке AST Publishers, 2018
* * *I
Мы стоим в девяти километрах от фронта. Вчера нас сменили, и теперь, набив желудок белыми бобами с говядиной, все сыты и довольны. Каждый сумел даже запастись на вечер полным котелком и вдобавок получить двойной паек колбасы и хлеба, а это уже кое-что. Давненько такого не бывало: красномордый кашевар предлагает жратву; каждого, кто проходит мимо, подзывает взмахом черпака и накладывает щедрую порцию. Он в полном отчаянии, потому что знать не знает, как бы опорожнить походную кухню. Тьяден и Мюллер раздобыли несколько умывальных тазиков, и он наполнил их вровень с краями, про запас. Тьяден поступает так от ненасытности, Мюллер – из осторожности. Куда у Тьядена все это девается, для всех загадка. Он был и остается тощим как селедка.
Но самое главное – двойной паек курева. По десять сигар, два десятка сигарет и две пачки жевательного табаку на каждого, очень даже прилично. Свой жевательный табак я выменял у Качинского на сигареты, стало быть, теперь у меня их четыре десятка. Пока что хватит.
Вообще-то подобная роскошь нашему брату не положена. У армии не настолько широкая натура. Нам повезло по ошибке.
Две недели назад мы выдвинулись на передовую, пришел наш черед. На нашем участке было довольно спокойно, и ко дню нашего возвращения каптенармус получил обычное количество продовольствия, в расчете на роту численностью полторы сотни человек. Однако в самый последний день мы угодили под неожиданно мощный обстрел длинноствольных и крупнокалиберных орудий, английская артиллерия беспрерывно лупила по нашим позициям, так что в итоге потери оказались очень велики и вернулось нас всего восемьдесят человек.
В расположение мы прибыли ночью и сразу повалились на койки, чтобы первым делом как следует выспаться; ведь Качинский прав: все бы ничего, и войну стерпеть можно, кабы только побольше спать. На передовой не поспишь, а четырнадцать дней всякий раз долгий срок.
Уже настал полдень, когда первые из нас выползли из бараков. Через полчаса, подхватив котелки, все собрались у походной кухни, от которой шел густой сытный запах. Впереди, конечно, самые голодные: малыш Альберт Кропп, самый ясный ум среди нас и оттого только ефрейтор; Мюллер-пятый, который таскает с собой школьные учебники, мечтает о досрочных экзаменах и под ураганным огнем зубрит физические законы; Леер, который отпустил окладистую бороду и обожает девиц из офицерских борделей, он клянется, что армейским приказом их обязали носить шелковые сорочки и мыться перед приемом гостей от капитана и выше; четвертый – я, Пауль Боймер. Всем четверым по девятнадцать лет, все четверо пошли на войну из одного класса.
Прямо за нами наши друзья. Тьяден, тощий слесарь, наш ровесник, величайший обжора во всей роте. Садится есть стройный, а встает пузатый, как беременный клоп; Хайе Вестхус, того же возраста, рабочий-торфяник, который спокойно может взять в руку буханку хлеба и спросить: Отгадайте-ка, что у меня в кулаке! Детеринг, крестьянин, думающий лишь о своем хозяйстве да о жене, и, наконец, Станислаус Качинский, старший в нашем отделении, упорный, хитрый, пройдошливый, сорока лет от роду, с землистым лицом, голубыми глазами, сутулыми плечами и поразительным чутьем к опасности, хорошей жратве и теплым местечкам.
Наше отделение возглавляло очередь к походной кухне. И мы начали терять терпение, ведь ничего не подозревающий кашевар по-прежнему выжидал. В конце концов Качинский крикнул ему:
– Открывай харчевню, Генрих! Бобы-то давно готовы.
Тот лениво покачал головой:
– Сперва здесь должны быть все до единого.
– Мы все здесь, – ухмыльнулся Тьяден.
Унтер-офицер еще не понял:
– Как бы не так! Где остальные?
– Этих нынче кормишь не ты! Полевой лазарет и братская могила.
Кашевара это известие подкосило. Он аж пошатнулся.
– А я-то на сто пятьдесят человек наготовил.
Кропп ткнул его под ребра.
– В таком разе мы наконец наедимся досыта. Давай приступай!
Внезапно Тьядена осенило. Острое мышиное лицо форменным образом засияло, глаза хитро сузились, щеки задергались, он шагнул ближе:
– Слышь, приятель, значит, ты и хлеба получил тоже на сто пятьдесят человек, да?
Унтер кивнул, уныло, с отсутствующим видом. Тьяден сгреб его за грудки:
– И колбасы тоже?
Красномордый опять кивнул.
Челюсти у Тьядена заходили ходуном:
– И табаку?
– Да. Все на полный состав.
Тьяден с сияющим видом огляделся по сторонам:
– Черт подери, вот повезло так повезло! Ведь это же все теперь нам! Каждый получит… погодите… действительно, двойной паек!
Однако ж красномордый очухался и объявил:
– Так не пойдет.
Но тут и мы все оживились, подступили ближе.
– Почему не пойдет, порей несчастный? – спросил Качинский.
– То, что рассчитано на сто пятьдесят человек, на восемьдесят не пойдет.
– Ну, это мы тебе продемонстрируем! – рявкнул Мюллер.
– Еду я раздам, только ровно восемьдесят порций, как положено, – уперся кашевар.
Качинский разозлился:
– Пожалуй, пора бы тебя заменить, а? Продовольствие ты получил не на восемьдесят человек, а на вторую роту, и точка. И раздашь его! Вторая рота – это мы.
Мы приперли кашевара к стенке. Все его недолюбливали, по его вине питание несколько раз доставляли нам в окопы с большим опозданием, совсем холодное, потому что при малейшем обстреле он со своей кухней боялся подъехать поближе и наши подносчики поневоле проделывали куда более долгий путь, чем подносчики из других рот. Бульке из первой роты намного лучше. Хоть и толстый, как хомяк зимой, он в случае чего сам тащил фляги до переднего края.
Мы здорово распалились, и не миновать бы потасовки, если бы не подошел наш ротный. Он поинтересовался, о чем свара, и сперва только сказал:
– Н-да, потери вчера были большие… – Потом заглянул в котел. – Недурственные бобы как будто.
Красномордый кивнул:
– С салом и мясом.
Лейтенант посмотрел на нас. Знал, о чем мы думаем. Он вообще много чего знал, ведь возмужал среди нас, а пришел в роту унтер-офицером. Он еще раз приподнял крышку котла, понюхал и, уходя, сказал:
– Принесите и мне тарелочку. И раздать всё. Нам не повредит.
Красномордый стоял как дурак. Тьяден приплясывал вокруг него.
– Нечего жмотничать! Можно подумать, он тут главный интендант. Приступай, жирнюга, да смотри не обсчитайся…
– Чтоб ты подавился! – прошипел кашевар. Он растерял свой гонор, подобное не укладывалось у него в голове, весь мир перевернулся. И словно желая показать, что теперь ему все без разницы, добровольно выдал нам еще и по полфунта искусственного меда.
День нынче вправду хороший. Даже почта пришла, почти у каждого несколько писем и газеты. Мы не спеша идем на лужайку за бараками. Кропп тащит под мышкой круглую крышку от бочонка с маргарином.
Справа на краю лужайки сооружен большой нужник, солидная крытая постройка. Но она для новобранцев, которые еще не научились извлекать удовольствие из чего угодно. Мы выискиваем кое-что получше. Для той же цели повсюду расставлены еще и кабинки на одного. Прямоугольные, чистые, целиком из дерева, закрытые со всех сторон, с безукоризненно удобным сиденьем. По бокам приделаны ручки, так что кабинки можно переносить.
Мы сдвигаем в кружок три штуки и располагаемся поуютнее. Ближайшие два часа с места не поднимемся.
Помню, как в казарме мы, новобранцы, поначалу стеснялись ходить в общий нужник. Дверей там нет, двадцать человек сидят рядом, как в поезде. Всех можно окинуть одним взглядом, ведь солдат должен постоянно быть под надзором.
С тех пор мы научились многому, не только превозмогать пустяковый стыд. Со временем наторели и кое в чем другом.
Но это вот здесь прямо-таки наслаждение. Уж и не знаю, почему раньше мы всегда непроизвольно стеснялись подобных вещей, ведь они не менее естественны, чем еда и питье. Пожалуй, и не стоило бы о них особо распространяться, если бы они не играли для нас столь существенной роли и именно нам были в новинку – остальные давным-давно считали их обычным делом.
Собственный желудок и пищеварение знакомы солдату ближе, чем любому другому человеку. Он лишен трех четвертей своего словарного запаса, и выражения высочайшей радости и глубочайшего возмущения получают у него ядреную окраску. Иным способом высказаться четко и ясно невозможно. Наши семьи и наши учителя здорово удивятся, когда мы придем домой, но здешний универсальный язык именно таков.
По причине своей принудительной публичности все эти процессы вновь обрели для нас невинный характер. Более того, они настолько естественны, что удобное их отправление ценится наравне, ну, скажем, с красиво разыгранным уверенным большим шлемом без четверок. Недаром для всякой болтовни придумали название «сортирный треп»; в армии только в таких местах и можно потрепаться да посплетничать, как в кафе или в пивнушке за столом завсегдатаев.
Сейчас мы чувствуем себя вольготней, чем в каком-нибудь роскошном белокафельном заведении. Там лишь гигиенично, а у нас здесь – красиво.
Чудесно бездумные часы. Над нами – голубое небо. У горизонта висят ярко освещенные желтые привязные аэростаты и белые облачка зенитных выстрелов. Порой они снопом устремляются ввысь, преследуя самолет.
Глухой рокот фронта долетает до нас как очень далекая гроза. Шмели, гудящие поблизости, заглушают канонаду.
А вокруг раскинулся цветущий луг. Покачиваются нежные травинки, порхают бабочки-капустницы, парят на теплом мягком ветерке бабьего лета, мы читаем письма и газеты, курим, снимаем шапки, кладем их рядом, ветер раздувает волосы, играет словами и мыслями.
Три кабинки среди ярко-красных маков…
Мы устраиваем на коленях крышку от бочонка с маргарином. На ней хорошо играть в скат. Кропп захватил с собой карты. После каждого открытого мизера – распасовка. Так бы и сидел тут целую вечность.
От бараков доносятся звуки гармоники. Временами мы откладываем карты, смотрим друг на друга. Тогда кто-нибудь говорит: «Ребята, ребята…» или «Могло бы и плохо кончиться…», и на миг мы погружаемся в молчание. Нас охватывает сильное затаенное чувство, его испытывает каждый, и оно не нуждается в избытке слов. Ведь мы были на волосок от гибели, еще бы чуть-чуть – и не сидели бы сегодня здесь, на этих стульчаках. Потому-то сегодня все так ново и ярко – красные маки и хорошая еда, сигареты и летний ветер.
– Кто-нибудь из вас успел повидать Кеммериха? – спрашивает Кропп.
– Он лежит в Святом Иосифе, – говорю я.
Мюллер считает, что у Кеммериха сквозное ранение в бедро, а это неплохой шанс вернуться домой.
Мы решаем после обеда проведать его.
Кропп достает письмо:
– Вам привет от Канторека.
Мы смеемся. Мюллер бросает сигарету, говорит:
– Хотелось бы мне, чтоб он был здесь.
Канторек был у нас классным наставником, строгий, маленький, в сером сюртуке, с острым мышиным лицом. По комплекции примерно как унтер-офицер Химмельштос, «ужас Клостерберга». Кстати говоря, забавно, что мировые беды зачастую случаются из-за малорослых людей, они намного энергичнее и неуживчивее, чем высокие. Я всегда остерегался попадать под начало маленьких ротных, обычно они жуткие живодеры.
На уроках гимнастики Канторек до тех пор произносил перед нами речи, пока весь класс под его водительством в полном составе не отправился в окружное военное управление и не записался добровольцами. По сей день воочию вижу, как он, сверкая глазами сквозь очки, взволнованно вопрошал: «Вы тоже с нами, товарищи?»
У этих наставников волнение обычно наготове, что называется, в жилетном кармане, да и раздают они его поурочно. Правда, тогда мы об этом еще не задумывались.
Один из нас, впрочем, сомневался и не слишком горел желанием идти добровольцем. Йозеф Бем, толстый добродушный парень. Но в конце концов поддался на уговоры, ведь иначе бы навлек на себя позор. Вероятно, и еще кое-кто думал так же, как он, однако по-хорошему не выкрутишься, в то время даже у родителей слово «трус» с языка не сходило. Никто же понятия не имел, что́ началось. Проницательнее всех, по сути, оказались люди бедные и простые, они изначально восприняли войну как бедствие, а вот более обеспеченные себя не помнили от радости, хотя они-то могли бы скорее уяснить себе последствия.
Качинский утверждает, что виновато образование, от него-де глупеют. А Кач говорит только то, что хорошо обдумал.
Странным образом Бем погиб одним из первых. При штурмовой атаке получил пулю в глаза, и мы оставили его, решив, что он убит. Забрать его с собой мы не сумели, так как отступали в спешке. Но под вечер вдруг услышали его крики и увидели, как он там ползает. После ранения он просто потерял сознание. А теперь, поскольку ничего не видел и обезумел от боли, не использовал укрытия, и с той стороны его расстреляли еще прежде, чем нам удалось его вытащить.
Канторек тут, конечно, ни при чем, – что станется с миром, если уже это называть виной? Таких Кантореков тысячи, и все они твердо убеждены, что на свой лад усердно делают все возможное.
Но для нас в этом-то и заключается их несостоятельность.
Нам, восемнадцатилетним, они бы должны были стать посредниками, проводниками во взрослый мир, мир труда, долга, культуры и прогресса, в будущее. Порой мы их высмеивали, устраивали мелкие проказы, но, в сущности, верили им. С идеей авторитета, носителями которой они были, связывались в нашем представлении глубокая проницательность и гуманные взгляды. Но первый же увиденный нами убитый разрушил эту веру. Мы не могли не признать, что наше поколение честнее их; они превосходили нас только фразерством и ловкостью. Первый же ураганный обстрел продемонстрировал нам нашу ошибку, в клочья разнес мировоззрение, какому нас учили они.
Они еще писали и произносили речи, а мы видели лазареты и умирающих; они называли служение государству самым главным, а мы уже знали, что смертельный страх сильнее. Однако страх не сделал нас ни бунтарями, ни дезертирами, ни трусами – они-то с легкостью сыпали этими выражениями, – мы любили родину, как и они, и всегда храбро шли в атаку; но теперь мы прозрели, вмиг научились видеть. И увидели, что от их мира не осталось ничего. Внезапно мы оказались в страшном одиночестве – и должны были справляться с ним в одиночку.
Перед тем как отправиться к Кеммериху, мы собираем его вещи, в дороге они ему пригодятся.
В полевом лазарете царит суматоха; как всегда, пахнет карболкой и потом. В казармах ко многому привыкаешь, но здесь все равно любого в два счета замутит. Мы выспрашиваем, как найти Кеммериха; он лежит в зале, и при виде нас на его лице слабо проступает выражение радости и беспомощного волнения. Пока он был без памяти, у него украли часы.
Мюллер качает головой:
– Я же говорил, незачем брать с собой такие хорошие часы.
Мюллер несколько неотесан и категоричен. Иначе бы промолчал, ведь каждому видно, что из этого зала Кеммерих уже не выйдет. Отыщутся ли его часы, значения не имеет, разве что можно будет отослать их домой.
– Как дела, Франц? – спрашивает Кропп.
Кеммерих опускает голову.
– Да ничего… только вот нога чертовски болит.
Мы смотрим на одеяло. Его нога накрыта проволочной корзиной, одеяло лежит на ней горой. Я пинаю Мюллера по щиколотке, ведь с него станется сказать Кеммериху то, что мы успели узнать в коридоре от санитаров: у Кеммериха больше нет ноги. Ее ампутировали.
Выглядит он ужасно, желтый, землисто-бледный, в лице уже проступили чужие черты, прекрасно нам знакомые, потому что мы видели их сотни раз. Собственно, это не черты, скорее знаки. Под кожей более не пульсирует жизнь, ее вытеснило на грань тела, изнутри пробивается смерть, глаза уже в ее власти. Вот лежит наш товарищ Кеммерих, который совсем недавно жарил с нами конину и сидел в секрете, он пока тот же и все-таки не тот, его образ расплылся, потерял четкость, как фотопластинка, на которую сняли два кадра. Даже голос его звучит словно пепел.
Мне вспоминается наш тогдашний отъезд. Мать Кеммериха, добродушная толстуха, провожала сына на вокзал. Она все время плакала, от слез лицо отекло и опухло. Кеммерих стеснялся ее, ведь все, кроме нее, хоть как-то сдерживались, а она совершенно раскисла. При том выбрала меня, поминутно хватала за плечо и умоляла присмотреть за Францем. Кстати, лицо у него было совершенно детское, а кости до того мягкие, что, проходив месяц с ранцем за спиной, он уже заработал плоскостопие. Но как присмотришь за кем-либо на войне!
– Теперь домой поедешь, – говорит Кропп, – а отпуска пришлось бы дожидаться еще месяца три-четыре.
Кеммерих кивает. Сил нет смотреть на его руки, они будто восковые. Под ногтями окопная грязь, иссиня-черная, как отрава. У меня вдруг мелькает мысль, что эти ногти, как зловещие подземные растения, будут расти еще долго после того, как Кеммерих перестанет дышать. Так и вижу перед собой картину: ногти закручиваются штопором, растут и растут, а с ними растут волосы на распадающемся черепе, словно трава на доброй почве, точь-в-точь словно трава, как же такое возможно?..
Мюллер наклоняется:
– Мы принесли твои вещи, Франц.
Кеммерих жестом показывает:
– Положите под койку.
Мюллер так и делает. Кеммерих опять заводит про часы. Как бы его успокоить, не вызывая подозрений?!
Мюллер выныривает из-под койки, с парой летчиских сапог. Превосходные английские сапоги из мягкой желтой кожи, высокие, до самых колен на шнуровке, завидная вещь. Мюллер смотрит на них с восторгом, прикидывает их подметки к своей неуклюжей обувке, спрашивает:
– Сапоги-то с собой повезешь, а, Франц?
Все трое мы думаем об одном: даже если бы выздоровел, Кеммерих мог бы использовать лишь один сапог, так что для него они ценности не имеют. А уж в нынешних обстоятельствах тем более жалко оставлять их здесь, санитары, конечно же, мигом их умыкнут, как только он умрет.
Мюллер продолжает:
– Тут не хочешь оставить?
Кеммерих не хочет. Это самое ценное его имущество.
– Мы можем их выменять, – снова предлагает Мюллер, – здесь, на фронте, они всякому сгодятся.
Но Кеммерих непреклонен.
Я наступаю Мюллеру на ногу, и он нехотя сует роскошные сапоги на место, под койку.
Поговорив еще немного о том о сем, мы прощаемся:
– Будь здоров, Франц.
Я обещаю прийти завтра, Мюллер тоже, он думает о сапогах и потому намерен быть начеку.
Кеммерих стонет. У него жар. За дверью мы перехватываем санитара, уговариваем сделать Кеммериху укол.
Он отказывает:
– Вздумай мы колоть морфий всем и каждому, целые бочки его понадобятся.
– Ты небось только офицерам услуживаешь, – с неприязнью бросает Кропп.
Я вмешиваюсь и перво-наперво угощаю санитара сигаретой. Он берет. Потом спрашиваю:
– А тебе вообще разрешено делать уколы?
Он обижается:
– Раз не верите, то чего спрашиваете…
Я сую ему в ладонь еще несколько сигарет.
– Сделай нам одолжение…
– Ну ладно, – говорит он. Кропп идет за ним в зал, не доверяет, хочет сам убедиться. Мы ждем снаружи.
Мюллер опять начинает про сапоги:
– Мне бы они в самый раз подошли. В этих-то корытах все ноги стер. Как думаешь, продержится он до завтрашнего вечера? Если помрет ночью, сапог нам не видать…
Возвращается Альберт, спрашивает:
– Как считаете?..
– Каюк, – подытоживает Мюллер.
Мы идем обратно в бараки. Я думаю о письме, которое мне придется завтра писать матери Кеммериха. Меня знобит, шнапсу бы сейчас глоточек. Мюллер срывает травинки, жует. Коротышка Кропп вдруг отшвыривает сигарету, яростно затаптывает ее, с подавленно-растерянным видом озирается по сторонам, бормочет:
– Окаянное дерьмо, окаянное дерьмо…
Мы идем дальше, долго идем. Кропп успокоился, мы знаем, это фронтовое бешенство, с каждым бывает. Мюллер спрашивает его:
– Что, собственно, написал тебе Канторек?
Он смеется:
– Мы-де железная молодежь.
Мы злобно смеемся, все трое. Кропп чертыхается, радуясь, что может говорить.
Да, вот так они думают, сотни тысяч кантореков! Железная молодежь. Молодежь! Нам всем не больше двадцати. Но молоды ли мы? Молодость? Она давно прошла. Мы старики.
II
Странно подумать, что дома, в ящике письменного стола, лежат начатая драма «Саул» и кипа стихов. Не один вечер я сидел над ними, да и почти все мы занимались подобными вещами, но теперь они стали для меня настолько нереальными, что я даже представить их себе толком не могу.
С той поры как мы здесь, прежняя наша жизнь отрезана, причем без нашего участия. Иной раз мы пытаемся сориентироваться и найти этому объяснение, однако, по сути, безуспешно. Именно нам, двадцатилетним, все особенно неясно, Кроппу, Мюллеру, Лееру, мне – нам, кого Канторек называет железной молодежью. Люди постарше крепко связаны с прежним, у них есть основа, есть жены, дети, профессии и интересы, уже настолько сильные, что война не в состоянии их разорвать. У нас же, двадцатилетних, есть только родители, а кое у кого – девушка. Это немного – ведь в наши годы сила родителей совсем слаба, а девушки еще не приобрели первостепенного значения. Помимо этого, у нас разве что было немножко мечтательности, кой-какие увлечения да школа; дальше наша жизнь пока не простиралась. И от этого не осталось ничего.
Канторек сказал бы, что мы стояли на самом пороге бытия. Примерно так оно и есть. Мы не успели пустить корни. Война смыла нас, унесла. Для других, старших, она перерыв, остановка, они могут думать о том, что́ будет после. А вот мы целиком в ее власти и не знаем, как все это кончится. Успели только осознать, что каким-то странным и тоскливым образом огрубели, хотя даже и грустим теперь нечасто.
Пусть Мюллеру охота заполучить сапоги Кеммериха, но от этого в нем не меньше участия, нежели в таком, кто от боли и думать о них не смеет. Просто он умеет различать. Будь Кеммериху хоть какая-то польза от этих сапог, Мюллер бы скорее уж побежал босиком по колючей проволоке, а не ломал себе голову, как бы ими завладеть. В нынешних же обстоятельствах сапоги не имеют к состоянию Кеммериха ни малейшего касательства, а вот Мюллеру вполне могут пригодиться. Кеммерих умрет, кому бы ни достались сапоги. Так почему бы Мюллеру не постараться, у него ведь на них больше прав, чем у какого-нибудь санитара! Когда Кеммерих умрет, будет поздно. Оттого-то Мюллер и суетится уже сейчас.
Мы утратили ощущение иных взаимосвязей, поскольку они искусственны. Для нас важны и справедливы только факты. А хорошие сапоги – редкость.
* * *Раньше и с этим обстояло по-другому. Направляясь в окружное военное управление, мы еще были школьным классом из двух десятков молодых людей, которые, прежде чем ступить на армейский плац, все вместе (кое-кто впервые) радостно наведались к брадобрею. Твердых планов на будущее мы не имели, мысли о карьере и профессии, по сути, лишь у считаных единиц сложились настолько, что могли означать некий жизненный порядок; зато нас переполняли туманные идеи, придававшие в наших глазах жизни – да и войне тоже – идеализированный и чуть ли не романтический характер.
Два с половиной месяца мы проходили военную подготовку, и это время изменило нас куда радикальнее, чем десять школьных лет. Мы усвоили, что надраенная пуговица важнее четырех томов Шопенгауэра. Сперва с удивлением, потом с досадой, а в конце концов с безразличием признали, что решающую роль играет вроде бы не дух, а сапожная щетка, не мысль, а система, не свобода, а муштра. Солдатами мы стали с восторгом и по доброй воле, однако армия делала все, чтобы их истребить. Через три недели мы уже не изумлялись, что разукрашенный галунами письмоносец имел над нами больше власти, чем родители, педагоги и все культурные круги от Платона до Гёте, вместе взятые. Наши молодые, бодрые глаза увидели, что классическое понятие отечества, о котором твердили наши учителя, реализовалось здесь покуда как отказ от личности, какого даже от ничтожнейшего посыльного никогда бы не потребовали. Отдание чести, стойка «смирно», церемониальный шаг, ружейные артикулы, направо, налево, щелканье каблуками, брань и тысячи издевательств – мы представляли себе свою задачу иначе и считали, что нас готовят к героизму как цирковых лошадей. Но скоро привыкли. Даже уразумели, что одна часть этих вещей необходима, другая же совершенно не нужна. У солдата на это тонкий нюх.
По трое, по четверо наш класс разбросали по отделениям вместе с фризскими рыбаками, крестьянами, рабочими и ремесленниками, с которыми мы быстро подружились. Кропп, Мюллер, Кеммерих и я попали в девятое отделение, под начало унтер-офицера Химмельштоса.