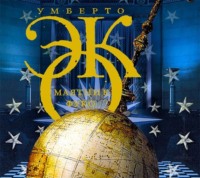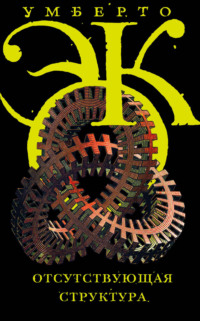Полная версия
Имя розы
«Но Аббат-то итальянец», – заметил Вильгельм.
«Аббат – не фигура, – с привычной ухмылкой отозвался Имарос. – У него вместо головы книжная полка. Изгрызенная жучком. Чтоб насолить папе, напустил полное аббатство полубратьев… Это я об отступниках говорю, уважаемый Вильгельм, оскорбивших ваш святейший орден… А чтоб угодить императору, зазывает сюда монахов из всех северных стран, как будто мало у нас собственных прекрасных переписчиков и знатоков греческого и арабского и как будто нет во Флоренции и Пизе богатых и образованных купеческих сынов, которые охотно вступили бы в орден, если бы орден обеспечивал укрепление власти и могущества их отцам. Но у нас в монастыре новые времена сказываются в одном – что эти немцы вовсю… о Господи милостивый, упаси мой язык, да не отсохнет рассказывать об их непотребствах!»
«А что, в аббатстве случаются непотребства?» – рассеянно осведомился Вильгельм, подливая себе молока.
«Монах тоже мужчина, – изрек Имарос. Помолчал и добавил: – Хотя здесь мужчин меньше, чем кажется. Но это должно остаться между нами… Само собой, я ничего не говорил…»
«Очень любопытно, – сказал Вильгельм. – А это только ваше мнение, или другие тоже так думают?»
«Многие, многие думают, как я. Многим жалко бедненького Адельма. Но если бы в пропасть свалился кто-нибудь еще… из тех, кто шныряет по библиотеке больше, чем следует… многие бы не возражали…»
«Что вы хотите сказать?»
«Я и так уж слишком много сказал. Мы тут все слишком много говорим. Вы, наверное, уже заметили. Правило молчания совершенно не соблюдается. Это с одной стороны. А с другой – соблюдается слишком многими. Но здесь надо не говорить и не молчать. Здесь надо действовать. В золотую эпоху нашего ордена, если аббат оказывался не из аббатского теста, – один кубок подслащенного вина, и вакансия свободна. Однако я поделился с вами своими соображениями, брат Вильгельм, конечно же, не из желания посплетничать на счет Аббата… или других собратьев… Боже меня сохрани! Я, к счастью, не подвержен постыдной наклонности к сплетничеству. Просто не хотелось бы узнать, что Аббат поручил вам расследовать мое дело… или чье-нибудь еще… к примеру, Пацифика Тиволийского или Петра Сант’Альбанского. Мы к библиотечным тайнам никакого касательства не имеем. Хотя не прочь бы иметь. Кое в чем разобраться. Мы рады, что вам предстоит потревожить это змеиное гнездо – именно вам, сжегшему столько еретиков».
«Я никогда никого не сжигал», – сухо ответил Вильгельм.
«Да это так, к слову, – с улыбкой увернулся Имарос. – Удачной вам охоты, брат Вильгельм, в особенности ночной».
«Почему не дневной?»
«Потому что днем тут врачуют плоть полезными травами, а по ночам истязают дух зловредными. Не верьте, будто Адельм сверзился в пропасть от чьей-то руки или будто чьи-то руки утопили в крови Венанция. Нет. Кое-кому нежелательно, чтоб монахи сами решали, куда им идти, что делать и что читать. И этот кто-то зовет на помощь адовые силы, использует и некромантов, сошедшихся с нечистым. Все, чтобы помрачать разум тех, кто слишком любопытен…»
«Вы говорите об отце травщике?»
«Северин Сант’Эммеранский искусен в своем деле… Но все же он немец… Немец также и Малахия…» – И, доказав в очередной раз свою несклонность к наушничеству, Имарос проследовал заниматься.
«Что это он имеет в виду?» – спросил я.
«Все. И ничего определенного. Большинство монастырей – это места, где одни монахи соревнуются за власть над остальными. То же самое и в Мельке, хотя, наверное, ты, как послушник, не так уж много успел разобрать. Но у тебя на родине захватить управление монастырем означает захватить позиции, откуда ведется прямой разговор с императором. А в этой стране положение другое, император далеко, даже когда он доезжает до самого Рима. Нет дворов, теперь нет даже папского. Есть города, и ты это обязательно заметишь».
«Я уже заметил и поразился. Город в Италии – это что-то совсем другое, чем у меня на родине. Не только место обитания. Это место принятия решений. Тут вечно все на площади. Городские магистраты значат больше, чем император или папа. Они… Как некие царства…»
«А цари тут купцы. А сила их в деньгах. И деньги здесь, в Италии, ходят не так, как у тебя в стране. Или у меня. То есть, конечно, деньги везде деньги, но у нас в значительной степени жизнь определяется и управляется обменом товаров. Мы вымениваем или покупаем петуха, куль зерна, мотыгу, повозку: деньги нам служат для приобретения товаров. В итальянских же городах, как ты, может быть, заметил, все обстоит наоборот: товары служат для приобретения денег. Священнослужители, епископы, даже религиозные ордена вынуждены пересчитывать жизнь на деньги. И именно по этой причине восстание против власти здесь оборачивается восстанием против денег; те, кто выключен из денежного обихода, борются против правительства; всякий призыв к бедности встречает сильнейший отпор, и целые города, от епископа до магистрата, воспринимают как личного врага всякого, кто слишком ратует за бедность. Инквизиторам чуется зловоние дьявола всякий раз, когда кто-нибудь заговорит о вони дьяволова дерьма. Теперь тебе понятно, к чему клонит Имарос. Бенедиктинское аббатство в золотые времена ордена являло собой возвышенное место, оттуда пастыри надзирали за стадами верующих. Имарос хочет вернуть старое. Однако теперь жизнь стад переменилась и аббатство может воротить старое (старую славу, старое свое имущество) только если сумеет усвоить новые привычки стада и сумеет само перемениться. А поелику ныне стадами правят не кровавые мечи и не таинственные заклинания, а всесильные деньги, Имаросу желательно, чтобы все мастерские и службы монастыря, включая и библиотеку, работали бы промышленно и приносили бы доход».
«А как это связано с убийствами… или с убийством?»
«Еще не знаю. Теперь мне надо наверх. Идем со мной».
Монахи уже работали. Во всем скриптории царила тишина – но не та тишина, которая сопутствует трудовой умиротворенности души. Недавно вошедший Беренгар впился в нас глазами. Прочие монахи тоже подняли головы. Всем было известно, что мы здесь ищем разгадку тайны Венанция, и взгляды всех присутствующих непроизвольно сходились в одной точке, подсказывая нужное направление; мы взглянули туда же и увидели перед собой пустой стол под одним из высоких окон, выходивших во внутренность восьмиугольного колодца.
Несмотря на холодный ноябрьский день, температура воздуха в скриптории была не слишком низка. Надо думать, не случайно это помещение устроили прямо над поварнями, откуда подымался довольно теплый воздух и откуда вдобавок шли, пронизывая всю постройку, два дымохода от двух кухонных печей, пропущенные в середине каменных столпов, на которых держались винтовые лестницы – одна в западной, другая – в южной башне. Что же касается северной башни, чья внутренность открывалась на противоположную оконечность огромной залы, – в ней лестницы не было, но был очень большой камин, жарко натопленный и распространявший около себя веселое тепло. Утеплен был и пол – щедро устлан соломой: она согревала ноги и к тому же глушила шумы передвижения. Из сказанного понятно, что хуже всего отапливался восточный угол помещения, и действительно я заметил, что монахи, которых работало меньше, нежели имелось в скриптории письменных столов, старались не садиться близко к восточной башне. Когда же немного погодя я увидел и понял, что лестница в восточной башне единственная из всех не обрывается, доходя снизу до скриптория, а ведет и выше – на библиотечный этаж, я задумался: а не был ли столь хитроумен тайный расчет созидателей, чтобы при подобном неравномерном нагреве залы монахи оказывались всегда принуждены держаться подальше от этой лестницы, и не могли бы любопытствовать, и не затрудняли бы библиотекарю надзор за доступом в книгохранение? Но, вероятно, слишком уж далеко завели меня подозрительность и желание походить, как обезьяна, на наставника, ибо сразу же и самопроизвольно я возразил себе, что подобный расчет совершенно теряет смысл в условиях летнего времени, если только не думать о том, – снова нашелся я, говоря сам с собою, – что летом именно на эту сторону попадает больше всего прямого солнца, а следовательно, и летом тоже все должны стараться сесть отсюда подальше.
Стол покойного Венанция помещался напротив камина и был, наверное, одним из самых здесь удобных. В ту пору еще я лишь малейшую частицу своей жизни отдал скрипторию, однако гораздо большую часть жизни я посвятил ему впоследствии и по себе знаю, какие телесные страдания приносит писцу, рубрикатору или изыскателю долгий зимний день, проведенный за письменным столом, когда коченеют скрюченные пальцы на стилосе (притом, что и в самой нормальной температуре через шесть часов работы у большинства людей пальцы сводит мучительнейшей «монашьей судорогой»), а указательный палец ноет так, как будто по нему били молотками. В чем и коренится причина того, что на полях различных рукописей мы здесь и там встречаем фразы, оброненные писцом между делом, как знаки претерпеваемых им, а иногда и нестерпимых страданий, к примеру, такие: «Слава тебе Господи, начинает темнеть», или: «Эх, в эту бы пору толику доброго вина!», или в таком духе: «Сегодня холодно, ничего не видно, пергамент волосатый, и выходит скверно». В старой пословице сказано: пером правят три пальца, а работает все тело. И работает, и устает, и болит.
Но я рассказывал о столе Венанция. Он был небольшой, как и прочие столы, расставленные под окнами восьмиугольного колодца и предназначенные для исследовательской работы, в то время как более просторные столы, расположенные вдоль внешних окон, отводились рисовальщикам и копиистам. Хотя надо заметить, что и Венанций держал на столе подставку – вероятно, ему были нужны для работы какие-то одолженные монастырем рукописи, которые в то же время переписывались. Под столом была еще одна, низкая полка, где валялись какие-то непереплетенные листы, все исписанные по-латыни. Я догадался, что это последние переводы Венанция. Почерк был неразборчив, в книгу листы не сложились бы. По всей очевидности, они предназначались для передачи копиисту и иллюстратору. Прочитать на них что-либо было трудно. Там же лежало несколько греческих книг. Еще одна, открытая, греческая книга была на подставке – сочинение, над переводом которого Венанций трудился в последние дни. В описываемую пору я еще не знал греческого языка, но учитель сказал, что то была книга некоего Лукиана, повествующая о мужчине, превращенном в осла. Я вспомнил похожую повесть Апулея, которая для нас, послушников, всегда была под строжайшим запретом.
«Как это Венанций переводил подобную книгу?» – спросил Вильгельм у подошедшего Беренгара.
«Перевод заказан аббатству миланским синьором в обмен на преимущественное право производства вин для некоторых восточных областей». – Беренгар неопределенно махнул рукой вдаль. Но тут же спохватился и добавил: «Не подумайте, будто аббатство торгует услугами. Но эту ценную книгу из собрания венецианского дожа, получившего ее от византийского императора, заказчик предоставляет нам с правом копирования, так что один экземпляр перевода может остаться в библиотеке».
«Значит, библиотека не пренебрегает и сочинениями язычников?» – спросил Вильгельм.
«Библиотека вмещает все – и явь, и блажь», – прозвучал вдруг голос у нас за плечами. Это был Хорхе. Я снова поразился (хотя безмерно больше предстояло поражаться в последующие дни) его негаданному появлению. Старик вырастал из-под земли, как будто не мы для него были незримы, а он для нас. Я пожал плечами – что делать слепому в скриптории? – но вскоре убедился, что Хорхе вездесущ, он непонятным образом оказывался в любом помещении аббатства. И в скриптории проводил довольно много часов – на лавке у очага, как будто надзирая за происходящим в зале. Однажды при мне он громко вскричал: «Кто идет?» – и повернулся. Никаких звуков вроде не было, но через некоторое время действительно появился Малахия, который, неслышно ступая по толстой соломе, прошел в библиотеку. Монахи питали к Хорхе безграничное уважение и разбирали с ним темные места, схолии, а также советовались, как должен выглядеть на рисунке какой-нибудь зверь или святой. Он же, впериваясь в пустоту угасшими очами, как будто перечитывал листы, целехонькие у него в памяти, и отвечал, что лжепророки должны быть в одеяниях епископов, только изо ртов пусть у них выходят жабы, и каковы видом камни в стенах Иерусалима небесного, и что аримаспы[72] на землеводческих картах должны помещаться вблизи владений пресвитера Иоанна. При этом он неукоснительно остерегал рисующих, чтобы чудища в нелепости своей не оказались бы прелестными, и что вполне довольно показать их в виде эмблем – узнаваемо, но не соблазнительно и ни в коем случае не смехотворно.
Однажды я услышал, как он помогает кому-то из схолиастов перетолковывать найденные у Тихония рекапитуляции из Св. Августина в духе как можно более далеком от донатистской[73] ереси. В другой раз он диктовал собравшимся комментаторам список отличий еретиков от раскольников. Затем объяснял зашедшему в тупик изыскателю, какую именно книгу из библиотечного каталога он должен себе заказать и приблизительно на какой странице там приводятся необходимые сведения, добавляя при этом, что вышеозначенную книгу библиотекарь ему обязательно выдаст, так как она числится среди трудов боговдохновенных. А насчет другой книги, я слышал, он предостерегал окружающих, что ее незачем и заказывать, потому что хотя она точно занесена в каталог, но в действительности изгрызена мышами более полувека тому назад и неминуемо распадется в порошок под пальцами первого, кто до нее дотронется. В общем, Хорхе – это была олицетворенная память книгохранилища, живой дух скриптория. И поминутно он обрывал любые попытки монахов перекинуться несколькими словами. «Утихните и поспешайте засвидетельствовать истину, ибо близятся времена!» – напоминал он о приходе Антихриста.
Столь же сурово Хорхе пресек и нашу беседу. «Библиотека содержит свидетельства истины и свидетельства лжи», – возгласил он.
«Ну да, конечно, Апулей с Лукианом повинны в лживых вымыслах, – сказал на это Вильгельм. – Но их вымыслы содержат, под покрывалом неестественности, наидобрейшую мораль, ибо учат нас, сколь дорого приходится платить за допущенные ошибки. К тому же я думаю, что в повести о перерождении человека в осла может подразумеваться перерождение души, впавшей в греховное состояние».
«Возможно», – ответил Хорхе.
«Однако теперь я начинаю понимать, отчего Венанций во время той беседы, о которой рассказывал вчера, так занят был вопросами комедии. И в самом деле ведь такого рода сказки могут быть уподоблены комедиям древности. И в этих сказках и в тех комедиях повествовалось не о людях воистину живых – как принято в трагедиях, – а о вымышленных; и Исидор их обманными провозвещает: “Там сказанья поэтические наобум перепеваются, отчего показываются дела не бывые, а попросту лживые”».
«Речь шла не о комедиях, а о позволительности смеха», – нахмурившись, сказал Хорхе. А между тем я прекрасно помнил, что когда Венанций ссылался на этот разговор, Хорхе утверждал, что забыл все до слова.
«А, – безразлично отозвался Вильгельм, – а я так понял, что вы говорили о лживых поэтических вымыслах и остроумных загадках».
«Мы говорили о смехе, – сухо ответил Хорхе. – Комедии создавались язычниками ради понуждения слушателей к смеху, цель весьма предосудительная. Иисус Господь наш никогда не изъяснялся ни комедиями, ни баснями, но единственно – наипрозрачнейшими притчами, где поучал через аллегорию, как обрести себе царствие небесное, да будет так, во веки веков, аминь».
«Хотелось бы понять, – сказал Вильгельм, – почему вы так противитесь предположению, что Иисус, хотя бы изредка, смеялся. Я уверен, что смех наипрекраснейшее средство, подобное ваннам, для излечения гуморов и телесных недугов, в частности меланхолии».
«Ванна превосходнейшее дело, – ответил Хорхе. – И Аквинат[74] рекомендует ванны для избавления от печали. Сия последняя может быть расценена как предосудительная страсть, когда не обращена на зло, искоренимое отважной борьбой с ним. Ваннами уравновешиваются гуморы. А смех сотрясает тело, искажает лицо и уподобляет человека обезьяне».
«Обезьяны не смеются, смех присущ одному человеку, это признак его разумности», – отвечал Вильгельм.
«Признак разумности человека – это и дар речи, однако речью можно оскорбить Творца. Не все присущее человеку добронравно. Смех свидетельствует о глупости. Смеющийся и не почитает то, над чем смеется, и не ненавидит его. Таким образом, смеяться над злом означает быть неготовым к борьбе с оным, а смеяться над добром означает не почитать ту силу, которою добро само распространяется. О чем есть в нашем Правиле: „Десятая степень послушания, се: смехотворному порыву легко не предаваться, ибо сказано: “Смех глупых точно треск хвороста под котлом“»
«Квинтилиан, – перебил мой учитель, – говорит, что из панегириков смехотворное надо исключить, торжественности ради, но в других обстоятельствах – приветствовать. Тацит одобряет иронию Кальпурния Писона, Плиний Младший пишет: „Когда же притом смеюсь, веселюсь, играю, я человек“».
«Все они были язычники, – отвечал Хорхе. – В Правиле сказано: „Глумление же словесное, празднословие и смехотворчество к вековечному изгнанию из любых наших мест обещаются, и вышеозначенным словесам учащегося разверзать не дозволено уста“».
«Но ведь уже после того, как проповедование Христово возобладало на земле, Синесий из Кирены провозгласил, что в божественности гармонично породнены комическое и трагическое, а у Гелия Спациана говорится об императоре Адриане, муже возвышенного нрава и духа naturaliter[75] христианского, что он умел чередовать состояния веселости с состояниями величественности. Наконец и Авсоний нас побуждает разумно соотносить меру серьезности с мерой увеселения».
«Однако Павлин Ноланский и Климент Александрийский предостерегали против подобных дурачеств, и Сульпиций Север свидетельствует, что Св. Мартин никогда и никем не был виден ни в свирепости, ни в веселии».
«Но он припоминает и у этого святого высказывания spiritualiter salsa[76],» – вставил Вильгельм.
«Быстрые, ловкие, но не смехотворные. Св. Евфраим создал паренезу против монашеского смеха, и в своем „De habitu et conversatione monachorum“[77] требует избегать непристойностей и зубоскальств, как укусов ядовитого аспида!»
«Но Гильдеберт смех дозволял: „Допускаются после дельных занятий и забавные, токмо степенные и самородные“. И Иоанн Солсберийский не возражал против умеренной веселости. И, наконец, Екклесиаст, из коего вы только что приводили стих, послуживший опорой вашему Правилу, где говорится, что смех присущ дуракам, в других стихах допускает правомерность молчаливого смеха: веселия спокойной души».
«Душа спокойна только когда созерцает истину и услаждается сотворенным добром; а над добром и над истиною не смеются. Вот почему не смеялся Христос. Смех источник сомнения».
«Но иногда сомнение правомерно».
«Не нахожу. Почуяв сомнение, всякий обязан прибегнуть к авторитету – к слову святого отца либо кого-нибудь из докторов – и отпадет причина сомневаться… Вы насквозь пропитались различными спорными доктринами, подобно тем парижским логикам… Но Св. Бернард сумел достойно противостоять тому кастрату Абеляру, который пытался любые сущие вопросы подчинить холодному, безжизненному решению рассудка, не просвещенного Св. Писанием, и позволял себе по собственному разумению судить, что так, а что этак. Само собой понятно, что тот, кто воспринимает от него его опаснейшие идеи, способен также и попустительствовать игрищам безрассудного, который осмеивает то единственное, чему необходимо поклоняться как наивысшей истинности, данной единожды и навечно всем и каждому. Предаваясь смеху, безрассудный тем самым провозглашает: “Deus non est[78]”».
«О преподобный Хорхе, мне представляется, вы неправы, говоря о кастрированном Абеляре, ибо вам известно, что к этому горестному состоянию он был сведен чужою подлостью…»
«Нет, собственной греховностью. Тщеславием собственных упований на человеческий разум. Ради возвеличения разума осмеивалась вера простецов, тайны божественности бесстыдно оголялись (во всяком случае, к этому шло, глупцы, кто стремились к этому!); сомнения, касавшиеся высочайших представлений, обсуждались бестрепетно, и стало входить в обычай насмехаться над Св. Отцами, полагавшими, что подобные сомнения надлежит приглушать, а не разрешать».
«Я не согласен, преподобный Хорхе. Господу желательно, чтобы мы упражняли наши рассудки на тех неясностях, относительно коих Священное Писание дает нам свободу размышлений. И когда нам предлагают уверовать в некое положение, следует прежде всего продумать, приемлемо ли оно, поелику наш помысел сотворен в свет помыслов Божиим, и что угодно нашему помыслу, не может не быть угодно Господу; в то же время о высшем помысле нам известно только одно – лишь то, что посредством аналогии, а чаще всего продвигаясь от противного, мы переносим на него из построений собственного разума. Так что теперь и вы ясно видите, что ради избавления от абсурдных предпосылок – смех может составить собой самое удачное средство. Часто смех служит еще и для того, чтоб наказывать злоумышленников, выставляя напоказ их скудоумие. Известно о Св. Мавре, что когда язычники погрузили его в кипящую воду, он посетовал, будто вода холодновата; градоначальник язычников по глупости опустил в котел свою руку, попробовать воду, и обварился. Славная выдумка святого великомученика, осмеявшего гонителей истинной веры!»
Хорхе ухмыльнулся. «И в том, что рассказывают проповедники слова Божия, находится место нелепостям. Святой, погруженный в кипящую воду, терпит за Христа, удерживает крики боли, а не ребячится с язычниками!»
«Видите? – сказал Вильгельм. – Этот рассказ, на ваш взгляд, противоречит здравомыслию и вы заявляете, что он смешон! Значит, вы, хотя и беззвучно, и не допуская к шевелению ваши губы, смеетесь над рассказавшим и меня призываете к тому же: не принимать рассказ серьезно. Вы смеетесь над смехом. Однако смеетесь».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Переводчик благодарит П. Д. Сахарова за ценные консультации.
2
Le manuscrit de Dom Adson de Melk, traduit en français d’après l’édition de Dom J. Mabillon. Paris, Aux Presses de l’Abbaye de la Source, 1842. (Прим. автора.)
3
Монастырь (лат.). Здесь и далее, кроме особо отмеченных случаев, – прим. перев.
4
Монтален, набережная Сент-Огюстен (у моста Сен-Мишель) (лат.)
5
La Repubblica, 22 сент. 1977 г. (Прим. автора.)
6
Альберт Великий (Альберт граф Больштедтский, ок. 1193–1280) – выдающийся теолог и философ, доминиканец.
7
Парацельс (псевд.; наст. имя – Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенхейм, 1493–1541) – знаменитый врач и алхимик.
8
Liber aggregationis seu liber secretonim Alberii Magni, Londinium, juxta pontem qui vulgariter dicitur Fletebrigge, MCCCCLXXXV. (Прим. автора.)
9
Les admirables secrels d’Atbert ie Grand, A Lyon, Ches les Hèritiers Beringos, Fratres, à l’Enscigne d’Agrippa, MDCCLXXV; Secrets merveilleux de la Magie Naturelle et Cabalislique du Petit Albert, A Lyon, ibidem. MDCCXXIX. (Прим. автора.)
10
Глоссы – толкования текста (изначально – текста Библии), вписываемые между строк или на полях.
11
Схолия (греч.) – комментарий, пояснение.
12
Кемпиец (Фома Кемпийский, 1379–1471) – бенедиктинский писатель-схоласт, автор «Подражания Христу», сочинения, в котором излагается набор общехристианских истин и проповедуется смирение.
13
Schneider Edouard. Les heures Bénédictines. Paris, Grasset, 1925. (Прим. автора.)
14
в зеркале и в загадке; в отражении и иносказании (лат.)
15
дословно (лат.)