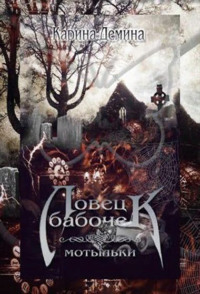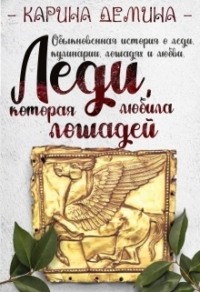Полная версия
Дом последней надежды
И приказал содрать траурные одежды.
– А печать… – Ми-Циань повертел ее в руках и бросил в пыль. – У меня будет своя…
В тот же вечер стяги с Алым драконом вознеслись над стенами города Нара, чтобы продержаться там семь дней и семь ночей… столько времени умирала великая армия.
Почему-то в Хрониках обходили этот момент стороной. Была армия и не стало. И уничтожила ее Прекраснейшая, не пощадив при том и жителей.
На седьмой день она вошла в ворота.
И подняла печать, которая так и лежала в песке.
Она отправила гонцов к некоему Тэцуго, жившему в рыбацкой деревушке, с тем, чтобы явился он исполнить долг крови. Ему она и вручила что печать, что дворец, что разоренную войной страну. А сама попросила себе право жить в небольшом доме, куда принимала осиротевших женщин.
Так появился первый Дом.
Войны случались часто.
И не только они. Чужая память подсказывала мне, что постепенно в Дома стали отправлять женщин родичи, предпочитавшие единожды заплатить Хозяйке, нежели постоянно нести траты и ответственность за тех, кто стал вдруг лишним.
Это было… прилично?
Пожалуй, именно так.
Сложный мир.
И память сложная. Все мне никак не удается с нею поладить.
В моем доме пятеро.
Это немного.
И немало.
За каждую женщину, согласно указу Императора, мне платят три серебряных лепестка в месяц. Это немного, но и не мало… голодать мы не должны.
Хватит и на хворост для очага.
Зимы здесь прохладные…
На второй день, когда стало очевидно, что болезнь моя окончательно отступила, я велела оннасю приготовить купальню. И пусть девочка старательно отирала мое тело влажными полотенцами, но это было не то. Не покидало ощущение грязи, да и выйти из комнаты своей хотелось.
Иоко вот предпочитала одиночество, но…
Почему она ушла из тела?
Еще одна загадка.
Если бы тогда, когда жив был подонок, именовавший себя ее мужем, это было бы понятно. Или позже, когда кредиторы растаскивали жалкие крохи былых богатств. Или когда пришлось умолять матушку о милосердии… но нет, она преодолела все.
И умерла.
От банальной, как полагаю, простуды.
Истощились жизненные силы? Или Иоко так привыкла выживать, что разучилась просто жить? Не знаю. Мне жаль ее, но это не совсем искренняя жалость, ведь ее смерть, неизвестно как, дала мне еще один шанс. Не его ли я хотела?
И вот, получив, постараюсь не растратить впустую.
Итак, я вышла в узкий коридор, перегороженный станами из лакированной бумаги. Они легко скользили, позволяя преображать дом…
Легкость.
Свежесть.
Запах зимней вишни. Циновки на полу. И те же узкие длинные сундуки вдоль стен. Светящиеся шары на кованых подставках. И солнечный свет, проникающий сквозь полубумажные стекла.
Тишина.
Я знаю, что в доме звуки разносятся легко и что пятеро моих… подопечных? Постоялиц? Они прячутся где-то здесь, и странно, что я ничего не слышу.
Или нет?
Всхлип.
Стон будто бы протяжный. И вновь тишина… терраса.
Сад.
Он не похож на те сады из прошлой моей жизни, он будто является продолжением дома. Дорожки. Трава. Россыпь мелких белых цветков.
Холм.
Ручей с крохотным водопадом. Мокрые камни. И синяя стрекоза, замершая над водяной гладью. Здесь даже дышалось иначе, и я остановилась, вцепившись в плечо девочки.
Вдохнула влажный сырой воздух.
Наклонилась, коснувшись воды кончиками пальцев. Мягкая, как шелк… и пахнет цветами. Время вишен давно ушло, но азалии держат оборону. Скоро осень, а с осенью приходят холода. И сомневаюсь, что холодный дом способен удержать их.
– Идемте, госпожа. – Моя оннасю не отличалась терпением. Матушка непременно велела бы высечь ее за дерзость…
Странная мысль.
Чужая.
И моя в том числе. Когда-нибудь я всенепременно привыкну к этому раздвоению. Надеюсь, что привыкну.
Высокая кадка из дерева шигу наполнена горячей водой. И девочка помогает мне подняться по узкой лесенке. Она же снимает грязную одежду и, причитая, что слишком рано я вышла из дому, что моя болезнь еще не отступила, а вода опасна для слабых телом – все это знают, – льет на плечи душистую жижу.
Мыло?
Шампунь?
Соль? Соль в воде я ощущаю и расслабляюсь. Жар извне растапливает другой, тот, который внутри. Пальчики моей оннасю пробегаются по шее, по лицу. Разбирают волосы.
Втирают в них смесь из золы и жира и чего-то еще, о чем я знать не желаю.
Я же любуюсь садом.
В той моей жизни я хотела купить дом, но как-то все руки не доходили, а когда дошли, оказалось, что мой супруг не желает дома, с домами много проблем, лучше уж квартиру…
– Как тебя зовут? – Я перехватила руку девочки.
– Простите, госпожа?
– Болезнь, – я вымученно улыбнулась, – забрала мою память…
Глаза девочки расширились.
– Не всю. Я помню себя. Я знаю, где нахожусь… но я забыла твое имя.
– Его не было, госпожа. – Она опустила взгляд. – Простите… я не заслужила еще.
Я кивнула, задумавшись, вернее, обратившись к той, чужой памяти. Но она молчала… вот про кадку эту сказать могла – ее принесла в дом отца матушка вместе с узкими подушками и тремя покрывалами, расшитыми серебряной нитью. Еще за нею дали три сундука, повозку с лошадью вместе и десять золотых лепестков. Но мой отец взял бы ее даже в простом пеньковом юкато… Так он говорил.
– А какое имя ты бы хотела получить?
Пальчики на моем затылке задрожали. Кажется, я вновь сказала что-то не то.
– Придумай, как мне тебя называть. – Я постаралась, чтобы голос мой звучал ровно.
Иоко умела притворяться, и надеюсь, ее умение не исчезло вместе с нею.
– Да, госпожа…
Мне помогли выбраться из ванны.
Растерли жесткими полотенцами. Смазали кожу ароматными маслами, отчего та сразу заблестела… А я не так уж и смугла, как показалось. Подали одежду: широкие штаны из тонкой ткани, халат и невообразимо длинный пояс, который девочка ловко обернула вокруг моей талии, соорудив за спиной огромный пышный узел.
– Расскажи, – я вновь нарушила молчание.
– О чем, госпожа?
– О том, что происходило в доме, когда я… заболела. – Я коснулась языком зубов. Мое лекарство имело четкий кисловатый привкус, избавиться от которого не помогали жесткие зубные палочки.
Девочка молчала.
Она ловко разбирала влажные волосы, расчесывая их гребнем, и мне было даже немного неловко отвлекать ее от этой, несомненно, важной работы.
Иоко всегда гордилась волосами. Длинные и тяжелые, благородного черного цвета, они позволяли соорудить самую сложную прическу. А еще их удобно было наматывать на кулак…
Я поморщилась: чужая память здорово мешала.
– Все благополучно, госпожа… – шепотом произнесла девочка. – Все рады вашему выздоровлению… и благодарят богов за милость…
Большего я не добьюсь.
Что ж…
Глава 5
Память. Моя-чужая, ныне податливая, как мягкий тофу. Попробуем воспользоваться ею…
Иоко заплатила глашатаю на рыночной площади. И тот трижды в день выкрикивал ее приглашение.
Первой привезли Мацухито.
Она плакала.
Она и без того была некрасива – чересчур высокая, плечистая и лишенная толики изящества, а слезы и вовсе сделали ее уродливой. Они проложили дорожки в рисовой пудре, размыли краску на губах, сделав их огромными.
Неровно нарисованные брови.
Зачерненные зубы.
Семья Мацухито чтила традиции.
– Ее муж умер, – сказал невысокий воин в черном облачении. На спине его кимоно виднелся герб Наместника. А на рукавах – две звериные морды. И Иоко поклонилась, приветствуя гостя столь важного. – Она не сумела родить ребенка, поэтому ее вернули.
Мацухито неловко сползла с возка, и плечи ее вздрагивали от рыданий.
– Она много ест. Много говорит. Много плачет. А работает мало. Мои жены ею недовольны.
Мацухито всхлипнула.
– Ей поручили смотреть за детьми. Она уснула. Мой сын едва не утонул. Я поколотил ее, но она вновь уснула… и в колыбель моей дочери заползла змея. Она неряшлива. Бестолкова. И у меня не получится найти ей другого мужа.
Он выгнал бы сестру, если бы не боялся гнева предков.
Нет, он не сказал ничего такого, но Иоко научилась читать молчание.
– Здесь пятнадцать золотых лепестков, – сказал он, протянув узкую шкатулку. – Этого хватит? У нее есть два кимоно и три красивых пояса…
Мацухито оказалась молчаливой и слезливой. Плакала она и днями, и ночами, изрядно раздражая Иоко этой своей привычкой.
Может, поэтому разговора не вышло?
Кэед привез отец. Он вел серого ослика, на спине которого боком, как и положено невесте хорошего рода, восседала Кэед. Рядом ступал слуга с бумажным зонтом, чье желтое лицо было сморщено, как печеное яблоко. Казалось, он вот-вот разрыдается.
А Кэед была спокойна.
Она смотрела прямо перед собой и улыбалась.
Мила.
Кротка.
Воспитана, как и подобает хорошей невесте. Длинные рукава ее фурисодэ почти достигали крошечных ножек.
Ее бабушка, помнившая свои корни, некогда замотала их бинтами. И теперь стопы Кэед были столь малы, что ходила она с трудом, а каждый шаг причинял муку. Но она улыбалась.
Всегда улыбалась.
Когда слуга обмахивал веером ее лицо.
Или когда отец, раскрыв шкатулку, торговался, то и дело размахивая руками, отчего делался похожим на старого облезлого петуха. И, глядя на безмятежную эту улыбку, Иоко не уступала. Она кланялась. Соглашалась с доводами любезного Нануки, уважаемого купца, который плакал, расставаясь с любимейшей дочерью, но не уступала ни медяшки… а заодно уж вытягивала еще одну простую историю.
Кэед появилась на свет в первом браке, который Нануки-купец заключил, будучи совсем еще юным и не слишком богатым в отличие от родителей невесты. Они дали хорошее приданое.
Очень хорошее.
И видят боги, эти деньги Нануки сохранил и приумножил. А его супруга, толстая и ленивая, обладавшая грубым голосом и на редкость дурным нравом, ни в чем не знала отказа. Смерть ее в родах – лишь милость богов, освободивших Нануки от тяжкого груза…
Нет, то были вторые роды…
Первыми она произвела на свет Кэед, крохотную девочку, которая тогда казалась воплощением всех возможных достоинств. К сожалению, сам Нануки не мог заниматься воспитанием дочери, дела его торговые требовали внимания, да и где это видано, чтобы мужчина тратил свое время.
Сорок пять лепестков, госпожа.
Кэед тиха и неприхотлива. Она не доставит проблем…
Ее растила мать жены, а уж у нее имелась мечта – сделать внучку наложницей Императора, и, быть может, не только наложницей… У Нануки теперь много денег, но это все одно не значит, что он готов их бросать на ветер. Сорок шесть цехинов?
Она и удумала эту глупость с бинтованием ног.
И что вышло?
Теща в прошлом году померла, примите боги душу ее смятенную… страшная женщина была, по правде, будто родич самого Сусаноо[11]! Ей и супруг-то, когда жив был, не смел слова поперек сказать, что уж говорить о Нануки… вот и учила девочку всяким глупостям… на шелке рисовать… темари[12]… слышали, госпожа? Кумихино[13]… или вот еще кинусайга[14]… конечно, картины у нее получаются изрядные, но сколько уходит на шелка…
Не о том речь.
Теща-то померла, а Кэед осталась.
Нануки вновь женился. Он бы и раньше, да опасался… жену взял простую… он-то пусть и хорош в своем деле, а знает, где боги жить судили. Его Кокори тихая и скромная, родила ему сына, а потом и дочь. Она и Кэед приняла бы, как родную, если б та не была высокомерна…
Сорок семь цехинов золотых, госпожа… и в год еще пять… она шелками шить умеет, главное – построже с нею… картины ладные выходят, за одну прошлым разом целых три монеты он выручил.
При этих словах губы Кэед кривятся.
Это гримаса презрения?
Боли?
В остальном она делает вид, будто вовсе не слышит этого разговора, для нее унизительного.
Он честно пытался найти ей мужа. Но кому из знакомых его нужна жена, не способная до рынка дойти или в доме прибраться? Для уборки она слишком хороша.
А еще лицо.
Взгляните на ее лицо… за рисовой пудрой не видно, но…
Его знакомые – люди простые, и тратиться на рисовую пудру, чтобы этакое уродство скрыть… нет уж, госпожа… забирайте и без торговли… никто не скажет, что Нануки бросил свою старшую дочь. Да только вот и в доме ее оставить не может. Будь она норовом поспокойней, он бы, конечно, еще подумал, а так… то глянет так, что у самого сердце обмирает, то слово бросит будто невзначай, словно в самую душу плюнет…
Что до брака ее, то сваха запросила двадцать лепестков, а жених, стало быть, вдесятеро потребует, а то и еще больше. Откуда такие деньги у простого торговца? Разориться, чтобы потакать прихотям умершей тещи? Нет, если госпожа сумеет найти жениха, согласного, скажем, на сорок лепестков, то Нануки заплатит их, а если нет, то пусть на то будет воля богов.
Она и вправду оказалась тихой и редко покидала свою комнату, пусть Иоко и приказала натянуть по дому веревки, да все одно каждый шаг для ножек, обутых в шелковые башмачки, давался с трудом.
Третья пришла сама.
Ее кимоно, пошитое из темно-синего шелка, украшенное колесами и черепахами, явно знавало лучшие времена. А сама она была крупна, сердита, и набеленное лицо с пятнами рисованных бровей казалось маской, и отнюдь не прекрасной.
– У меня осталось тридцать пять лепестков, – сказала она, вытащив из рукава шелковый сверток. – Их пока не отобрали… возьми меня, я крепка, я умею работать.
Ее звали Шину, достойная.
Она и вправду была достойной дочерью достойных родителей. Она родилась в маленьком рыбацком поселке и с юных лет помогала родителям.
Вышла замуж.
Родила двоих сыновей. И не ее вина, что боги оборвали нити их жизней во младенчестве. Она искренне горевала, но не позволяя горю вовсе ослепить себя.
Муж ее много работал, а она во всем была опорой ему, как и положено доброй жене. Он ушел подлунною дорогой в почтенном возрасте семидесяти семи лет.
Да, так уж вышло… и Шина была не первой его женой.
Она схоронила супруга и сделала это так, что никто из соседей не упрекнул бы ее в скупости.
А спустя неделю появились его сыновья.
Они и прежде наведывались. Редко. И всякий раз случались ссоры, ибо были сыновья вовсе не такими, какими желал их видеть старый Мицу. Ссоры эти печалили Шину, но разве смела она давать мужу советы? И ныне приняла пасынков, как и полагается, приветливо. Да и дело ли… ей ли лавку держать?
Где это видано, чтобы женщина сама дела вела?
Нет, она многое знала.
Многое умела.
Но это неправильно.
– Сперва эти паскудники вели себя тихо. – Шину сидела на циновке, подогнувши ноги, и пила чай неспешно. Движения ее были плавны, и пусть не обучена она была тонкостям чайной церемонии, как и вовсе застольному этикету, держалась она легко и непринужденно. – А после началось… сперва пропали деньги, которыми надо было за товар рассчитаться, и сам товар… и вещи… или вот еще…
Она говорила неспешно, и в низком урчащем голосе ее Иоко не могла уловить и тени обиды.
Просто история.
Одна из тех, о которых интересно слушать, когда случаются они не с тобой.
– Фарфор ушел… старшенький-то опиумом балуется… а второй – играет, все мнит удачу найти… и все спускает… я пыталась говорить, так этот, простите боги, заморыш взялся меня плеткой учить. Я и прошлась по плечам его… жаловаться побежал. Благо стража меня знает, так он и на них… и выходит… нехорошо выходит.
Нет у нее прав на наследство.
Иоко жаль эту некрасивую и не слишком молодую женщину, которая казалась удивленной, будто не понимала, как подобное вообще произошло с нею, воистину достойной дочерью своих родителей.
– Я и подумала, что пусть их… боги-то видят, как оно… взяла, что мое по праву…
Жар.
Пар поднимается над бочкой.
И я в теле Иоко вздыхаю, а девочка льет на плечи горячую воду. Она расчесывает волосы, нанеся на гребень твердое масло. И гребень скользит по черным прядям.
У меня никогда не было длинных волос.
Даже в детстве.
И мама, и тетки пребывали в какой-то непонятной уверенности, что волосы сделают меня обыкновенной. У всех ведь косы, а у меня – стрижка. К стрижке я привыкла.
Юкико.
Дитя снега.
И вправду дитя, которой едва исполнилось шестнадцать.
Ее привезла мать, женщина, чье белое лицо, искаженное гневом, походило на маску театра обо. Черные пятна бровей. Черные зубы. Черные волосы. И аккуратный красный кружок губ. Голос ее, шипящий и низкий, принес в дом Иоко скрытую ярость.
– Эта девка все испортила!
Следовало признать, что госпожа Мисаки имела все причины гневаться.
Она происходила из хорошей семьи.
Из знатной.
Из очень знатной семьи, которая попала в непростые обстоятельства, а потому и вынуждена была связать себя узами крови с простыми купцами. Конечно, супруг госпожи Мисаки никогда не забывал, сколь повезло ему получить в жены настоящую деву-вишню, и всячески доказывал свою любовь.
От нее и родились три дочери.
И сын.
Но сына госпожа Мисаки отдала отцу, пусть принимает дело, а вот дочери… на них она возлагала особые надежды. Она растила дочерей сама, с юных лет вкладывая в головы правильные мысли. Старшие были благодарны матери за заботу.
Ойко вышла замуж за десятника императорской гвардии и уехала в столицу.
Она прислала матери два свитка алого шелка и еще удивительной красоты каменья, из которых золотых дел мастер сделал ожерелье. И не нашлось на их улице, а живут они в чудесном месте, никого, у кого было бы более красивое ожерелье…
Средняя, Чо, стала супругой младшего судьи.
Хороший мальчик.
Его отец служит при дворе Наместника, и всем понятно, что сыновья его сделают карьеру…
А вот Юкико…
Отец ее испортил своими разговорами о любви, и госпожа Мисаки, верно, размякла, если позволила этим разговорам быть в ее жизни. И к чему все привело?
Нет, сперва ей понравился этот молодой человек, который зачастил в их дом.
По обхождению его, по манерам, по одежде видно было, что он вовсе не так уж прост, каковым хотел казаться. После госпожа Мисаки выяснила, что этот негодяй и вправду происходил из весьма знатного рода, что пробудило в душе ее особые надежды.
Дочь могла войти в этот род, если бы была умнее.
Если бы вела себя сдержанней.
Если бы…
Да, госпожа Мисаки не сочла нужным вмешиваться в отношения… и любовь? Пускай себе, если это любовь к достойному человеку… но что Юкико подарила ему не только поцелуй, выяснилось, когда негодяйку стало мутить по утрам.
Она беременна.
И понятно, почему господин… имя? Разве это важно? Важно, что он отказался брать в жены развратную девку, и это его право. А Юкико – позор рода, от которого госпожа Мисаки желает избавиться, но, само собой, приличным образом.
Она готова даже понести некоторые расходы.
Десять цехинов.
Этого мало? Но ведь Наместник платит из казны за содержание женщин, а Юкико ест мало… и работать сможет быстро, если ребенка убрать.
Куда?
Об этом не госпоже Мисаки думать.
Она вовсе желает забыть о неудачной своей дочери. Муж? Муж изволил несвоевременно отбыть в Цихун, откуда вернется разве что к зиме. Он не будет против. Он понимает, сколь важно для госпожи Мисаки доброе имя…
Юкико была тихой.
И вправду, дитя снега. Ее кожа была бела и без рисовой пудры. Круглое личико с еще детскими чертами и застывшим в глазах удивлением, будто она так и не поверила до конца, что все это случилось с нею.
Ее мутило по утрам.
И днем тоже.
И порой она вовсе не вставала с постели, то ли от дурноты, с которой не умела справиться, то ли от другой, внутренней боли. И Иоко ничего не могла поделать.
Она сама готовила травяной отвар из коры ивы и корней валерианы, добавляла щепоть ромашкового цвета и толику слов, услышанных от старой няньки. Она приносила отвар в комнатку Юкико и, опустившись на циновки, разливала его по чашкам.
Не церемония.
Она раскладывала рисовые колобки и полупрозрачные куски желе из водорослей, но Юкико почти не прикасалась к пище. Она и вправду считала себя виноватой.
Сложно придется.
Одна я бы выжила.
Наверное.
Я ведь привыкла быть одной в том, в своем мире, а здесь… мне придется иметь дело с женщинами, которым нужна профессиональная помощь. А что я знаю о психологии?
Всегда считала ее глупостью.
Араши…
Вот уж действительно дитя бури. Здесь, кажется, умеют давать правильные имена. Или наоборот? Имя определяет судьбу…
Ее привела тетка.
Крупная женщина с набеленным лицом, с зонтиком, который она держала крепко, будто опасаясь, что его украдут. Хотела бы я взглянуть на безумца, рискнувшего связаться с госпожой Рани.
– Вот, – второй рукой она держалась за узкое плечико юноши, – заберите ее. Я заплачу столько, сколько скажете…
Юноша оказался девушкой.
Она была единственной дочерью брата госпожи Рани. Славный воин, известный мастер меча, к которому ученики приходили со всех Островов, он совершил в жизни одну ошибку: женился на слабой женщине. Почему слабой? А сильная не умерла бы в родах, оставив мужа наедине с младенцем.
И ладно бы сына подарила, о котором мастер Сан мечтал.
Дочь.
Ему бы кормилицу нанять, а после отослать дитя госпоже Рани, чтобы воспитала она, как воспитывала четверых собственных дочерей. Но нет… кормилицу-то он нанял, а после стал учить дочь тому, чему девушек не учат.
Где это видано, чтобы девка оружие в руках держала?
Ну, кроме мухобойки…
Она говорила, наливаясь красным гневом, выплескивая свое праведное, как ей казалось, возмущение. Араши слушала.
Пританцовывала.
И поглядывала на Иоко сквозь длинную челку.
Она была… не такой.
Совсем не такой.
И первым порывом Иоко было отказать от дома этой странной девушке, которая вовсе не выглядела ни обиженной, ни растерянной, ни нуждающейся в защите. Обряженная в штаны-хакама из черного хлопка и в черную же рубаху длиной до середины бедра, она, казалось, не испытывала ни малейшего смущения.
Отец учил ее на совесть.
И возможно, знал, для чего делает это, да только сказать не успел. Однажды ночью душа его покинула тело, и Араши осталась одна.
Дети не могут жить одни.
И госпоже Рани пришлось взвалить на себя заботу о сироте, чему сирота совсем не обрадовалась. Она оказалась нагла, дурно воспитана и строптива. Она не желала работать на поле и не умела работать в доме… она перечила всем и во всем…
– А потом она заявила, что сама себе выберет жениха. Ха! – Тетушка хлопнула себя по бедрам, и бамбуковая рукоять зонта опасно затрещала. – Я хотела ее побить палками…
…но терпение Араши закончилось.
Она сломала палки.
И побила горшки. И сказала, что если ее так называемый жених дерзнет заглянуть в дом, то ему же будет хуже…
– Сколько вы хотите? – Тетушка выдохлась.
Араши смиренно застыла, только темные, что дикая вишня, глаза ее лукаво поблескивали. И губы дрожали, и вряд ли от сдерживаемых слез.
– Пятьдесят лепестков. – Иоко решилась.
Кто она, чтобы отказывать от дома девочке, которая еще не понимает, насколько жесток этот мир.
– Просите больше, – голос Араши оказался звонок. – Отец оставил три сотни… и еще нефритовых статуэток…
– Лжешь, маленькая дрянь! – взвизгнула госпожа Рани.
– Их она успела припрятать, как и шелк, из которого мне фурисодэ шить должны были… плевать на шелк. А вот отцовские клинки пусть вернет. Они мои по праву.
– Да пусть у тебя язык отсохнет…
Госпожа Рани хватала воздух губами, сделавшись похожей на большую рыбину.
– Сделайте так, как говорит девушка. – Иоко не умела спорить, но, странное дело, близость Араши будто придала ей сил. – И уходите с миром… она больше не побеспокоит вас.
Клинки доставил слуга.
И с ними – сверток темно-лилового шелка, расшитого серебряными лилиями. Ткань была чудесной… и испорченной.
– Да уж… – Араши сунула палец в дырку. – Теперь только на тряпки… жадная она и безголовая… а вы тоже меня учить станете?
– А есть чему? – Тогда, кажется, Иоко впервые за долгое время улыбнулась.
Глава 6
Мы встретились тем же вечером.
Наверное, я могла бы еще несколько дней притворяться больной, и никто из них не посмел бы потревожить покой госпожи, но… моя натура была против.
А потому…
Наряд из шелкового платья с длинными рукавами.
Широкие красные штаны.
Скользкий пояс змеей обвивается вокруг талии. И девочка, встав на табуретку, расчесывает волосы. Она ловка и спокойна, будто не происходит ничего необычного. А может, и вправду не происходит? И я себе придумываю… но откуда это щемящее неприятное ощущение в груди?
Тревога.
И страх.
И кажется, у нас с Иоко дрожат руки, а это нехорошо. Хорошо, что эти руки можно спрятать в широких рукавах кимоно. Прохладный шелк ластится к коже, но отсутствие нижнего белья несколько смущает.