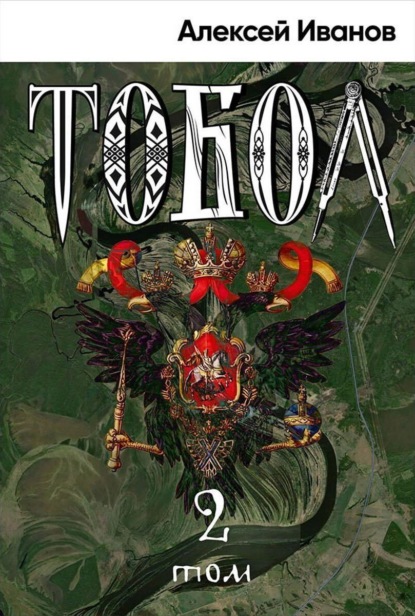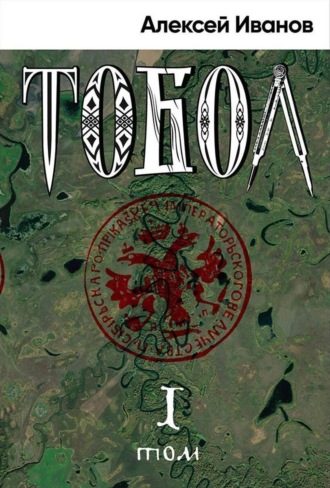
Полная версия
Тобол. Том 1. Много званых
Терёха Мигунов полез в лабаз. Вместо лесенки в избушку вело бревно с выемками. Терёха заглянул внутрь лабаза, высунулся и закричал:
– Полтиныч, а вонючие шкуры брать, или считай – пропали?
– Бери, сойдут, – издалека ответил Полтиныч. – Егор-скорняк в Берёзове прожарит и передубит.
Молодой солдат Юрка, подобно Ерофею, не хищничал. Он озирался по сторонам в поисках баб. Остячек он не мог различить между собой: все мелкие, круглолицые, смуглые, не поймёшь, молодые или старые. Плевать! Можно оттащить какую-нибудь в лес и снасильничать, в дыму не заметят…
– Дядя Ерофей, долго мы тут пробудем? – волнуясь, спросил Юрка.
– Не знаю.
Ерофей снял со стены дома висящую на шпеньке оленью упряжь и принялся ножом срезать костяные пряжки – пригодятся. Желания Юрки Ерофею были понятны. Он по себе знал, о чём думает парень в двадцать лет.
– На грешок тянет?
– Больно мне надо! – соврал Юрка. – Смотри-ка, болваны!
Отвлекая Ерофея, Юрка указал на небольших, в два аршина высотой, идолков; они были в ряд прислонены к задней стене дома, где рос бурьян.
– Сам ты болван, – сказал Ерофей. – Полезли в домину.
По земляным ступенькам, укреплённым досочками, Ерофей, Юрка и Терёха спустились в жилище остяков – обширную полуземлянку. На улице от дыма было мглисто, а в доме – совсем темно: узкие волоковые окошки под кровлей почти не пропускали света. Служилые не сразу поняли, что в доме полно народа. Бабы, детишки и старики прятались здесь от русских, словно от грозы. Вдоль стен тянулись земляные лавки-приступочки, застеленные шкурами, лапником и покрывалами; остяки тихо сидели на лавках и пугливо смотрели на вошедших; бабы стискивали детей. По стенам было развешано разное имущество – мешки, веники, промысловые снасти. В дальнем конце красными углями теплилась глинобитная печь – чувал. Балки кровли терялись в пелене дыма. Дым милосердно глушил густые запахи шкур, жареной рыбы, хвои и человеческих тел.
– Хуже свиней в хлеву живут, – брезгливо сказал Юрка.
– А ты, знамо, из бояр, да? – огрызнулся Терёха.
В Берёзове многие русские тоже зимовали в чёрных избах.
Ерофей потянулся к стене, и баба перед ним сжалась, но Ерофей снял со спицы, воткнутой между брёвен, большой капкан из ржавых железных дуг. Терёха сердито дёрнул что-то меховое из рук другой бабы. Юрка увидел темноглазую девку с повязкой на лбу, на повязке бисером были вышиты разноцветные кресты и круги. Юрка схватил девку за плечо и вытащил перед собой, чтобы разглядеть получше. Девка закрылась рукавом.
– Чего тебе от неё надо? – сразу с подозрением спросил Ерофей.
– Пущай вон шкуру принесёт из-за печки, – быстро придумал Юрка и ладонью толкнул девку в грудь. – Иди, принеси!
– Сам возьми, – сказал Ерофей.
– А я хочу, чтоб она дала.
Ерофей взял перепуганную девку за локоть и усадил обратно.
– За печкой у остяков место священное. Бабам туда ходить нельзя.
Ерофею неприятна стала срамная прыть этого солдатика. В тайге такое нетерпение принято было прятать. Баб мало, всем хочется, и чья-то похоть без оглядки на прочих мужиков может довести артель до смертоубийства. Обычно перед большим походом артель целовала крест своему есаулу на общее терпение и равное воздержание от любодеяний. В Сибири все помнили о страшной погибели святого отрока Василия Мангазейского.
Терёха вдруг выволок из толпы остяков худенького старичка.
– Хемьюга! Хемьюга! Хемьюга! – дружно заволновались бабы-остячки, удерживая старичка за одежду.
– Шаман, – пояснил Терёха. – Прятался, стервец, за бабами.
– С чего ты взял, что шаман?
– Под бубном сидел.
– Это не бубен, – щурясь, сказал Ерофей. – Рубаха из налимьей кожи.
– Бубен, – возразил Терёха. – Остяки говорят, что у бубна есть душа, а тело с душой должно быть облачено в рубаху.
– А на кой ляд тебе этот хрыч?
– На капище нас отведёт. Там тоже мягкая рухлядь есть.
– Ладно, – согласился Ерофей. – Айда на выход, братцы.
Терёха Мигунов толкнул старичка в спину по направлению к выходу.
В это время есаул Полтиныч уже подводил итоги обыска в Певлоре. Полтиныч сидел на бревне возле большого кострища, где обычно собирались все жители селения. Рядом с есаулом стоял берестяной короб, заполненный мехами и шкурами, которые служилые отняли у остяков. Полтиныч вынул из-за пазухи свиток со списком остяков, расправил его на колене и взял из кострища обугленный с конца прутик. Сбоку от есаула на то же бревно присел и князь Пантила Алачеев.
– Всё, что взяли, зачту в поминки, – с важностью сообщил Полтиныч.
«Поминками» называли подарки ясачного люда местному воеводе. Их требовали раз в году, и постоянного размера им не назначали. Из поминок местные воеводы платили свою дань главному воеводе в Тобольске.
– Нигла Евачин… – Полтиныч по слогам с трудом начал читать имена остяков. – Ставлю крестик… Акутя Тупов… Крестик… Петрума и брат его Етька… А где Петрума? Не видел его!
– Петрума в дом пошёл, горюет, – сказал князь Пантила.
Пантила Алачеев был самым молодым князьцом Берёзовского уезда. Его не признали бы хозяином Коды, Кодской волости на Оби, но древний род князя Алачи и княгини Анны Пуртеевой пользовался у остяков большим уважением. И Пантила очень старался быть справедливым и заботливым. Для остяка высокий, он был по-юношески строен и даже красив. Он уже убил медведя и носил косу с оловянным кольцом, однако странный разрез тёмных глаз делал его чистое лицо то ли ожесточённым, то ли заплаканным, как у девушки. Старики говорили, что такие глаза – родовая черта прапрабабки.
– Ладно, крестик Петруме и Етьке, – согласился Полтиныч.
– Ещё назови Мынкупу Безрукого, он от Анню и Опыти, баб своих, беличью парку отдал.
– Ему тоже крестик ставлю…
В отличие от других остяков, Пантила не верил, что русские – колдуны. Он не боялся русских, он ездил на ярмарки и в Берёзов, и в Тобольск. Власть русских была не в колдовстве. Все русские, даже какой-нибудь последний нищий на ярмарочной площади, имели в себе безоговорочное убеждение, что тут, в Сибири, они самые главные. Они приходили и брали, что пожелают, и даже удивлялись, когда им не хотели давать. Они не сомневались в своём праве. И про меру они тоже не думали – забирали больше, чем надо, могли забрать вообще всё, и не испытывали вины. Русские были не народом, а половодьем. Нельзя сказать, что они угрожали или давили силой, хотя порой случалось всякое. Но обезоруживала их уверенность в себе. Вот и сейчас: есаул Полтиныч приехал в чужой срок, ведь летом время бухарцев; есаул обманывал; с есаулом было только восемь человек, а в Певлоре для отпора Пантила мог призвать два десятка воинов, – и всё равно Пантила подчинялся. Он не мог понять, в чём причина владычества русских. И ему было больно и горько за свой народ: почему он такой слабый, хотя люди, выживающие зимой на Оби, – сильнее и русских, и татар, и бухарцев, и кого угодно.
К Полтинычу подошёл один из служилых, он вёл за собой понурого остяка – Ахуту Лыгочина, а за узкой спиной Ахуты испуганно прятались его дочери – близняшки Айкони и Хомани, похожие, словно две рукавички.
– Слышь, Полтиныч, – озабоченно сказал служилый, – у этого мужика взять совсем ни шиша нету. Только лодка дырявая и штаны блохастые. Он согласен одну девку отдать в холопство. Берём?
Князя Пантилу захлестнули обида и жаркий гнев. Как Ахуте не совестно расплачиваться за свою никчёмность дочерью? Холопство – не тюрьма, конечно, и не смерть, но это исторжение из рода. Из холопства, отработав долг, обратно домой возвращались только зрелые люди. Парни оставались у русских в помощниках, а девки – в прислужницах или приживальщицах. Но бывало, что злые воеводы вроде Толбузы против закона продавали холопов как невольников неведомо куда или морили трудом до погибели.
– Девка тоже товар, – рассудительно сказал Полтиныч. – Возьмём.
– А какую? – простодушно спросил служилый, оглядывая девок.
– А какая тебе нравится?
– Дак они же одинаковые, – растерялся служилый.
– Тогда левую, – Полтиныч, смеясь, указал на Айкони.
Пантила сверлил Ахуту тяжёлым обвиняющим взглядом. Ахута гордо выпрямился и самолюбиво сказал по-хантыйски:
– Это мои девки. Делаю, что хочу.
Ахута полагал, что он стал бедным как раз из-за неудачных детей. Жена его умерла тяжёлыми родами двойни. А куда нужны две такие девки? Шаман Хемьюга говорил, что у него должен был родиться только один ребёнок, но коварный бог Хынь-Ика удвоил его. Выкормить без жены сразу двух дочерей Ахуте было очень трудно, а вознаграждения он не получит. Кто возьмёт этих близнях в жёны и заплатит отцу щедрый выкуп? Никто. Например, Гынча Петкуров решит взять Айкони. Но обе девки – это одна девка, и весь Певлор будет смеяться, что у Гынчи только половина жены. А брать двух девок Гынча не станет: это всё равно, что за одну девку давать двойную цену. И порознь девок тоже не разберут. Если, скажем, Гынча возьмёт Айкони, а Негума возьмёт Хомани, то Гынча будет иметь как бы жену Негумы, а Негума – как бы жену Гынчи, и Гынча с Негумой поссорятся. Бог Хынь-Ика очень жестоко посмеялся над Ахутой Лыгочиным, отцом двойняшек.
Айкони и Хомани стояли, будто замороженные. Ахута уже улыбался.
– Почему ты радуешься, Ахута? – зло спросил князь Пантила. – Ты же потерял одну дочь.
– Я её не потерял, – с превосходством ответил Ахута. – Вот она, Хомани, здесь. Она остаётся у меня. Я отдаю русским Айкони, и это лишь половина того, что они хотели получить. Я их обманул. Я очень хитрый.
Есаул Полтиныч и служилый не понимали, о чём говорят остяки, да им и дела не было до переживаний инородцев.
– Уводи девку к дощанику, – сказал служилому Полтиныч, поднимаясь на ноги. – Скоро отчаливаем. Гляди, Терёха шамана уже отыскал.
Глава 4
Через Верхотурье
Князь Матвей Петрович Гагарин молился от сердца, с отдачей – он был благодарен, что добрался до Верхотурья. Слава богу, путь пройден. Народ заполнил Никольскую церковь и украдкой поглядывал на губернатора, который даже в толпе крестился по-барски широко и уверенно: привык, что ему всегда уступят пространство для знамения и поклона. Матвей Петрович не сомневался, что Христос на иконе благословляет именно его.
Бабиновская дорога едва не вытрясла душу из князя. Дорога соединяла Соликамск и Верхотурье и была самой трудной частью Сибирского тракта. Поначалу вроде было терпимо, большак и большак, но потом дорога полезла в дождливые хвойные горы. Колеи разъехались сикось-накось, гнилые гати в распадках тонули в грязи, лошади скользили на крутых подъёмах и падали. Крепкие колёса телег, окованные железными шинами, скрежетали по сырым камням и слетали с осей, выбитые угловатыми валунами. И никуда не деться из глубокой расщелины просеки, вокруг – мокрый буреломный лес, бородой к бороде теснятся вековые ёлки. Двести вёрст в зыбкой мороси. Слякоть и прель. Высокие увалы – как тумаки в драке, скалы – будто удары в зубы.
Обоз князя Гагарина состоял из сотни телег. Матвей Петрович вёз из Москвы в Тобольск узлы с одеждой, сундуки с посудой, мебель, шандалы, стёкла и зеркала, бочки с виноградным вином, книги и кипы бумаги, иконы, свёртки тонких тканей, ковры, мешки с постельным бельём. С обозом, кроме ямщиков, шли холопы, слуги из дворни, солдаты и офицеры, чиновники, музыканты, два монаха, портной, которого Гагарин переманил от графа Шереметева, и повар-немец. Сердцем обоза была золочёная карета на больших тонкоспицых колёсах – через ухабы и лужи её переносили на руках.
По уму, надо было ехать зимой, в санях, когда колдобины сгладятся снегами, но Матвей Петрович пустился в путь, как только появилась возможность. Он уже три года был сибирским губернатором, однако царь не отпускал его в Сибирь. У Петра Лексеича всегда находились дела для безотказного князя Гагарина, ко всему прочему ещё и московского градоначальника. И Гагарин просто удрал, едва только неугомонный царь отвлёкся и на время позабыл о нём.
Каждый вечер в походном шатре, откуда выкурили комаров, Ефимка Дитмер, личный секретарь князя, делал скорбный доклад:
– Две тарелки с вензелями разбили, в ящик с пистолетами вода натекла. Ямщики бутылку мальвазии украли. Конюх Афонька в карете спал. Ковёр с телеги в лужу уронили. Мешок порвался, и Митькина кобыла вчера ночью кисти с балдахина жевала. Повар Гельмут сказал, что завтра повесится.
У Матвея Петровича ныли ноги, намятые ходьбой, ломило поясницу, штаны на колене он прожёг у костра, лоснилось брюхо камзола – это Матвей Петрович пролил на себя жирный суп. А Ефим всегда был чистый, умытый, спокойный, вежливый, с приятной улыбкой.
На тяжком отроге Павдинского камня обоз преодолел главный перевал, отмеченный большим ветхим крестом с кровлей, и дальше дорога покатилась под гору, а вскоре – за маленькой ямской деревней Караул – выправилась и выпрямилась. И потом вдали за широкими покосами Матвей Петрович увидел шпиц колокольни: они дотащились до Верхотурья.
Князь Гагарин не был здесь пятнадцать лет и удивился оборотистости верхотурцев. Над рекой Турой на каменном утюге Троицкого мыса вместо прежней деревянной церкви возвышался краснокирпичный собор. Могучую восьмистенную башню венчала корона из пяти фигурных куполов. Рядом стояла тоненькая и высокая зубчатая колокольня – словно острый гранёный кол. Вокруг окошек и под карнизами кипели кудрявые кружева из тёсаного кирпича, блестела полоса изразцов. Конечно, причина сей красы была в доходах от таможни. С таможней он, князь, разберётся.
Наконец-то он спал на перине в большом доме коменданта. Наконец-то ему готовили в печи, а не на костре. Но отдыхать князю было скучно.
Благодарственный молебен в Никольской церкви завершился зычной аллилуйей архидьякона. Народ загомонил, оглядываясь на губернатора – такого важного столичного человека. Рослый, грузный Гагарин возвышался над толпой на полголовы. Рядом с ним, оттирая верхотурского коменданта, всё время оказывался игумен Николаевского монастыря – ждал милостей. Он любовно взял Матвея Петровича под локоть и повёл целовать вынесенное алтарником напрестольное распятие, подарок царя Алексея Михайловича. Гагарин благоговейно приложился к серебру креста и отошёл; у креста сразу началась толкотня, словно поцелуй князя вселил в святыню особую силу.
– Симеона посмотреть хочу, отче, – попросил Гагарин игумена.
– Ты разве не заметил? Вон рака-то, – игумен указал в угол храма.
За сутолокой Матвей Петрович и вправду не заметил раки. Матвей Петрович двинулся к ней, и народ охотно раздался в стороны. Всем в храме было лестно внимание губернатора к верхотурским чудотворным мощам.
Явление мощей святого произошло ещё до того, как Гагарин уехал из Сибири, но гроб оставался в деревне Меркушино, и князь его не видел.
– Гробовина-то из земли всплыла, – рассказывал сзади игумен. – Како подняли колоду, под ней родник забил. Крышку открыли – покоится муж нетленный, и вокруг тотчас благоухание разнеслось. Митрополиту Игнатию трижды во сне видение было – сонм народный глаголет: «Симеоном зовут его!». Игнатий комиссию созвал, даже сам Исаак Далматовский приехал, архиерейским приговором засвидетельствовали чудотворения…
Строителя Исаака, сына старца Далмата, в Сибири уважали больше, чем митрополита, боярина из рода Римских-Корсаковых. Князь помнил владыку: Игнатий благословлял его на нерчинское воеводство. Толстый старик с острым и злым умом. Любезный друг правительницы Софьи – за неё и угодил в Сибирь. Потом его зачем-то вызвали обратно в Москву, а он напал с обличением на патриарха Адриана и был заключён в Симонов монастырь. Ходил слух, что там его заморили голодом. Всё может быть.
Гагарин подошёл к раке Симеона – большому деревянному ящику, покрытому резным узорочьем. В изголовье раки имелось слюдяное окошко. Гагарин наклонился, чтобы рассмотреть лицо Симеона, но ничего не увидел за мутной слюдой. Гагарин поцеловал вышитый покров на гробе.
– Тысячу рублей жалую на обитель, – распрямляясь, сказал он игумену. – Резьбу позолотите, и образ написать надобно.
На душе у князя стало легко, правильно. Матвей Петрович почувствовал себя мудрым и щедрым начальником, с которым людям хорошо.
Возле храма его ждала приведённая в порядок карета.
– На таможенный двор, – велел князь кучеру, ступая на подножку.
Толпа осталась возле церкви – там с крыльца приказчик раскидывал мелочь. В карете Матвея Петровича ждал Ефим Дитмер. Эстляндский немец, он был протестантом и старался не ходить в русские православные храмы. Карета качнулась, когда на запятки влез лакей Капитон. За экипажем князя покатились две подводы с солдатами.
Верхотурская таможня открывала Сибирь, а закрывала её таможня в Нерчинске. Были ещё и промежуточные таможни, например, в Тобольске. Все они перегораживали государевы тракты, собирали с купцов пошлину – десятую цену товара, и следили, чтобы торговые людишки не везли того, что запрещено. А купцы хитрили: в обход таможен прокладывали в лесах тайные воровские дороги. Сибирские воеводы выслеживали эти пути и наглухо заваливали их засеками из деревьев, а изловленных купцов бросали под кнут.
Начальников на таможни назначал Сибирский приказ – на словах, а на деле – московские воротилы. Они вели торговые дела придворных вельмож, с которыми Сибирский приказ спорить не смел. Князь Гагарин, начальник приказа, принял бы такой порядок, но государь учредил в Сибири губернию, переименовал таможенных голов в надзиратели, велел им надеть мундиры и подчиняться губернатору. Матвей Петрович понял, что теперь таможни – его законная вотчина. Следовало выбить прежних надзирателей и поставить своих. Верных человечков для князя Гагарина подыскал давний товарищ по коммерции, столичный купец первой статьи Матвей Григорич Евреинов.
Обширный двор таможенной избы был огорожен крепким сибирским заплотом из лежачих брёвен. Но заехать за ворота у князя не получилось: весь двор загромождали телеги с тюками, возки с бочками, фуры с мешками и колымаги, загруженные берестяными коробами. Сторожа таскали товары в казённые погреба и лабазы, ямщики выпрягали лошадей, купцы спорили с приказчиками. Князь, кряхтя, вылез из кареты и пошагал к таможенной избе пешком. За ним шёл Дитмер, потом – лакей Капитон, потом – солдаты.
– Да как я тебе покажу, сучий ты потрох? – горячился какой-то купец. – Я же кадушку засмолил! Открою – всё протухнет! На слово ты не веришь?
– Не верю! – упрямился приказчик. – Не положено!
Гагарин подошёл к другому купцу, который развязывал поклажу.
– Крепко прижимают? – дружески спросил он.
– Когда тут давили вполсилы? – злобно ответил купец, не оборачиваясь.
– Я вот уже неделю заздесь кукую, – сказал мужик, лежавший в кузове телеги, и зевнул. – Целовальник мзду вымогает, а у меня нету.
– В прошлом году я шесть штук холста вёз, – с обидой сообщил ещё один купец; он сидел на чурбаке и пришивал на армяк заплату. – Надзиратель забрал себе две штуки. Это он так десятину мне высчитал.
– Давай, братцы, жалуйся на крапивное семя, – радушно предложил князь. – Я Матвей Гагарин, губернатор сибирский.
Купец с армяком оробел, вскочил и поклонился.
– Бог помощь, князь.
– Матвей Петрович? – услышал Гагарин. К нему меж телег пробирался толстяк в расстёгнутом камзоле. – Митрофан Кутепов я, может, слышал, князь? Мой отец у Лексей-Михалыча окольничим был.
– Всех не упомнишь, – пожал плечами Гагарин. – В чём дело-то?
– С дочерьми с Иркутска еду, – торопясь, объяснил Кутепов. – А таможенный надзиратель не пропускает, печать на подорожную не ставит. Говорит, бывало, бабы под юбками соболей беспошлинно провозили. А я не хочу, чтоб моим девкам подолы задирали.
– Вот ведь заноза, – озадачился Гагарин. Он знал, что на верхотурской таможне дозволено раздевать даже боярынь. – Слушай, Митрофан… Э-э?
– Палыч, – угодливо подсказал Кутепов.
– Слушай, Митрофан свет Палыч. Плюнь ты на спесь да задери девкам юбки. И езжай потом, куда хочешь.
Купцы вокруг засмеялись, Дитмер тоже скромно улыбнулся. Гагарин, довольный успехом, направился к тесовому крыльцу таможенной избы. Митрофан Кутепов смотрел ему вслед и укоризненно качал головой.
В просторной горнице в углу громоздилась белёная печь, а дальнюю стену занимали поставцы, плотно забитые кожаными коробками с описями и учётными книгами. Купцы, ожидая печати, теснились боками на длинной лавке вдоль стены с окошками. За большими столами важно сидели и писали дьяки, целовальник с большим крестом на шее и надзиратель в мундире. Окна были открыты; пахло воском, дёгтем сапог и пылью; жужжали мухи.
– Сколько, говоришь, пудов? – не глядя, спрашивал дьяк.
– Сорок два, – быстро отвечал купец.
Матвей Петрович вошёл в горницу, нарочито выставляя брюхо вперёд. Зашарканные половицы под его башмаком жалобно заскрипели. Надзиратель проворно вскочил, побежал навстречу и склонился, прижимая руку к сердцу. Но Матвей Петрович сжал кулак и прямо в поклоне сшиб надзирателя с ног пушечным ударом в ухо. Надзиратель отлетел к печи, будто вязанка дров, потом сел в мусоре подпечья и прижал ладонь к уху, в изумлении глядя на Гагарина. Дьяки, целовальник и купцы застыли с открытыми ртами.
– Ах ты ворюга! – по-хозяйски взревел Гагарин. – Да я тебя по плешь в землю вколочу!
– Ты пьяный, никак, государь? – ошеломлённо спросил надзиратель.
– Всю таможню себе в карман засунул, злодей! – гневно орал Гагарин. – Ну ничего, государя не обдуришь!
В надзиратели ставили не абы кого, московское купечество подбирало для дальних таможен самых толковых и неробких людей. Поэтому Матвей Петрович решил сразу сокрушить противника, чтобы потом не жаловался.
– Чего городишь? – злобно спросил надзиратель, приходя в себя.
– Там весь двор воем воет, выжига! – Матвей Петрович указал в окно.
– И что с того? – надзиратель поднимался на ноги и отряхивался.
Из-за плеча Гагарина Дитмер с любопытством разглядывал горницу. Капитон хмурился. Солдаты стояли у двери и злорадно улыбались.
– Когда купец на таможне не вопил? – спросил надзиратель. Он быстро догадался, что губернатор что-то задумал. – Всегда купец вопит!
– В ратуше стол завели доносы на тебя читать! – налегал Гагарин.
– С каких петухов-то? – надзиратель не собирался сдаваться. Не Гагарин его сюда поставил, не ему и пенять. Так было при воеводах, так будет и впредь хоть при каком начальнике. – Сколь дозволено кормиться от службы – столь я и кормился! Больше брюха под рубаху не пихал!
В открытых окошках появились рожи таможенных сторожей. Они услышали ругань и крики и заглядывали с улицы.
– Я теперь губернатор, и я тебя от места отставляю! – важно заявил Гагарин. – Ещё поклонись, что комиссарам не сдаю!
– Свой ли ты калач укусил, Матвей Петрович? – ощерился надзиратель.
Гагарин оглянулся на солдат.
– Ребята, волоките его отсюда!
Солдаты охотно кинулись к надзирателю, заломили ему руки и поволокли из горницы, развалив поленницу у печки. Матвей Петрович не испытывал ни смущения, ни сочувствия. Те, кому он причинял зло, как бы переставали для него существовать. А Сибирью его бог наградил, и он действовал в своём праве: дают – бери.
– Ефим, кто у нас записан на Верхотурье? – спросил Гагарин.
– Купец тверской гостиной сотни Кондаков.
– Зови его сюда, пусть дела принимает.
Матвей Петрович победно оглядел всех в горнице – купцов, дьяков, целовальника и сторожей в окнах – и усмехнулся. Принимайте губернатора.
Глава 5
Пока плывут большие рыбы
Язычники не ходили на свои капища, как православные ходят в церкви, а мусульмане – в мечети. На капища ходили шаманы с подручными и реже – князья. Но брать в заложники князя всей Кодской волости, да ещё и без приказа берёзовского коменданта, для простых служилых было слишком нагло, поэтому есаул Полтиныч вёз в дощанике старого шамана Хемьюгу. Путь оказался недальним: от Певлора спуститься по Оби на три версты до устья небольшой речки, что текла со священных увалов Нум-То, дальше вверх по речке с десяток вёрст – и будет певлорская кумирня с истуканами.
Река сама несла дощаник, и служилые не гребли.
– Шаман сказал, что туда-обратно за сутки оборачивается, – рассуждал Полтиныч, – но он старик. Думаю, мы побыстрее сбегаем. Так что харч брать не будем. Перебьёмся на сухарях. Прошка, тебя оставлю дощаник караулить. И девку, – Полтиныч кивнул на Айкони.
– Я не согласный! – сразу вскинулся Прошка. – Вы на требище хабар будете брать, а мне на Оби пустому куковать? Нечестно, есаул!
– Поделимся потом.
– Не смеши, дядя Полтиныч. Мы не казаки, чтобы дуван дуванить. Кто сам себе не возьмёт, тому волчьи хвосты. Я в карауле не останусь.
– Тогда ты, Терёха.
– И я не останусь, – возразил Терёха Мигунов.
– А кто же останется? – удивился Полтиныч.
– Дураков нету.
Служилые понимали: добыча на капище – добыча себе, а не воеводе.