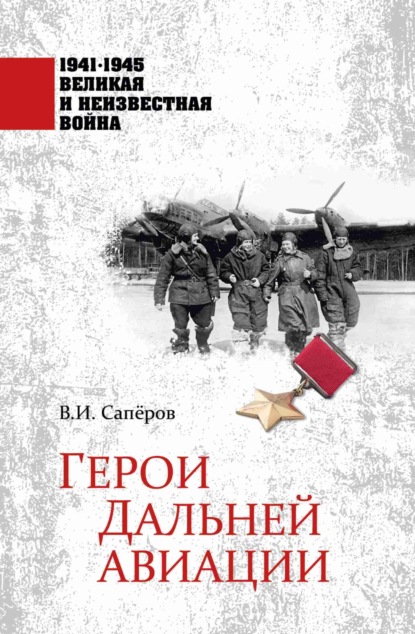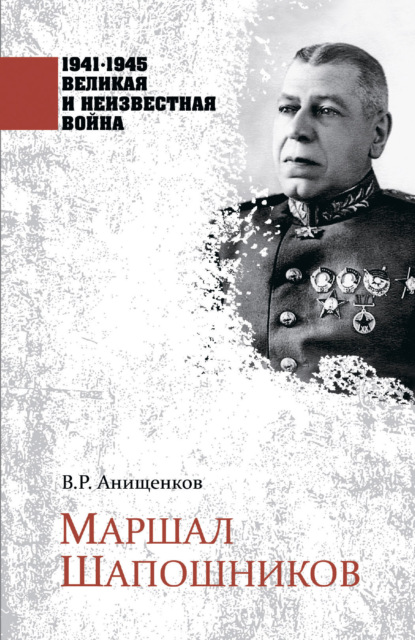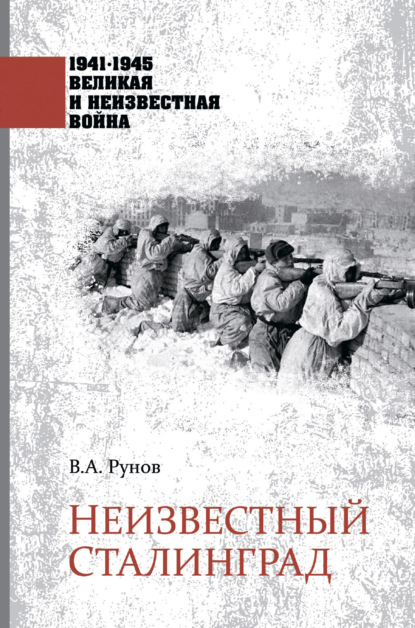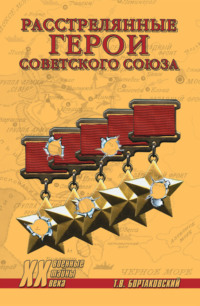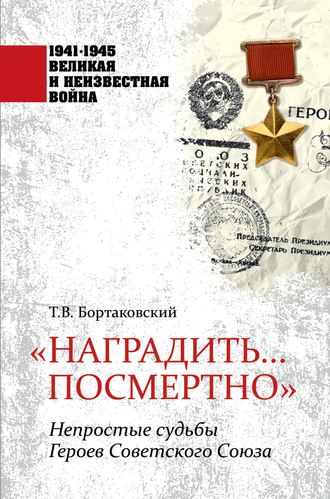
Полная версия
«Наградить… посмертно». Непростые судьбы Героев Советского Союза
В июле 1940 года с третьего курса техникума по путевке комсомола Анвар Гатауллин был направлен в Пермскую военную авиашколу летчиков, которую закончил в декабре 1940 года.
С декабря 1940 по ноябрь 1942 года обучался сначала в Новосибирской летной школе, а затем окончил Омскую военную авиационную школу пилотов.
C 28 декабря 1942 года по июнь 1943 года находился на боевой стажировке в 17-м учебно-тренировочном авиационном полку, базировавшемся близ г. Сосновка Тамбовской области, где проходил оттачивание техники пилотирования на самолете Пе-2.
Данный тип бомбардировщика, или, как его ласково называли советские летчики, «пешка», в 1943 году стал наиболее массовой машиной в советской фронтовой бомбардировочной авиации. Первоначально задуманный и спроектированный как высотный истребитель, он был быстро переделан в боевую машину совершенно другого назначения – пикирующий бомбардировщик. Экипаж самолета состоял из трех человек: летчика, штурмана и стрелка-радиста. На вооружении имелось 4 пулемета, нормальная бомбовая нагрузка составляла 600 кг (максимальная – 1000). Скорость полета находилась на уровне 450–500 км/ч. Дальность полета с бомбами – 1200–1300 км.
Несмотря на ряд недостатков, обусловленных быстротой переделки в бомбардировщик, Пе-2 оказался весьма эффективным самолетом. Однако среди летного состава отношение к нему сложилось неоднозначное. С одной стороны, это была современная для того времени машина, с отличными летными характеристиками, неплохим оборудованием и автоматикой. С другой стороны – «пешка» оказалась сложна в пилотировании, особенно при взлете и посадке. В случае небрежностей управления при торможении самолет во время пробега проявлял склонность к капотированию – опрокидыванию машины на нос. На разбеге – имел тенденцию к развороту.
В целом до конца войны Пе-2 сохранил высокую боевую эффективность и оставался наиболее распространенным советским бомбардировщиком. Всего за 1940–1945 годы, по разным данным, было выпущено чуть более 11 тысяч самолетов Пе-2 в различных модификациях.
С 10 июня 1943 года Анвар Гатауллин участвовал в боевых действиях в составе 99-го гвардейского Забайкальского отдельного разведывательного авиационного полка. 26 июля 1943 года ему было присвоено воинское звание «младший лейтенант». В качестве летчика-командира экипажа, а затем командира звена он вел воздушную разведку войск, скоплений техники, стратегических объектов и коммуникаций противника, производил фотографирование вражеских оборонительных линий на Брянском, Прибалтийском и 2-м Прибалтийском фронтах.
Орловская (12 июля – 18 августа 1943 г.), Брянская (1 сентября – 3 октября 1943 г.), Старорусско-Новоржевская (18 февраля – 1 марта 1944 г.), Режицко-Двинская (10–27 июля 1944 г.), Мадонская (1–28 августа 1944 г.), Рижская (14 сентября – 22 октября 1944 г.) наступательные операции. При их подготовке и проведении советскому командованию требовались точные данные о расположении вражеских войск и глубине его обороны. Экипаж Гатауллина всегда направлялся на особо опасные и трудные задания. Несмотря на сложность обстановки, он постоянно доставлял ценные разведданные о местонахождении войск противника. Трудно представить, сколько солдатских жизней было сохранено благодаря этим сведениям.
10 октября 1944 года гвардии старший лейтенант Анвар Гатауллин на самолете Пе-2 вылетел на очередное боевое задание. Вместе с ним в полет отправились штурман (летчик-наблюдатель) гвардии старший лейтенант Хрусталев Павел Иванович и воздушный стрелок Герой Советского Союза гвардии старший лейтенант Никулин Дмитрий Егорович. Экипажу предстояло произвести фотографирование переднего края немецкой обороны в районе городов Добеле – Ауце (ныне территория Латвийской Республики). Во время очередного захода над позициями противника самолет был подбит огнем зенитной артиллерии. Понимая всю безвыходность сложившейся ситуации и не желая сдаваться в плен врагу, гвардии старший лейтенант Гатауллин направил горящий самолет на позиции немецких артиллерийских и минометных батарей…
Представляя 29 октября 1944 года гвардии старшего лейтенанта Анвара Гатауллина к высшей правительственной награде, командование авиаполка отмечало: «Участвуя на фронте Отечественной войны с 10 июня 1943 года, проявил себя смелым, мужественным, волевым, инициативным летчиком – командиром звена, умелым руководителем подчиненного ему летного и технического состава звена. Обладая большим опытом ведения воздушной разведки – умело и грамотно передавал его в звене и эскадрилье. В процессе ведения воздушной разведки его экипаж в полку первым освоил перспективное фотографирование на самолете Пе-2.
За период боевой работы на фронтах экипажи его звена хорошо освоили ведение воздушной разведки и площадное фотографирование и все они дважды, трижды и четырежды отмечены высокими Правительственными наградами и отлично ведут воздушную разведку войск противника.
Лично тов. ГАТАУЛЛИН произвел 110 успешно-выполненных боевых вылетов, из них: 3 на бомбардировку коммуникаций противника, 43 на фотографирование площадей переднего края обороны противника и 64 на воздушную разведку. 8 раз по заданию Командующего ВА и фронта производил перспективное фотографирование переднего края обороны противника с высот 300–400 м.
Несмотря на интенсивный огонь всех видов оружия – все задания выполнены отлично.
Отлично выполнял боевые задания в любых метеорологических условиях. В своих полетах без прикрытия истребителей и при сильном противодействии зенитной артиллерии и истребителей п-ка сумел вскрыть и установить: движение по грунтовым и шоссейным дорогам: 34.810 автомашин с войсками и военными грузами, 376 танков на месте и в движении, 1293 ж.д. эшелона, базирование авиации на аэродромах противника, 1672 разнотипных самолета.
Произвел фотографирование, главным образом, переднего края обороны противника, укреплений и сооружений площадью 8762 кв. км., этим самым оказав огромную помощь наземному и воздушному Командованию в проведении успешных операций наших войск 2 Прибалтийского фронта.
Фотографированием площадей вскрыто наличие 1198 арт. орудий, 180 батарей зенитной артиллерии, 595 ДЗОТов, 3350 пулеметных точек, 1446 минометных батарей, 70 противотанковых орудий, 15 переправ, 40 складов с горючим и боеприпасами, 196 отдельных орудий.
На коммуникации, живую силу и технику противника сбросил 9.200 кг авиабомб и распространил 3.000.000 экз. листовок в тылу противника.
За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых заданий по разведке и фотографированию войск, техники и обороны противника награжден – двумя орденами «КРАСНОЕ ЗНАМЯ», орденом “АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ” и орденом “ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА” 1-й степени.
После последней правительственной награды совершил 20 успешно выполненных боевых вылетов на оперативно-тактическую разведку. Проявляя исключительное мастерство, смелость, бесстрашие и находчивость, произвел фотографирование 7 оборонительных рубежей, общей площадью 1470 кв. км, где вскрыто 280 пулеметных точек, 20 противотанковых орудий, 26 минометных батарей, 50 арт. батарей, 8 складов, 8 отдельных орудий, 8 ДЗОТов, 2 км лесного завала.
Одновременно вел воздушную разведку, где вскрыл наличие движения по шоссейным дорогам 1260 повозок и 2335 автомашин с войсками и грузами, скопления и в движении 231 ж.д. эшелон, базирование авиации на аэродромах 1203 разнотипных самолета противника.
Обладая отличной техникой пилотирования – 20 раз приводил поврежденный самолет огнем ЗА (примечание – зенитной артиллерией) и истребителями противника на свой аэродром. 8.01.1944 года, выполняя боевой полет на фотографирование площади переднего края обороны противника по южной стороне ж.д. Новосокольники – Идрица, был интенсивно обстрелян огнем ЗА. В этом полете был убит осколком ЗА штурман самолета. Несмотря на сложность обстановки, боевое задание по фотографированию было выполнено отлично. Без штурмана за 120 км от линии фронта привел плохо управляемый самолет с перебитой тягой руля поворота на свой аэродром, где произвел отличную посадку.
Примеры отваги, мужества, героизма, проявленных при выполнении боевых заданий гвардии ст. лейтенантом ГАТАУЛЛИНЫМ, многочисленны, например:
1.07.1944 года, выполняя специальное задание, при сильном противодействии ЗА произвел фотографирование переднего края обороны противника в ограничителях: Касьяны – Жидейки – Подборовье – Тукусново. Дешифрированием вскрыто на переднем крае 135 автомашин и 150 повозок с войсками и грузами, 18 танков, 4 переправы, 75 артбатарей, 50 отдельных орудий, 70 противотанковых орудий, 86 противотанковых ружей, 63 минометных батареи, 80 отдельных минометов, 125 ДЗОТов, 890 блиндажей, 1725 пулеметных точек.
1.08.1944 года, несмотря на сильное противодействие ЗА противника, вскрыл наличие движения по шоссейным дорогам Мадона на Луксте 130 автомашин, Иецава на Ригу 140 автомашин, с Рембате на Огре 60 автомашин, Крустпилс на Рембате до 150 автомашин, на ж. д. станциях: Рига 30 эшелонов, Огре – 3 эшелона, Скривери 2 эшелона, Крустпилс 15 эшелонов. На аэродроме Биржай 60 разнотипных самолетов.
6.08.1944 г. разведкой вскрыл и подтвердил фотографированием движение по дорогам: Мадона на Коакнесе 130 автомашин, Плявинас – Рига двухстороннее движение до 100 автомашин, в городе Рига – 150 автомашин, на ж. д. станции Скривери 3 эшелона, на Рижском узле – 35 эшелонов, установлено базирование авиации на аэродромах: Румбула 25 разнотипных самолетов, Саласпилс 12 самолетов, Коакнесе 30 разнотипных самолетов.
7.09.1944 года шестью заходами под противодействием ИА и ЗА противника фотографирование площади переднего края обороны противника в ограничителях: Понури – Аватыни – Бренцани из Котрина – мз. Мендель – Ляляканс, где вскрыто 20 арт. батарей, 10 противотанковых орудий, 5 минометных батарей, 80 пулеметных точек, 2 км противотанкового рва, 4 склада с боеприпасами, 19 разных складов, 45 автомашин, 8 отдельных орудий в походе.
15.09.1944 года на высоте 600–100 м при сильном противодействии ЗА и МЗА в сложных метеорологических условиях при видимости 1–3 км произвел разведку войск противника на оперативно-тактическую глубину. При этом вскрыл и установил наличие движения по шоссейным дорогам Гружи на Цесис – 115 автомашин, 125 парных груженых повозок, Лодзине на Иерити – 125 автомашин, на ж.д. станции Иерити 4 эшелона, Лимбажи 3 эшелона, Пуателе 3 эшелона, из них – один пассажирский, Валмиера 3 эшелона, Смилтене 2 эшелона.
10.10.1944 года выполнял особо важное задание Командующего 15-й воздушной армией. С высоты 2000 метров, без прикрытия истребителей производил фотографирование переднего края обороны противника в районе Добеле – Ауце при интенсивном обстреле ЗА противника. На 4-м заходе самолет тов. ГАТАУЛЛИНА был подбит. С переднего края наши войска видели, как плохо управляемый самолет Пе-2 врезался в расположение артиллерийских и минометных позиций противника.
ГАТАУЛЛИН и его экипаж погиб смертью ГЕРОЕВ. Но в последний момент он нанес значительный урон противнику в технике и людях, до конца выполнил свой долг перед Родиной.
За выдающиеся заслуги в борьбе с немецкими захватчиками, успешное выполнение специальных заданий командования по фотографированию оборонительных рубежей и переднего края обороны противника, проявленные при этом бесстрашие, мужество, отвагу и героизм – представляю к высшей правительственной награде – званию “ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА”.
Командир 99-го отдельного гвардейского разведывательного авиационного Забайкальского полка
гвардии подполковник Н. Щенников
29 октября 1944 года».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и героизм гвардии старшим лейтенантам Гатауллину Анвару и Хрусталеву Павлу Ивановичу было присвоено звание Героев Советского Союза (посмертно).
По имеющейся информации, входивший в состав экипажа воздушный стрелок Герой Советского Союза гвардии старший лейтенант Никулин Дмитрий Егорович за последний боевой вылет и совершенный огненный таран ничем награжден не был.
…Случаются и на войне чудеса, да такие, что даже неминуемая смерть отходит в сторону. Так произошло и в этот раз. Как оказалось, Анвар Гатауллин не погиб 10 октября 1944 года. У горящего самолета, который он направил на немецкие позиции, в воздухе до удара о землю взорвались бензобаки. Отважного летчика выбросило из кабины. Он упал на лес, стропы парашюта зацепились за дерево. С трудом спустившись вниз, раненный и обожженный, Анвар пополз в глубь леса, подальше от вражеских позиций. Но в дальнейшем удача, все это время благоволившая пилоту, на сей раз от него отвернулась. Гатауллина схватил немецкий патруль. Доставленный в штаб для допроса старший лейтенант на все вопросы отвечал, что ничего не знает. От предложенного сотрудничества наотрез отказался. Так ничего и не добившись, фашисты направили летчика в лагерь военнопленных близ латвийского города Вентспилс.
Осенью 1944 года в западной части Латвии (исторически известной как Курляндия) закрепились части 16-й и 18-й немецких армий из группы армий «Север». К исходу 10 октября 1944 года они оказались отрезанными от группы армий «Центр», после выхода частей 51-й советской армии к балтийскому побережью в районе севернее Паланги.
В результате образовался Курляндский котел (известный также как Курляндская крепость), в котором находилось около 30 дивизий неполного состава общей численностью в 400 тысяч человек. Немецкие части не были полностью блокированы или отрезаны от Германии. По Балтийскому морю через порты Лиепая и Вентспилс им поставлялись продовольствие, боеприпасы, медикаменты. В Германию перебрасывались целые дивизии из состава группировки, а также эвакуировались раненые и пленные.
С 9 марта 1945 года Анвар Гатауллин содержался в лагере военнопленных, располагавшемся в окрестностях немецкого города Росток, из которого был освобожден 1 апреля 1945 года наступающими частями Красной армии.
С 8 июля 1945 года вместе с другими офицерами, побывавшими в немецком плену, Анвар Гатауллин проходил спецпроверку в 362-м запасном стрелковом полку 33-й запасной стрелковой дивизии в г. Муром Владимирской области. После выяснения всех обстоятельств и снятия подозрений, 18 ноября 1945 года, вернулся в свою часть – 99-й отдельный гвардейский разведывательный авиационный Забайкальский полк, базировавшийся возле латвийского города Крустпилс. Именно там он узнал, что ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Вскоре ему вручили заслуженные награды – орден Ленина и «Золотую Звезду» за № 8851.
1 сентября 1947 года Анвару Гатауллину было присвоено воинское звание «капитан», а 19 ноября его назначили заместителем командира эскадрильи.
С 14 ноября 1949 года гвардии капитан Гатауллин проходил службу в Забайкальском военном округе в 358-м бомбардировочном авиаполку 156-й бомбардировочной авиадивизии возле станции Бада.
В этой авиадивизии он служил на разных должностях до середины 50-х годов. 30 ноября 1951 года Анвару Гатауллину было присвоено воинское звание «майор», а 12 марта 1954 года – квалификация «Военный летчик 2-го класса».
10 декабря 1955 года по состоянию здоровья подполковник Анвар Гатауллин вышел в отставку и вернулся в родной город Пермь. С 10 января 1958 года и до последних дней своей жизни работал диспетчером в испытательном цехе моторостроительного завода им. Я.М. Свердлова Министерства авиационной промышленности СССР (ныне – ОАО «Пермские моторы»).
Участвовал в военно-патриотической работе с молодежью, часто выступал перед школьниками и студентами с воспоминаниями и рассказами о войне.
Скончался А. Гатауллин 25 августа 1994 года прямо на рабочем месте. Похоронен на Южном кладбище г. Перми.
В 2002 году одной из улиц Перми было присвоено имя Героя Советского Союза Анвара Гатауллина. Его имя также увековечено на мемориальных плитах гарнизонного Дома офицеров и завода «Пермские моторы», запечатлено на «Аллее памяти Героев» у здания Пермского государственного архива новейшей истории. На доме № 79 по ул. Петропавловской, где проживал А. Гатауллин, установлена мемориальная доска.
Награжден: присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» № 8851 (1945 г.), двумя орденами Красного Знамени (1943 г., 1944 г.), орденом Александра Невского (1944 г.), двумя орденами Отечественной войны 1-й степени (1944 г., 1985 г.), медалями, в т. ч. «За боевые заслуги».
ИсточникиЦАМО, фонд 33, опись 793756, единица хранения 10, № записи 150006465.
ЦАМО, фонд 33, опись 686044, единица хранения 2172, № записи 19154277.
ЦАМО, фонд 33, опись 690155, единица хранения 7565, № записи 35738251.
Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т. 1. М.: Воениздат, 1987. С. 315.
Шейнман Л.Е. – биография Гатауллина А.А. на сайте «Герои страны» http: //www.warheroes.ru
Золотые Звезды Прикамья. 4-е изд. Пермь: Пермское книжное издательство. С. 87–89.
Герой Советского Союза генерал-майор медицинской службы ДЫСКИН ЕФИМ АНАТОЛЬЕВИЧ (10.01.1923–14.10.2012)
Ефим Анатольевич Дыскин родился 10 января 1923 года в семье служащего еврея в деревне Короткие Почепского уезда Гомельской губернии (ныне территория Почепского района Брянской области).
С юношеских лет Ефима отличали талант и трудолюбие. В школе он читал в оригинале немецких писателей и философов, знал наизусть и прекрасно декламировал стихи своих любимых поэтов Пушкина и Маяковского, был лучшим шахматистом в классе, имел первый разряд по волейболу.
В июне 1940 года, по окончании средней школы № 3 города Брянска, Е. Дыскину вручили аттестат с отличием. Он давал право на поступление в любой институт без экзаменов. Ефим направил документы в Московский институт истории, философии и литературы им. Н.Г. Чернышевского (МИФЛИ).
Незаметно пролетел первый год учебы на экономическом факультете. Проводя все свободное время за книгами, Ефим даже не успел толком познакомиться со столицей. В понедельник 23 июня 1941 года предстояло сдать последний экзамен, и прощай, первый курс. В кармане уже лежал купленный заранее билет в родные края. Впереди лето, отдых, долгожданная встреча с родителями и друзьями. Но сбыться этим планам было не суждено.
С утра 22 июня Ефим направился в библиотеку, чтобы получше подготовиться к предстоящему экзамену. Обложившись книгами, он увлеченно стал изучать материал. В полдень в читальный зал вошел высокий юноша с растерянным лицом и сказал, обращаясь ко всем: «Ребята, закрывайте книжки – началась война!»
Советская молодежь, воспитанная в духе любви к Родине, не дожидаясь призыва, ринулась осаждать пороги военкоматов, чтобы в первых рядах бить вероломного врага. Был среди них и Ефим. Но его первоначальные порывы не увенчались успехом. Лишь в августе 1941 года Сокольнический райвоенкомат города Москвы призвал Е. Дыскина в ряды Красной армии и направил в военную школу в подмосковный город Бронницы, где в ускоренном темпе ему предстояло освоить специальность артиллериста-зенитчика.
Позднее Ефим Анатольевич вспоминал: «Занятия были очень напряженными, и учились мы все с большим прилежанием: изучали материальную часть – 37- и 87-миллиметровые зенитные орудия, тренировались в практической стрельбе из них по воздушным и наземным целям. У меня дело спорилось: довольно хорошо овладел этим вооружением, командиры нередко отмечали меня с лучшей стороны. Да и никого из моих сослуживцев подгонять не приходилось – все понимали, что скоро от степени усвоения всей этой науки будет зависеть жизнь на передовой. Но долго учиться не пришлось – немцы приближались к Москве. Получив начальную подготовку, позволяющую более или менее уверенно чувствовать себя возле орудий, мы были направлены в действующую армию».
Красноармейца Е. Дыскина направили служить во вновь формирующийся 694-й артиллерийский полк. На его вооружении поступили 37-мм автоматические зенитные пушки образца 1939 года («61-К»), разработанные на базе 40-мм шведской пушки «Bofors». Это были первые советские автоматические зенитные пушки, запущенные в крупносерийное производство. Это было вполне современное орудие. Конструкция пушки оказалась очень удачной, что подтверждается ее продолжительной службой и созданием массы модификаций. Всего было выпущено 18 872 орудия. На 22 июня 1941 года на вооружении в Красной армии имелось 1214 таких пушек, и еще 44 – в Военно-морском флоте.
37-мм автоматическая зенитная пушка образца 1939 года представляла собой одноствольное малокалиберное орудие на четырехстанинном лафете с неотделяемым четырехколесным ходом. Время перевода пушки из походного положения в боевое составляло 1 минуту. Автоматика орудия работала за счет использования отдачи при коротком ходе ствола и обеспечивала темп стрельбы до 180 выстрелов в минуту, практическая скорострельность составляла – 60, а непрерывной очередью – 80–100.
Пушка заряжалась из металлических обойм емкостью 5 выстрелов, вручную подававшихся сверху в магазин заряжающим, причем новая обойма могла быть подана до израсходования предыдущей, что обеспечивало возможность ведения непрерывного огня.
Масса пушки в боевом положении доходила до 2100 килограммов. Наибольшая дальность стрельбы составляла 8500 метров. Дальность прямого выстрела – 940 метров. Пушка пробивала броню до 47 мм под углом встречи 90° на дистанции 500 метров. Расчет орудия состоял из 7 человек.
Основной задачей 37-мм автоматической зенитной пушки образца 1939 года являлась борьба с авиацией противника. Но в 1941 году ввиду нехватки артиллерии использовалась и как противотанковое орудие.
С 20 октября 1941 года 694-й артиллерийский полк, в котором служил наводчиком 3-й батареи красноармеец Дыскин, в составе 16-й армии Западного фронта прикрывал воздушные подступы к Москве. О тех днях Ефим Анатольевич вспоминал: «Один из тех октябрьских дней хорошо запомнился. Наша батарея вела огонь по прорывавшимся к столице самолетам, но и сама подвергалась интенсивному артиллерийскому и минометному обстрелу – до передовой было рукой подать. Мы понесли первые потери – были убитые и раненые. Но никто из нас, находившихся под непрерывным артиллерийским обстрелом, не покинул свое орудие и ни на минуту не прекращал огонь по самолетам и, особенно, по парашютистам. Последние представляли особую опасность, и немцы рассматривали их как наиболее эффективную живую силу. Мне этот бой запомнился и тем, что я получил свою первую награду – медаль “За боевые заслуги”.
Навсегда мне запомнился и допрос пленных немецких парашютистов, в котором я принимал участие по воле случая. Как-то в середине октября в расположение нашей части приехал незнакомый политрук и попросил командира батареи отпустить с ним на непродолжительное время кого-либо из красноармейцев, знающих немецкий язык. Выбор пал на меня, по-видимому потому, что я был “вчерашний студент”. Вскоре мы оказались в большой избе, где я увидел следующую картину. За большим столом сидел наш командир в тулупе и вел допрос троих парашютистов, взятых в плен. Когда мы вошли в избу, он спросил меня, смогу ли я перевести им то, что он будет говорить по-русски, на немецкий язык и их ответы с немецкого на русский. Я ответил, что буду стараться. Начался допрос, и я не очень точно, но по смыслу правильно, выполнял неожиданную для себя роль переводчика. В момент допроса один из парашютистов, который был ранен, попросил воды. Командир, обратившись ко мне, сказал: “Принесите ему воды”. Я вышел в горницу, там стояли ведра с водой, зачерпнул кружку и подал ее раненому немцу. Он взял ее у меня дрожащими руками, но не успел поднести ко рту, как неожиданно другой немец выбил ее у него из рук и закричал: “Наин!” Он говорил, что они победители и не будут ничего брать из рук побежденных, что Москва уже пала, что уже назначен в честь победы парад войск на Красной площади.
Ведущий допрос командир показал мне отобранный у немцев пригласительный билет в ресторан по случаю победы за подписью фельдмаршала фон Бока. Пришлось кричащего немца успокоить и сказать, что рано им торжествовать победу. Этот эпизод запомнился прежде всего тем, что он красноречиво показывал, насколько были уверены фашисты в своей победе.
Моя миссия была выполнена, и меня доставили обратно в часть. Я рассказал своим товарищам все, чему был свидетель, и это еще более ясно показало нам страшное, звериное лицо фашизма».
До начала ноября 1941 года 694-й артполк огнем своих зенитных батарей продолжал отражать налеты немецких самолетов на Москву. В середине ноября 694-й артполк занял позицию в боевых порядках общей системы противотанковой обороны на Волоколамском направлении. Положение на данном направлении складывалось крайне тяжелое. Командующий Западным фронтом генерал армии Г.К. Жуков (будущий Маршал и четырежды Герой Советского Союза) так охарактеризовал в последствии сложившуюся ситуацию: «Бои, проходившие 16–18 ноября, для нас были очень тяжелыми. Враг, не считаясь с потерями, лез напролом, стремясь любой ценой прорваться к Москве своими танковыми клиньями.