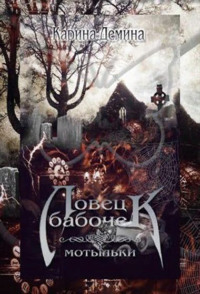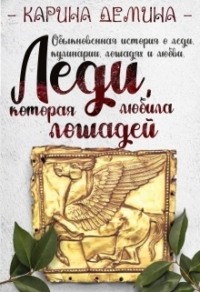Полная версия
Лиса в курятнике
Как бы странно сие ни звучало, но Монечка строго следил, чтобы подопечные его – а вольную газетную братию он полагал именно подопечными – в приливе вдохновения соблюдали и рамки закона, и от правды не слишком отрывались, а то ведь чревато.
И знал он их пречудесно.
И теперь вот, глядя на худенькую девицу в мешковатом платье, слегка мучился совестью, а может, и несварением.
– А, Лисонька, – сказал он, дверь прикрывши. И камешек достал особый, который в столе держал для разговоров приватных. Что поделать, ежели братия тут прелюбопытная и с фантазией… приходится изворачиваться. – Несказанно рад видеть вас. Чем старика потешите?
На стол лег копеечный конверт из рыхлой ноздреватой бумаги.
Его Лизавета пальчиком подвинула и потупилась, скромницу играя. Выходило у нее не особо, как и у собственной Мониной младшенькой, пусть голову и склонила, но взгляд-то, взгляда не спрячешь.
– Превосходно, просто чудесно… – Он пробежался взглядом по статейке, придержав обычное свое замечание. Пусть себе, найдется кому поправить, сделать душевней, понятней для простого народу, который на «Сплетникъ» тратиться готов. Текст-то отредактировать большого ума не надобно, а содержание… ох, горячее, и главное, писано-то так, что законнику прикормленному лишь слезу умиления смахнуть останется.
Никаких прямых обвинений, которые фактами не подтверждены.
Никакого политического подтекста.
Одна лишь обыкновенная история чиновничьей жизни. А почему бы и нет? «Обыкновенная история»… Отличнейшее названьице. Монечка сделал себе пометку и, вытащив кошель, протянул Лизавете. Ах ты, золотая его девочка.
Обидно будет, если откажется… испугается…
Впрочем, пугливой Лизавета не была. Пугливые не лезут в дела столь сомнительного свойства, а что писала она сама, в том Монечка не сомневался. Другим пусть сказки сказывает о таинственном Никаноре Справедливом, народном защитнике и разоблачителе, герое и любителе подглядывать в замочные скважины.
– Лисонька, – Монечка решился, хотя решение далось ему нелегко, – я понимаю, что вы у нас девушка безмерно талантливая, потому и хочу предложить вам одно дело.
– Мне?
Хлопнули рыжие ресницы.
А веснушки побледнели.
Испугалась?
Если и так, то ненадолго.
– Вам, Лисонька, вам. Мы… как бы это выразиться, давно с вами сотрудничаем…
С того самого первого дня, когда в редакцию явилась худенькая девица в дрянном платье и потребовала немедля принять ее в штат.
Монечка на девицу поглядел.
И принял.
А что, о цветочных выставках и собачках тоже кому-то писать надобно, раз уж прочая братия, избалованная свободой, полагала сие оскорбительным. Девицы не бывают репортерами?
Окститесь, может, и не бывают, но куда еще сиротке податься?
В гувернантки?
Не с ее происхождением. И не с ее характером.
А тут… Девица оказалась ответственною, выставки посещала, собачек разглядывала. Порой писала в рубрику дамских советов, причем делала сие бойко, без лишнего занудства. Ей же чуть позже поручили вычитку статеек, ибо не все в редакции обладали должною грамотой, а заодно и разбор корреспонденции. Однако Монечка не удивился, когда спустя полгода девица принесла серый конверт и робко поинтересовалась:
– Глянете?
Монечка глянул и зажмурился. Нет, «Сплетникъ» имел определенную репутацию и случалось ему писывать о всяком, но вот подобное случалось редко.
Помнится, история некоего чиновника, который вел прием приглянувшихся девиц на своей квартире, обещая по результатам положительное решение вопроса, много шуму наделала. И тогда снимки, иные весьма откровенного свойства, изъяла жандармерия для разбирательства. И она весьма интересовалась настоящим именем Никанора Справедливого, однако…
Лизавета моргала.
Вздыхала.
И каялась, мол, был у нее знакомец старинный, который очень к несправедливости неравнодушен, вот он и присылает ей стенограммы со снимками. Она же лишь пишет, оформляет должным образом, а ей за то платят. Немного. Пятьдесят копеек за страницу.
Ей поверили.
Но не Монечка, нет. Он, конечно, подыграл, потому как чуял, что историйка, поднявшая тираж едва ли не вдвое, первая ласточка. А потому к чему смущать девочку неудобными догадками? Премию он ей выплатил чин чином, пусть и из собственного кармана, а заодно уж сказал, что когда ее знакомец вновь справедливость учинять решит, то пусть обращается без стеснения.
И не ошибся.
Лизавета поерзала, вцепившись в ридикюль. А он почесал лысинку и произнес:
– Лисонька, душенька моя светлая, мы с вами не один год друг друга знаем, а потому вы можете быть спокойны. – Монечка вытащил из стола белый круглый камень, а заодно и коробку с освященною иконой. – Кровью своей клянусь, что не выдам вашу тайну, и бумаги подпишем, само собой.
Она напряглась.
А Монечка уколол палец иглой и к камню прижал.
– Я…
– Вы пишете, и пишете хорошо, – махнул он рукой, – и я вовсе не про ежегодную выставку георгинов говорю, хотя, конечно, ваша правда, как-то это подозрительно, что первое место из года в год занимает сад главы попечительского совета. Однако это мелочи-с…
Глава 3
Лизавета вздохнула.
Мелочи? Знал бы он, какие страсти кипят на этой выставке! Как же, первая лента значит не только почет, но и контракт с городом на поставку цветов.
Казенные деньги сладки.
А средства хороши все. Вот и травят друг другу цветы что ядами, что магией. Вот и изыскивают способы обойти условия магического вмешательства при росте. Подкупают судей. Учиняют истерики. Чудо, что еще до убийства дело не доходит.
В прошлом году, помнится, одна престарелая княгиня, весьма рассчитывавшая поразить комиссию необычным небесным цветом своих георгинов, не чинясь, вцепилась в волосы другой престарелой княгине, которая якобы эти самые небесные цветы загубила. Тогда статейка вышла живой.
Ныне аристократия вела себя с поразительным спокойствием, хотя магией все одно пользовались. Лизавете ли не слышать ее отголоски, и оттого престранно было, что услышала их лишь она одна.
Но да, не о георгинах речь.
– Я многое успел о вас узнать, Лисонька. Еще с той первой статьи… – Глаза Соломона Вихстаховича были светлы и поразительно безмятежны. – Вы сирота… круглая… с двумя сестрами на попечении. Живете в домике двоюродной тетушки, особы весьма сердобольной в силу одиночества, но здоровьем тяжкой… сестер вы любите, аки и тетку, тратитесь на целителей, хотя подобные траты весьма болезненно отзываются на вашей семье.
– Предлагаете дать ей умереть? – Таких разговоров Лизавета не любила.
Подымалась в груди знакомая глухая ярость.
– Отнюдь. Вам двадцать четыре…
– Почти двадцать пять.
– Вы не замужем.
– Не берут. – Вот не нравился ей нынешний разговор. Совершенно не нравился.
Но Соломон Вихстахович рученькой махнул и продолжил:
– Вы проучились три года в Арсийском имени его императорского величества Николая II университете и были весьма на неплохом счету. Какая специализация? Прикладная флористика? Вам прочили светлое будущее, поскольку пусть дар ваш не так уж и ярок, но голова… голова, Лисонька, она куда важнее силы.
О да, ей это уже говорили.
И даже стипендию предлагали в три рубля ежемесячно. На три рубля она бы прожила… одна… как-нибудь… Но вот что стало бы с сестрами?
Тетушка бы не справилась. Она уже тогда…
– О вас до сих пор вспоминают с сожалением и, если случится вернуться, примут с радостью.
Вернуться?
Об этом Лизавета запретила себе думать. Некуда возвращаться. Да и незачем. Она нашла свое место в жизни, плохое или хорошее – как знать? Главное, она привыкла и, чего уж говорить, ее работа ей нравилась.
– Но о том вы, полагаю, не думаете, хотя зря. – Соломон Вихстахович сложил снимочки в конверт, а статейку перечитал еще раз. – Вам было девятнадцать, когда ваш батюшка преставился. После это назвали несчастным случаем.
– Назвали, – эхом откликнулась Лизавета.
Потому что иначе надо было бы судить ублюдка, который в пьяном дурмане магией баловаться начал. А что стационарный защитный амулет против родовой-то силы?
Отца хоронили в закрытом гробу.
И матушка не плакала.
Она стояла, держала Лизавету за руку и не плакала. А после вернулась, легла и закрыла глаза, тело не удержало раненую душу, и… Вторые похороны прошли легче первых.
– Хуже, что вашему батюшке не хватило выслуги…
Трех дней.
Всего трех дней.
– …Потому как на Севере, где ваше семейство жило ранее, он не был оформлен должным образом…
На Севере многие значатся вольными охотниками, потому как ведомство мест не имеет, а порядок блюсти надо. Сейчас, поговаривали, многое изменилось, но тогда…
– …И вас с сестрами выставили из квартиры. А заодно уж пенсию по утрате кормильца вы получаете в неполном объеме…
Пять рублей вместо двадцати пяти. «И будьте благодарны, девушка, что я вошел в ваше положение. Это дело слишком спорно, многим кажется, что ваш отец значительно превысил полномочия, и если откроют доследование…»
– Вам повезло, что у вас нашлась старшая родственница, иначе ваших сестер отправили бы в приют. – Соломон Вихстахович протянул платочек.
– Зачем…
Она приняла.
– Зачем вы…
– Затем, чтобы вы, заигравшись, не решили, что слишком умны, что никто-то ничего не поймет. У вас много врагов, Лисонька. И дознайся кто… – Он выразительно замолчал.
О да, воображением, что бы там ни говорили, Лизавета обладала преизряднейшим, а потому сглотнула. Она ведь и вправду… В первый раз, конечно, боялась, да что там боялась – бессонницу заработала, все вслушивалась, не поднимается ли кто по старой скрипучей лестнице. Не останавливается ли, спрашивая про Лизавету. Не…
А после страх ослаб. Помогли ли тетушкины капли, которые Лизавета таскала тайком, либо же сама собой успокоилась, но во второй раз было легче, а там как-то вовсе попривыклось. Более того, появился престранный кураж.
– Вот-вот. – Соломон Вихстахович покачал крупной своею головой. Из-за обширной лысины, выставлявшей на всеобщее обозрение неровную, бугристую какую-то поверхность черепа, смуглой кожей обтянутого, эта голова гляделась еще крупней обычного, что странным делом внушало подчиненным уважение. Мол, раз голова велика, то и разума в ней изрядно будет. С последним утверждением Лизавета могла бы поспорить, но, помилуйте, кто в здравом уме будет спорить с барышнею?
– С того все и начинается… Головокружение от успехов. – Соломон Вихстахович сцепил на груди пухлые пальчики. Пальчики были малы и аккуратны, а грудь необъятна, и жилет в тонкую полосочку облегал ее столь плотно, что, казалось, того и гляди треснет. – Ваши статьи, безусловно, преталантливые… и весьма необходимые, ибо и властям стоит напоминать, что они далеко не всеведущи. Но главное, они взволновали общественность. А с нею и некие конторы, привлекать внимание которых себе дороже.
О конторах, упоминать которые вслух считалось признаком крайне дурного тона, особенно средь газетной братии, по душевному складу всегда пребывавшей к оным конторам в оппозиции, Лизавета как-то и не подумала.
Но она же…
Да, иногда приходилось нарушать закон. По малости. Где взятку дать, где чужим именем представиться, дабы место получить, где установить кристаллы фиксации без дозволения, но, право слово, прегрешения сии были малы и совершенно незначительны по сравнению…
А будут ли сравнивать?
– Прошлым разом за редакцией два месяца наблюдали… не бледнейте, вы тогда аккурат, – Соломон Вихстахович постучал по конверту пальчиком, – открытием модного дома заниматься изволили, после вовсе в отпуск ушли, а потому на глаза не попадались. И, на счастье ваше, ищут мужчину…
Он чуть закашлялся, а Лизавета кивнула.
Мужчину.
Конечно, разве ж женщина способна на этакое? Наблюдать. Следить и выслеживать. Ковыряться в мусоре чужих жизней, выискивая намеки на… Неважно.
И разве женщина способна писать о чем-то помимо шляпок? Или вот того самого модного дома, в котором Лизавете случилось побывать. Ах, кто бы знал, какие бои кипят средь кружев и атласов! Но разве ж сие кому интересно!
– Но сейчас… не хотелось бы вас пугать, однако госпожа Бжизикова не так давно сделала весьма примечательный заказ у Апраксиной. – Соломон Вихстахович, редко покидая кабинет, непостижимым образом умел оставаться в курсе всех мало-мальски важных слухов. И более того, делая из оных слухов удивительные выводы, редко ошибался. – А сами знаете, ее шляпный салон…
Открывает двери лишь для избранных, тех, кто способен выложить сто двадцать рублей за простенькую шляпку.
Доход у Бжизикова, конечно, имелся, но вот чтобы такой… Хотя, может, женщина нашла себе любовника состоятельного? Все ж о супружеской верности в этой семье речи не шло.
– И потому, полагаю, слухи, что в самом скором времени господина Бжизикова ждало повышение, не лишены основания.
Повышение?
Для этого? Хотя, конечно, с точки зрения властей Бжизиков был удобен: спокоен, относительно честен, взятки и то он брал редко – то ли из страху, то ли стесняясь.
Лизавета вздохнула.
– Более того, есть основания предположить, что повысили бы его не просто так, а по личному пожеланию князя Навойского.
Лизавета прикрыла глаза.
Если так…
Это ощущение оглушающей беспомощности было хорошо ей известно. Более того, оно казалось всецело изжитым. А поди ж ты, вернулось вместе со слабостью в руках, позорной дрожью в коленях и слезами, что навернулись на глаза. Моргни – и прольются, полетят по щекам этаким ярчайшим признаком женской слабости и полной ее, Лизаветы, никчемности.
– Буде вам, дорогая, – с упреком произнес Соломон Вихстахович, платочек прокуренный протянув. – Это слухи, и только. А даже если нет, то у властей свой интерес, а у нас, как говорится, свой. И в завтрашний выпуск, вечерний полагаю, вставить успеем. Однако же вам, Лисонька, придется…
– В-выставкой г-георгинов заняться? – У Лизаветы все же получилось не расплакаться. Стоило ли благодарить за это платок, от которого терпко пахло табаком и мятными конфетами, которыми Соломон Вихстахович заедал горькие цигарки, или же собственную выдержку, она не знала.
– Выставкой? Ах, помилуйте, кому они ныне интересны? Есть дельце иное. Скажите, вам ведь титул отошел?
– Титул? – Лизавета моргнула.
– Титул, – повторил Соломон Вихстахович. – Вашей бабки. Помнится, она баронессой была.
– Мы не были знакомы.
– Конечно, не были. Ваша матушка, помнится, изволила покинуть отчий дом в некоторой спешке, тем самым расстроив помолвку. А после и вовсе вышла замуж за человека крайне неподходящего, чем весьма огорчила вашу бабку.
Про старуху Лизавета знала лишь, что та в принципе существовала.
– Полагаю, отношения между ними окончательно испортились. Однако после смерти вашей бабушки…
Скончалась она через месяц после матери.
– …вам достался титул.
А остальное имущество, к слову весьма немалое, отошло храму. И ладно бы дом, на него Лизавета не стала бы претендовать, как и на поместье, и на прядильную мануфактуру, но… Она написала письмо. Наступила гордости на горло и написала треклятое письмо, прося выделить малую сумму на содержание сестер. Что такое сто рублей, когда храму отошла без малого сотня тысяч?
Ей же ответили.
Любезно так. Мол, сочувствуем вам в вашем горе, однако же не смеем нарушить волю покойной, а потому обойдитесь благословением, и если уж совсем тягостно станет, то двери монастырей всегда открыты для новых трудниц.
Сволочи.
Небось, если бы бабка и титул могла храму передать, она бы так и сделала. Однако…
– С юридической точки зрения вы, безусловно, баронесса.
– И что?
– А то, дорогая… – Соломон Вихстахович извлек из ящика стола еще одну бумажку. – Извольте ознакомиться. Это появится в утрешних газетах. Во всех утрешних газетах.
Лизавета пробежалась взглядом по тексту.
Серьезно?
Конкурс красоты? Общеимперский. И приглашаются все девицы благородного сословия в возрасте…
– Вы… – она все же, несмотря на волнение, была сообразительна, – хотите, чтобы я…
– Хочу, Лисонька. И не просто хочу. Я прямо-таки жажду. – Соломон Вихстахович извлек из кармана жилета крупные часы. – Сами посудите, этакое мероприятие – благостное… и с немалым профитом. Для многих особ сие будет единственным шансом не только оказаться при дворе, где может, как понимаете, произойти всякое, но поговаривают, что его императорское высочество вошел в тот несчастливый возраст, который именуют брачным.
Лизавета сглотнула.
Вот во дворец ей хотелось меньше всего.
– А подходящей невесты во всей Европе не сыскалось. Вот и решил обратить высочайший взор на красавиц земли родной.
Соломон Вихстахович замолчал. Правда, ненадолго.
– Но это, дорогая моя, слухи, и только слухи. Правда, вам ли не знать, сколь живучи они бывают. Так что, чую, будет интересно.
– Меня не допустят.
Лизавета давно уж не отличалась прежней наивностью.
– Отчего ж? Вам двадцати пяти нет. Титул имеется, дар тоже. Девичество свое…
Лизавета густо покраснела.
– …вы, смею надеяться, не утратили.
– Но вы же понимаете…
– Я понимаю, что власти желают показать себя с наилучшей стороны, а то в последнее время как-то чересчур уж много расплодилось нехороших слухов. И за конкурсом, который проводится под патронажем ее императорского величества, будут наблюдать весьма пристально. А потому отказать вам в первом туре не посмеют. Что до остального, то всецело уповаю на ваш ум.
Льстить Соломон Вихстахович умел и любил, здраво полагая, что куда большего от человека можно добиться словами лести, нежели угрозами.
– И способности, которые вы явили в прочих делах. Главное, Лизавета, в политику не суньтесь, грязь там преизряднейшая. А вот скандалы, как понимаете, публику нашу заинтересуют.
А скандалы будут.
Если уж выставка несчастных георгинов не обошлась без оных, что говорить об этаком конкурсе? Лизавета сглотнула. Отказаться? Соломон Вихстахович не выдаст. Отправит куда-нибудь, в творческую командировку например, но не выдаст… Пересидеть, а там и вовсе заняться делом иным.
Каким?
Лизавета не знала.
Пока.
Она подвинула листочек поближе.
– Нужен будет приличный гардероб.
– Этим займется модный дом Ламановой, – отмахнулся Соломон Вихстахович. – Особое распоряжение. Все ж там, – он ткнул пальцем в потолок, – понимают, что возможности у людей разные, и не желают превращать конкурс в демонстрацию чьего-то семейного состояния.
– И что от меня потребуется?
– Ничего особенного, деточка. Смотреть, примечать. Писать. Тем, полагаю, будет преизрядно. Я дам вам почтовую шкатулку. И подумайте вот еще над чем, Лисонька. Газетчиком быть, оно, конечно, преинтереснейшее занятие, но все ж…
– Не женское?
– Небезопасное. Вам ли рассказывать, что порой с нашими утворяют. А вы все ж девица, вам ли в этой грязи ковыряться? А там… поосмотритесь, глядишь, и найдете себе новое занятие.
– Или жениха, – мрачно произнесла Лизавета.
– Или жениха, тоже неплохо. Там ведь соберутся многие, да… Раз уж цесаревич желание изъявил расстаться с вольною жизнью, то и другие найдутся.
В полупрозрачных глазах Соломона Вихстаховича виделось Лизавете плохо скрываемое сочувствие. Правда, с чего бы ей сочувствовать, когда с долгами она, почитай, расплатилась. И конечно, если бы еще заработать на учебу… Дар у сестер имелся, не чета Лизаветиному, вот только одного дара маловато. Небось места, государством оплаченные, на годы вперед расписаны.
На столе появился плотный кошель.
– Если согласитесь, я вам двести рублей выплачу. Авансом, так сказать. – Соломон Вихстахович кошель подвинул к Лизавете. – Кажется, этого хватит на первоначальный взнос?
И все-то он о ней знает. И это неприятно.
Однако двести рублей… Год обучения стоит почти пятьсот, а заем девице не дадут без мужского поручительства или имущества. Их же квартирка, купленная тетушкиным супругом покойным, едва ли на пять сотен потянет.
Для Ульянки хватило бы. Есть еще кое-что, накопленное. И если пойти не в банк…
– Коль вас примут, а я надеюсь, дорогая, что вас все ж примут, я заплачу еще триста. Пройдете первый тур, передам вашей тетушке пятьсот.
Два года для Марьяшки.
И этого хватит, чтобы после претендовать на стипендию государственную или хотя бы малую подработку найти. Небось целителям с подработкой проще, нежели флористам-недоучкам.
– Пройдете два, получите еще пятьсот. И учтите, что все конкурсантки, добравшиеся до финала, получат ценные призы из рук ее величества, а вам ли рассказывать, сколько будет стоить подобный знак внимания в денежном, так сказать, эквиваленте.
Лизавета закрыла глаза.
Если так… Она ведь не будет делать ничего дурного, и в политику не полезет, и…
– А вам, – сглотнув, Лизавета решилась-таки задать вопрос, – какая с того выгода?
– Обыкновенная. – Соломон Вихстахович вопрос сей понимал, как и Лизаветины суматошные мысли, и всю ее видел, как она есть, вместе с искушениями, сомнениями и неуверенностью, которую Лизавета тщательно скрывала, притворяясь кем-то совершенно иным. – С одного проданного нумера я имею копейку прибыли. Обычно нумеров продаю двести тысяч.
Это… это получается, с одного выпуска Соломон Вихстахович имеет почти две тысячи рублей? Если Лизавета верно посчитала.
А нумера выходят через день.
И если так…
– Полагаю, что в ближайшем будущем тема конкурса станет самою главной, а потому на хорошем материале продажи можно поднять вдвое, если не втрое.
Лизавета прикрыла глаза.
И это получается… А она своим сорока рублям радовалась!
– И за каждую статью сто рублей. Коль сильно интересная, то и двести, – великодушно предложил Соломон Вихстахович. – Подумайте, Лизавета, всего-то какой-то месяцок, и вы разрешите многие свои проблемы.
Лизавета подумала.
Еще раз подумала.
Вздохнула – и согласилась. Видит Бог, она сочинять не станет, а напишет как оно есть. Хотелось бы знать, как оно вообще будет…
Глава 4
Доверенное лицо, приятель и молочный брат его императорского высочества цесаревича Алексея Димитрий, князь Навойский, предавался меланхолии, причем делал сие с немалым удобством. Он занял креслице, обитое красною лайковой кожей, в которой утонули золотые гвоздики, возложил ноги на стол, инкрустированный перламутром и янтарем, но хотя бы сапоги снял, а потому имел редчайшую возможность полюбоваться собственными носками.
Левый был зелен.
Правый полосат, причем синяя полоска в нем чередовалась с желтой, а на пятке полоски закручивались спиралькой, что придавало носку вид вовсе уж вызывающий. Над большим пальцем появилась дырочка, в которую оный палец стыдливо выглядывал.
В руках князь держал трубку, которую, правда, не курил, а так, пожевывал мундштук.
Следовало заметить, что нынешнее состояние было нехарактерно для обычно живого и, по мнению многих, чересчур уж живого человека. Он, пребывавший в вечном движении, ныне казался куда более тусклым и невзрачным, нежели обычно. Князь вздохнул и, потянувшись, поднял со стола премерзкую газетенку, испортившую не только утро, но и весь последний месяц работы.
Он щелкнул пальцами, выпуская язычок огня, и с немалым наслаждением подпалил угол. Желтоватая дешевая бумага вспыхнула моментально. Черное пятно расползалось, сжирая и строки статейки – следовало сказать, весьма убедительной, – и испорченные низкого качества типографией, но все ж узнаваемые лица…
– Страдаешь? – Дверь отворилась без стука, и в кабинете запахло кофием.
– А то…
Князь перехватил газетку за уголок и сунул в графин с водою. Графин вообще-то поставлен был для нужд посетителей, которые через одного отличались слабым здоровьем и повышенною нервозностью. То ли в кабинете было дело, то ли в самом князе, то ли в конторе его, славу определенную сыскавшей, однако графин частенько приходилось использовать.
Цесаревич поднял очередной выпуск «Сплетника» – подчиненные, зная норов и трепетное отношение начальства к сей газетенке, благоразумно приобретали сразу пачку – и, скрутивши трубочкой, стукнул князя по макушке.
Тот лишь поморщился.
– Я ночей не спал…
– Не ты один. – Цесаревич уселся на стол, проигнорировавши креслице для посетителей – а и верно, вид оно имело премрачнейший, ибо сбито было из толстого бруса, покрашенного явно наспех бурою краской, и тем навевало весьма печальные мысли о местах не столь отдаленных.
– Думаешь, легко среди всей этой кодлы отыскать человека хоть сколько бы то ни было порядочного? – Князь пошевелил пальцем ноги, который от этого движения взял и вовсе выскользнул в дырку. – А чтоб еще и не полный дурак…
Цесаревич вздохнул.