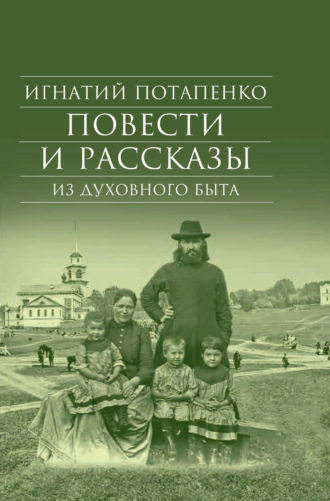
Полная версия
Повести и рассказы из духовного быта
Кириллу казалось, что работа его приносит плоды. Уже одно то его утешало, что торговля требами была совершенно искоренена. Прихожанин только заявлял о том, что у него в доме смерть, или родины, или свадьба, – и без всяких разговоров совершался церковный обряд. Заметил также Кирилл, что на обедах и закусках, где он присутствовал, хозяева не решались угощать больше, чем двумя рюмками водки, а гости и по второй пили, как бы слегка совестясь.
Конечно, он знал, что в его отсутствие они угощаются по-прежнему и что кабаки в Луговом все-таки прекрасно торгуют, но эта совестливость при нем все-таки утешала его; он рассчитывал на привычку.
Кроме неустанной работы по церковной службе, Кирилл отдавал много времени школе. Он посещал ее почти каждый день и очень скорбел по поводу того, что учитель относился к делу холодно и не любил своего занятия.
– Зачем вы сделались учителем, если это дело вам не нравится, если у вас нет призвания к этому? – спрашивал его Кирилл, когда тот в сотый раз высказывал перед ним недовольство своим существованием.
– Призвания? – отвечал тот. – У всякого человека есть призвание кушать хлеб, батюшка!
Кирилл принимался возражать против этого взгляда. Он горячо доказывал, что так жить нельзя, что такое рассуждение годится, пожалуй, для сапожного ремесла, но не для дела обучения темного человека. Он говорил, что так относиться к живому делу нечестно.
– Эх, батюшка! – возражал ему учитель. – Вот эти самые слова и я говорил восемь лет назад, а теперь пожил и вижу, что это чепуха. Жизнь – одна скука. Одно только и есть средство – жениться, взявши десятин двести земли, да заняться хозяйством.
Учителю, Андрею Федоровичу Калюжневу, было лет тридцать. Происходил он из городской чиновничьей семьи средней руки, учился в гимназии, но при переходе из шестого класса в седьмой споткнулся и бросил. Года три он все готовился и собирался то в военную службу, то в университет, то на фабрику в качестве рабочего. Но кончилось тем, что он пошел в сельские учителя, так как это оказалось самым простым и легким. О деревне он не имел понятия, но отправлялся туда не без идейной загвоздки. Кое-что слышал он и о народе, и о бескорыстной службе на поприще просвещения меньшего брата, и ему, тогда еще очень юному, пришлись эти идеи по душе. Но действительность оказалась скучной; идеи, как взятые с ветру, скоро и выветрились, и Калюжнев с течением времени превратился в работника из-за куска хлеба, не понимающего своего предмета, скучающего своим ремеслом и ищущего перемены.
Кирилл охотно посещал помещицу. Надежда Алексеевна всегда принимала его с живостью и даже с увлечением. Она всегда искала в жизни чего-нибудь выдающегося, а этот сельский священник, настолько образованный, что с ним можно было вести теоретические споры, священник, ведущий борьбу с теми самыми пороками, которые отталкивали и ее от духовных лиц, священник, стремящийся воплотить в жизнь идеи, которые и ей казались симпатичными, был для нее целым открытием. Сначала она отнеслась к нему как к явлению только интересному, но смотрела на него подозрительно и все ждала, когда же, наконец, он попросит у нее даровой зимовки для своих коров, или десятину плавни для выкоса сена, или вообще какое-нибудь даяние, к чему приучили ее отец Родион и его прежний товарищ. Но Кирилл ничего не просил. Однажды она даже спросила его, не нуждается ли он в чем-либо по хозяйству, и предложила свои услуги.
– У меня и хозяйства-то нет, – ответит Кирилл, – а если бы и нуждался, то у вас не попросил бы!..
– Вот как! Почему же?
– А вот видите, у нас с вами, слава Богу, порядочные отношения, а чуть я от вас приму материальную услугу, уж сейчас буду зависеть от вас, и вы уж непременно хоть на одну йоту станете уважать меня меньше.
Надежда Алексеевна, что называется, «занялась» оригинальным священником. В те вечера, которые они проводили втроем, где Мура являлась как бы ассистентом их беседы, она заставляла его высказывать свои взгляды на жизнь и незаметно, по частям, рассказала ему всю свою историю.
– Знаете что? – откровенно заявлял Кирилл, выслушивая от нее рассказы про московскую и заграничную жизнь. – Вы не жили еще, а только капризничали!
И он развивал ей свою теорию. Жить можно только в деревне, где и природа настоящая, и люди настоящие, и нужда настоящая. Жить без пользы для кого-нибудь – бессмысленно и обидно. У каждого найдется где-нибудь маленький уголок, где он может принести пользу. Нет надобности стремиться во что бы то ни стало сделать грандиозное дело: что-нибудь полезное сделай, и уже в твоем существовании есть плюс.
– Скажите, отец Кирилл, отчего мне иногда кажется, что вы первый вполне искренний человек, которого я встречаю в жизни? – спросила его однажды Надежда Алексеевна.
– Извините-с! Искренние люди есть на свете, я сам их встречал немало! – горячо возразил Кирилл. – Вы их не замечали, потому что смотрели на людей свысока и поверхностно. Может быть, я первый человек, которому вы сделали честь вглядеться в него как следует.
Наступила весна. В апреле Мура уже перестала ездить к Крупеевой. Ее положение сделалось серьезным. Написали в город Анне Николаевне; она приехала и привезла с собой акушерку. Едва протоиерейша переступила порог церковного дома, как сделалась мрачнее ночи. Опытным глазом она сейчас же поняла, что благосостояние молодой четы в течение почти года нисколько не улучшилось. Кое-где видны были следы бедности. Взгляд ее, привыкший останавливаться на мелочах, впился в порядочную дыру в вязаной скатерти, которою был накрыт стол. В обстановке ничто не изменилось, но в ней и не прибавилось ни одной вещицы. Все стояло так, как было устроено для первого обзаведения, то есть скудно, – ничего, кроме предметов первой необходимости, как в номере плохой гостиницы: столы, диван, кровати, комоды, несколько стульев, зеркало на комоде, стенные часы и иконы в углу. Она обошла двор, чулан, два сарая – всюду было пусто. На огороде сиротливо лежали несколько связок камыша – это осталось от зимы; в сарае не оказалось никаких признаков какого бы то ни было экипажа, хоть плохенькой брички; в другом сарае, приспособленном под конюшню, не было и тени лошади. Чулан также был пуст. Она заглянула в погреб – и там никаких признаков не только «полной чаши», а хотя бы какого-нибудь достатка.
«Ничего у них нет, ничего не нажили, – с болью думала протоиерейша, – моя дочь – нищая».
На этот раз она уже сама обратилась к Фекле с расспросами. С Мурой нельзя было говорить ввиду ее положения. Фекла окончательно убила ее своим докладом.
– Боже мой, Боже мой! – говорила она с самым искренним соболезнованием. – Что только у нас делается, даже слов не подберешь, чтобы рассказать. Все покупное: молочко стаканами покупаем, сметану, масло, все, все из лавки берем!.. Средств нету коровку завести! Помещица дарила целых две – мне это приказчик ихний говорил – не захотели: «Не могу, – говорят, – подарков принимать…». Съездить куда – у почтаря лошадей берем… Поверите ли, бедная матушка лишнее яичко скушать стесняются!.. При ихнем-то положении, сами посудите, каково это! Доходу никакого! При прежних попах, бывало, засека ломится от зерна, хлеба этого девать некуда, и курочка, и поросеночек, и теленочек, и всякая всячина. А теперь даже деньгами не берут… Вот какие порядки!.. Дьякон с дьячком прямо чуть не с голоду мрут – это я вам истинно говорю…
«Что ж это такое? Что ж это такое? – в отчаянии думала Анна Николаевна. – Такую ли судьбу я готовила своей дочери!»
Она хотела переговорить с Кириллом, но потом решила, что из этого ничего не выйдет.
«Я просто пойду к преосвященному, и отца Гавриила заставлю поехать. Пусть он его образумит. А нет, возьму да увезу Мурку к себе… Что это, в самом деле? Коли он святым хочет быть, зачем не пошел в монахи, зачем женился? Бедная моя Мурка!..»
С Кириллом Анна Николаевна почти не разговаривала и старалась даже не смотреть на него, а на Муру глядела с печалью и сожалением.
Роды кончились благополучно; протоиерейша прожила девять дней. Едва только Мура встала с постели, она распрощалась и уехала, взяв с собою акушерку. Она не хотела даже остаться на крестинах, только взяла с Муры слово, что она назовет сына в честь дедушки – Гавриилом. Она уехала с твердым решением действовать.
Марья Гавриловна замечательно счастливо перенесла болезнь. Вставши с постели, она уже чувствовала себя почти совсем здоровой и кормила сына прекрасным молоком. Мальчишка тоже был здоров. Его крестили и назвали Гавриилом. Кумовьями были – Надежда Алексеевна и дьяк Дементий, который, стоя рядом с помещицей, ужасно конфузился. Зато когда кончился обряд и Крупеева собралась уехать, он улучил минуту, когда на крыльце не было больше никого, и на правах кума попросил у нее одну десятинку земли под баштан. Надежда Алексеевна сейчас же согласилась, и Дементий был очень доволен.
Скоро после этого случилось событие, которого давно ожидали в Луговом. Однажды – это было в субботу перед вечерней – церковный сторож разглядел подъезжавшую к церкви кибитку, очень старого фасона, на высоких колесах и всю крытую клеенкой, вроде тех «фур», в которых ездят евреи, помещаясь в них по двадцати душ. Кибитка, запряженная парой, страшно тарахтела, потому что была без рессор. У калитки она остановилась, сбоку поднялся болтавшийся кусок клеенки и образовалось окошко. В это окошко выглянула женская головка с миловидным личиком, в шляпке, из-под которой выглядывали светло-русые завитки волос.
– А где тут дом священника отца Родиона Манускриптова? – спросила молодая женщина.
– Отца Родиона дом? – спросил в свою очередь сторож. – А на что вам этот дом, когда он стоит пустой? Отца Родиона уже с полгода как нету!
Тут женская головка спряталась, и на месте ее появилась голова мужчины в черной поярковой39 шляпе. Лицо было смуглое, загорелое. Сторож заметил небольшие усы и бородку. Волоса были коротко острижены.
– Здравствуй, любезный! – сказал он приятным тенорком: – Ты, должно быть, церковный сторож?
– Так и есть. Я – церковный сторож.
– А я – священник, на место отца Родиона. Покажи нам его дом, мы там жить будем… Мы его купили.
Сторож не спеша снял шапку и тоже не спеша сказал:
– Пожалуйте!
Он проводил их до самого дома и тут же увидел, что по большой дороге тянутся три воза с мебелью и всяким хозяйственным скарбом. Затем он отправился к Кириллу и доложил:
– Новый священник, который на место отца Родиона прислан, прибыл.
– А, прибыл? Милости просим! – сказал Кирилл и подумал: «Теперь это уже не так страшно. Мои порядки пустили корни».
– И такие же молодые, как вы, батюшка! – прибавил сторож.
На это Кирилл ничего не сказал, но подумал, что это к лучшему. Молодой скорей поймет его, чем старый.
На другой день, во время воскресной службы, прихожане с удивлением расступились и дали дорогу новому священнику, который пробирался к алтарю. Он был маленького роста и крепкого сложения; лицо его дышало здоровьем и самоуверенностью. Темно-лиловая ряса сидела на нем как следует и была ему к лицу. Он ступал не быстро, сдержанной благочестивой походкой. Поднявшись на возвышение у алтаря, он ударил поклон и приложился к иконе иконостаса. Вид у него был такой, точно он собирался сейчас повернуться лицом к народу и сказать краткую проповедь или, по крайней мере, объявить: «Я – священник Макарий Силоамский, прислан на место Родиона Манускриптова». Но он этого не сделал, а вошел в алтарь через боковую дверь. Тут он ударил три земных поклона и, поклонившись затем Кириллу, который стоял у престола в облачении, благоговейно стал поодаль. Так он простоял всю обедню, причем все время обнаруживал несомненное благочестие: шептал молитвы, в надлежащих местах бил поклоны или наклонял только голову, а лицо его все время выражало молитвенную сосредоточенность. После обедни он тут же в алтаре подошел к Кириллу и вежливо взял у него благословение.
– Позвольте представиться: священник Макарий Силоамский! – сказал он.
Кирилл в свою очередь представился и пригласил его зайти к нему после обедни.
– Да, да, разумеется, необходимо переговорить, – сказал Силоамский.
После обедни он пил чай у Кирилла. Он оказался веселым и разговорчивым человеком, очень много говорил про семинарию, про учителей, ректора и инспектора. Он прошлым летом кончил курс и целый год был псаломщиком. Кирилл помнил его, когда он был еще юношей, в первом классе, а Кирилл тогда кончал семинарию.
– Когда я, перед отъездом, зашел откланяться к преосвященному, он говорил мне о вас много приятного. Сказал, что вы очень умный и что у вас все должны учиться! – сообщил между прочим Силоамский.
– Спасибо преосвященному! – ответил Кирилл.
– Так уж я надеюсь, что будем жить в мире и согласии! – сказал новый священник, поднявшись, чтобы откланяться.
– Я буду этому очень рад!
Кирилл воздержался от всяких объяснений. Все объяснится само собой.
Перед вечером Обновленские отправились к помещице. Мура посетила Надежду Алексеевну в первый раз после родов. Они сидели в столовой за чайным столом. Окна в сад были открыты. Там уже цвела сирень, и комната была полна ее ароматом. Кирилл рассказывал о своем знакомстве с новым священником и выразил удовольствие по поводу того, что он молодой и что это его первый приход.
– В него еще не въелась рутина, притом и корыстные виды еще не успели овладеть им. Молодая душа доступнее добру, и вы увидите, что он будет мне добрым товарищем!..
Надежда Алексеевна слушала эти речи со скептической улыбкой. Глаза ее, устремленные на Кирилла, казалось, говорили: «Какой ты еще наивный и чистый ребенок! Не сыскать тебе товарища, потому что ты один только и есть такой!».
В это время доложили, что приехал новый священник. Надежда Алексеевна решила принять его в другой комнате и вышла туда.
Но дверь была полураскрыта, и Обновленские могли слышать разговор.
Силоамский вошел степенно и прежде всего стал отыскивать образа. Найдя маленькую иконку в углу под самым потолком, он трижды перекрестился и поклонился в ее направлении. Затем он поклонился и хозяйке.
– Позвольте представиться: вновь назначенный священник Макарий Силоамский.
Надежда Алексеевна ответила поклоном и пригласила садиться.
– Давно прибыли? – спросила она собственно для того, чтобы был какой-нибудь разговор.
– Вчерашнего дня. Но, несмотря на это, сегодня уже почел своим долгом отстоять обедню, а также представиться моему старшему товарищу, отцу Кириллу. Засим поспешил нанести визит вам. Позвольте рассчитывать, многоуважаемая Надежда Алексеевна, что встречу с вашей стороны благосклонность.
– Я к вашим услугам!
– Нет, я пока никакой просьбой вас не обеспокою, но на будущее время случиться может какая-либо нужда. Например, заведется коровка-другая – где ее содержать? Или, например, сенца недохват – к кому обратиться, как не к благосклонной помещице?
– Я к вашим услугам! – повторила Надежда Алексеевна и поднялась с лицом еще более холодным, чем при встрече.
– Более не смею вас беспокоить! – сказал отец Макарий и, тоже поднявшись, медленно наклонил голову, приложив правую руку к груди. Надежда Алексеевна кивнула головой и прибавила:
– Вот сюда!.. Не угодно ли! Эта дверь ведет в сад… У вас, вероятно, свои лошади?
– Да-с, парочку имею!.. За женой взял. Ничего, коники шустрые… Мое почтенье!..
Надежда Алексеевна возвратилась в столовую и сейчас же начала говорить о садовнике, который три дня где-то пьянствует и не появляется в саду. Она вообще избегала говорить о людях дурно, считая это уделом сплетниц.
– Что же вы ничего не скажете о вашем госте? – спросила ее Мура.
– Он произвел на меня дурное впечатление! – сказала Надежда Алексеевна и продолжала о садовнике.
Кирилл печально опустил голову и думал: «Не успел показаться на глаза, как уже спешит предупредить: я попрошайка, имейте это в виду! Еще ничего ему не нужно, а он уже боится, чтобы не сочли его человеком самостоятельным. Странное дело! откуда это берется? В семинарии этому не обучают, а жил он еще слишком мало. Неужели это вошло уже в кровь и передается из рода в род, как особая способность? Как это грустно, как это грустно!».
Вечер прошел вяло. Надежда Алексеевна была под влиянием дурного впечатления. Она старалась занимать гостей, но из этого ничего не выходило. Кирилл слушал невнимательно и отвечал неохотно. Он думал «об особой способности, вошедшей в кровь» у его собратов и «передаваемой из рода в род».
Они уехали домой рано, как только пробило девять часов. Мура спешила к ребенку. Едва они взошли на крыльцо церковного дома, как были удивлены необычайным присутствием в сенцах их квартиры гостей. Это были дьякон Симеон и дьяк Дементий. Они сидели на табуретках, поставленных Феклой специально для них. При появлении хозяев оба почтительно встали, а шляпы их оказались в руках.
– Что же это вы, господа, здесь сидите? Отчего не пожалуете в комнату? – спросил Кирилл. – Фекла, ты что же, не пригласила?
– Да я, батюшка, просила их в комнату, так не захотели, – ответила Фекла.
– Нет, ничего-с!.. Воздух хороший теперь! – нежно сказал дьякон.
Кирилл пригласил их в комнату. Марья Гавриловна ушла в спальню и занялась сыном.
– Ну, что скажете, господа? – спросил Кирилл причетников, заставив их сесть.
Дьякон откашлялся и промолвил, несколько запинаясь:
– Мы к вам, отец Кирилл, по своему делу… Давно уже собирались мы вот с Дементием Ермилычем обеспокоить ваше внимание, но между прочим…
Дьяк Дементий, очевидно, нашел, что дьякон городит неподходящее, поэтому он со своей стороны громоносно откашлялся и выпалил:
– Пропадаем, отец Кирилл, прямо пропадаем!
Кирилл поднял на него свои взоры.
– Каким образом? – спросил он.
– Прямо почти что с голоду, отец Кирилл, пропадаем!
– С голоду?
– С голоду, отец Кирилл! Крепились мы долго, боялись обеспокоить вас… Но, наконец, нету сил… Семейства большие имеем, а корму никакого; самый, можно сказать, слабый… Жалованья, которое от помещицы, никак не хватает, землицы мало, с доходов брать воспрещено и никаких нет.
– Это действительно, действительно! – подтвердил дьякон.
– Не об излишке хлопочем, отец Кирилл, а о пропитании, прямо о насущном. Дети плачут, кушать хотят, отец Кирилл.
Кирилл уже ходил по комнате, заложив руки за спину и наклонив голову. Ему теперь показалось совершенно ясным, что дьякону и дьячку действительно должно было не хватать их малого жалованья. Ему самому в обрез хватало его жалованья, а у них его было гораздо меньше, между тем детей у них масса, тогда как у него один, да и тот еще ничего не стоит ему. Положение его было затруднительное. Он сам создал их бедность, а помочь был бессилен. Если бы у него что-нибудь оставалось, он охотно предложил бы им, но этого остатка не было. Отступиться же от новых, введенных им порядков он не мог. Это была первая его победа, которую он высоко ценил.
– Отец Кирилл! – осторожно воззвал дьякон.
Кирилл остановился и посмотрел на него.
– Мы, собственно, с просьбой.
– Ну-те! ну-те! – нетерпеливо сказал Кирилл. Ему так хотелось, чтобы эта просьба была для них существенна, а для него исполнима.
– Землицы у нас мало, а у вас, отец Кирилл, побольше, и даже очень порядочно церковной земли. И притом она у вас гуляет… Так не отдадите ли нам, примерно, за четвертый сноп?
– А сколько мне земли приходится? – оживленно спросил Кирилл.
– Собственно, вам сорок четыре десятины, да в плавнях шесть, а всего пятьдесят!
– Вот и отлично! Отлично! – радостно воскликнул Кирилл, – вы ее засевайте… Засевайте себе! А мне ничего не надо! Мне некогда, не умею я, да притом мне хватает… Да, да! Засевайте, пожалуйста!
Причетники смотрели на него с недоумением.
– Как же это?.. – начал было Дементий, но решил, что лучше промолчать.
Кирилл подумал с минуту.
– Но скажите: тогда уже довольно будет? – спросил он.
– Мы очень благодарны, чувствительно благодарны! – в один голос ответили причетники и низко поклонились.
– Ну, идите с Богом и работайте, да только на меня не сердитесь!
Причетники еще раз поклонились и поспешили уйти.
– Блаженный, истинно блаженный! – сказал дьякон почти на ухо Дементию, когда они завернули уже за церковь.
– Завтра же чуть свет начнем рыть, а то, чего доброго, раздумает… Помещица отговорит либо этот отец Макарий.
– А Макарий, кажись, не таковский! Выжига порядочная… Это уже видно… В церковь пришел и такого на себя благолепия напустил, а сам, между прочим, сейчас к помещице полез, и уж наверняка канючил что-нибудь.
– Э, что! Нам теперь хорошо будет! – сказал Дементий с искренним удовольствием, похлопывая дьякона по спине, причем тот гнулся как лоза под тяжестью его руки. – По двадцать пять десятин прибавляется, да своих по пятнадцати, а всего по сорок! Да мы с вами – помещики, отец дьякон, а? Блаженный, так и есть, что блаженный! В голове у него какая-то недостача!
Когда Кирилл вошел в спальню, Мура спросила его:
– Зачем ты это сделал, Кирилл?
– Они бедствуют, Мура, действительно бедствуют! – ответил он.
– Но ведь за землю мы могли бы получить рублей шестьсот.
– А ты знаешь эту арифметику? – искренно удивился Кирилл.
– Мне Фекла объяснила! – угрюмо ответила Мура и больше не сказала ни слова.
Фекла, также слышавшая этот разговор, со страшным негодованием громыхала в кухне рогачами.
XIIОтец Макарий Силоамский принадлежал к числу тех «студентов семинарии», которые с самого первого класса, то есть еще с детского возраста, все свои способности и стремления приурочивают к определенной цели – к приходу. Приход им рисуется исключительно в виде доходной статьи, с мешками жита и мерками проса – в виде доброхотных приношений от более зажиточных прихожан, с цыплятами и курами – живыми и жареными, с пикантным ароматом свежего книша40, с грудами всякого хлеба, со всевозможными льготами и преимуществами, которые пастырю должен оказывать всякий, и вообще с полной чашей материального довольства, где всего вдоволь и все готовое. Ко всему этому, в виде дополнения, прибавляется служебная часть – обедня, вечерня, утреня и требы. Но никогда им и в голову не приходит мысль о том, с каким народом они будут иметь дело, какие обязанности возлагает на них состояние на приходе, будут ли они влиять на паству и как будут влиять. И когда они достигают желанной цели, то вырабатываются из них пастыри – исполнители треб. Их зовут на требу – они идут, а прихожане со своей стороны несут им доходы. И прихожане смотрят на них как на исполнителей и не чают от них никакой духовной пищи, кроме той, какая полагается по чину служения и по Требнику.
Эти «студенты семинарии» любознательность свою ограничивают учебниками, а из литературы читают лишь то, что находится в хрестоматиях и разных пособиях. По части богословской литературы они уходят не дальше этого. Таким образом, извне ничто им не мешает вести свою линию, то есть готовиться к приходу в смысле доходной статьи. Впоследствии, когда им приходится попасть в кружок образованных людей, они нередко поражают краткими, но авторитетными отзывами о том, что Гоголь был хороший писатель, Тургенев написал «Бежин луг», а Пушкин – «Телегу жизни» и «Бесы». На приходе он начинает выписывать «Ниву» и «Епархиальные ведомости», вполне ограничивая этим все свои связи с интеллигентным миром; а ежели на них посмотреть со стороны, то становится грустно от их ограниченности и темноты, и думается: чему они могут научить темного человека? Каким светом просветить его? Мало-помалу, с годами, они забывают даже то, что находится в хрестоматиях, и вместо того, чтобы возвышать пасомых до своего уровня, незаметно уподобляются им, впитывая в себя все их предрассудки и заблуждения.
Отец Макарий Силоамский в бытность в семинарии состоял также и архиерейским певчим. У него был высокий тенор, и одно время его светские знакомые советовали ему даже готовиться на сцену. Но он смотрел на вещи здраво, за славой не гонялся и журавлю на небе предпочитал синицу в руках, то есть приход. Архиерей назначил его в Луговое за его певческие заслуги, так как за Луговым оставалась репутация прекрасного прихода. Он купил дом отца Родиона через какого-то посредника и приехал в Луговое с самыми радужными «приходскими» мечтами. Но на первых же похоронах он был ужасно смущен, не получив никакого дохода. Ему было неловко на первом дебюте обратиться с претензией прямо к мужику. Поэтому он осведомился у причта.
– А как же насчет вознаграждения? У вас как? Когда дают? До или после?
– У нас совсем не дают! – сказал Дементий и при этом с невероятным лукавством посмотрел на дьякона.
Взгляд его говорил: «Блюдите, отец дьякон, какую он сейчас рожу скорчит!».
Но Силоамский рожи никакой не скорчил, а взглянул на него в упор, почти гневно.
– Я не ради шутки спрашиваю! – сердито сказал он. – А нужно же мне знать порядки!









