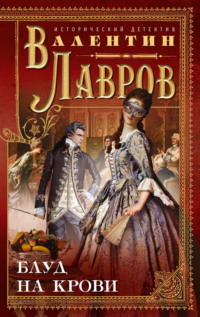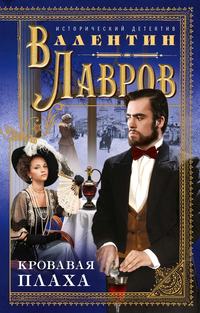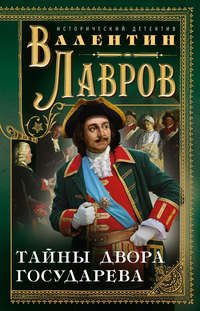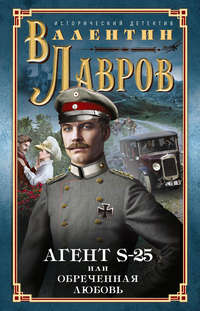Полная версия
Эшафот и деньги, или Ошибка Азефа
Азеф хотя и робел атлета, но, желая и тут отличиться перед своими товарищами, все же заставил себя задиристо спросить:
– И что же вы, полковник, предлагаете государству коснеть в средневековых порядках? Может, и крепостное право отменять не следовало?
Соколов решил потешиться. Он принял самый серьезный вид:
– Конечно нет!
Аргунов ужаснулся:
– Как, вы, господин полковник, крепостник?
– Мы, сударь, все крепостники, ибо находимся за крепостными стенами гостеприимного дома Евгении Александровны.
Аргунов продолжал наступать:
– Вы, господин Соколов, увиливаете от ответа!
Соколов принял покаянный вид:
– Ну, крепостник, я крепостник заклятый, и ничего со мной не поделаешь. Одним словом – ретроград!
Великий князь слушал этот разговор с легкой иронической улыбкой.
Пока Аргунов раздувал щеки, придумывая, как ловчее подцепить знаменитого графа, у того мелькнула замечательная идея. Соколов задушевно произнес:
– Танцев сегодня, к сожалению, не будет. По этой причине можно употреблять шампанское. Давайте, господа передовые мыслители, выпьем для хорошего настроения. – Соколов поманил пальцем лакея с подносом.
Все выпили по бокалу, в том числе и великий князь.
Аргунов с язвительностью произнес:
– Граф, помнится, я читал в газетах, что вы после своей свадьбы в Исаакиевском соборе приказали всех поить шампанским: прохожих, кучеров и даже лошадей. Разве это не насмешка?
– Над кем – над лошадьми? – лениво спросил Соколов.
– Нет, над трудящимися! Подобное издевательство – разнузданный разгул, когда трудящиеся живут в нужде, удар по человеческому достоинству пролетариев.
Соколов уперся парализующим взглядом в Аргунова и насмешливо сказал:
– Господин социалист, судя по вашим нахальным речам, вы скорее получите удар по голове, чем по своему достоинству.
Стоявшие рядом дамы весело засмеялись.
Актерская зависть
Аргунов малость оторопел, он собрался с мыслями, хотел что-то ответить и не успел: к великому князю подлетела Ольга Книппер. Она защебетала:
– Скажите, пожалуйста, ваше высочество, Константин Константинович, вы были в Малом театре на премьере «Идиота»? Говорят, госпожа Яблочкина провалила роль Аглаи, так ли это? Помните, еще лет пятнадцать тому назад она сыграла в театре Корша Софью в «Горе от ума», это было неплохо. Но теперь, когда даме уже под сорок, а она бездарно кривляется, изображает молодую девицу, дочь генерала Епанчина… Нет, я этого не понимаю! Всему есть мера.
К. Р. сдержал усмешку: Яблочкина была почти ровесницей Книппер. Он умиротворяюще произнес:
– Позвольте, Ольга Леонардовна, с вами не согласиться. У Александры Александровны прекрасная внешность, великолепная грация, отточенность жестов, да и до сорока ей еще жить да жить. Играла она Аглаю превосходно, зал без конца ей бисировал. Мы с графом, – посмотрел на Соколова, – отправили актрисе громадную корзину цветов. – И перешел на другую тему: – А как вам, Ольга Леонардовна, показалась Ермолова в роли Настасьи Филипповны? Согласитесь, она превосходна!
Книппер, словно делая одолжение великому князю, выдавила:
– Недурна, но порой переигрывает…
Страшная месть
Пушкин и слабительное
Соколов не дослушал, выскользнул из залы, сбежал в вестибюль. Он твердо решил проучить нахалов. Приказал швейцару:
– Позови-ка, братец, моего кучера.
Швейцар изогнулся:
– Слушаюсь, ваше сиятельство! – и заспешил на мороз.
Через минуту он вернулся в сопровождении молодого парня в синем кучерском армяке. Соколов вполголоса приказал:
– Егор, вот тебе пять рублей, поезжай в ближайшую аптеку, купи четыре дозы снотворного и быстро возвращайся.
– Будет сделано! – Егор стремительно удалился, а Соколов вновь отправился наверх.
Теперь всех ожидал спектакль, которого прежде никогда и никто не видел и о котором долгие годы вспоминали в старой столице.
Князь Дундук
Едва Соколов оказался в зале, как к нему заторопилась старая княгиня Гагарина:
– Как ваш батюшка? Он все еще в Государственном совете заседает?
– Заседает! Я по этому поводу вспоминаю проникновенные строки поэта Пушкина.
– Чего-чего?
– В адрес Дондукова-Корсакова.
– А-а!..
– Это председатель Цензурного комитета в тридцатые годы, немало насоливший поэту. А еще Дондуков был вице-президентом Академии наук.
Услыхав про Академию наук, Константин Романов, а также вернувшийся из буфета, где пропустил две рюмки водки, Сипягин сразу заинтересовались. К. Р. спросил:
– Так что писал поэт?
Соколов всегда притягивал внимание окружающих, и сейчас вокруг него сбились любопытные. Он сказал:
– Итак, четверостишие известного Пушкина, столетие рождения которого с некоторыми из вас нынешним летом гуляли в ресторане «Яр»:
В Академии наукЗаседает князь Дундук.Отчего такая честь?Оттого, что жопа есть.Гагарина переспросила:
– Чего-чего есть?
Гости весело засмеялись, а Книппер фыркнула:
– Фи, это так грубо!
– Сударыня, все претензии к покойному поэту, – парировал Соколов.
Книппер защебетала:
– Вы, граф, человек военный, наверное, знаете: якобы в Америке для России построили большой корабль. Это что ж, война, что ль, будет?
– Это вы о крейсере «Варяг»? Я читал об этом в газетах. Еще в октябре в Филадельфии его спустили на воду, и он сделан по заказу нашего Морского министерства. Это чудо техники. Все спасательные шлюпки из особо прочной и легкой стали.
Книппер продолжала любопытствовать:
– А что, и впрямь этот крейсер очень велик?
– Да, по грузовой линии четыреста двадцать футов.
Книппер знала, что такое «фунт», но о футах понятия не имела. Однако сделала значительное лицо:
– Надо же, как техника далеко ушла!
Аргунов с ехидством спросил Соколова:
– Но этот самый «Варяг» будет защищать Российскую империю?
– Будет!
– Тем самым он станет защищать царское самодержавие и бесправие народов. – Аргунов судорожно подергал себя за козлиную бородку, нервно вскрикнул: – Не радоваться надо – скорбеть: боевая мощь империи увеличилась, горе, кхх, угнетенных народов возросло.
Соколов сделал наивное лицо:
– Так, значит, следует Россию сделать как можно слабее? Пусть она будет нищей и беспомощной?
Чепик не выдержал, самоуверенно захрипел:
– Именно так! И если это поняли вы – полковник-преображенец, – стало быть, прогрессивные веяния дошли и до правящих верхов. Они-то, верхи, правды знать никогда не желали.
Соколов подумал: «Господи, какой же зануда!» Он хотел ответить как надо, да не успел – к нему подошел лакей, почтительно поклонился:
– Ваше сиятельство, простите, вас спрашивают внизу…
Соколов пробрался сквозь толпу гостей, сбежал с лестницы, перепрыгивая через ступеньки. В вестибюле, украшенном зеркалами и статуями, увидал кучера Егора. Тот протянул на ладони две коробочки:
– Вот, Аполлинарий Николаевич, аптекарь дал.
Соколов прочитал на облатке: «Люминал – производное веронала, обладает сильным снотворным действием. Люминал подвергнут клиническому и экспериментальному исследованиям в психиатрической клинике Лейпцигского университета. Обычная доза – 0,4 грамма, то есть две таблетки. При более высокой дозировке часто наблюдается побочное явление – расстройство психической деятельности». Соколов улыбнулся, подумал: «Прекрасно! Дадим социалистам двойную дозу. А тут что?» На другой облатке было напечатано: «Фалликулин – сильное слабительное средство. Действует неотразимо и быстро». Спросил:
– А зачем слабительное?
– Много денег от пятерки оставалось, а тут аптекарь советует: купи, дескать, всегда в хозяйстве от запора пригодится. Ну, я и взял, извиняйте, для поноса.
Соколов перекрестился:
– Господи прости, знать, счастье такое социалистам выпало! Сдачу, Егор, оставь себе, детям фиников купи. Эй, лакей, – окликнул пробегавшего мимо с подносом официанта, – скользи сюда! – Граф взял бокал, протянул засмущавшемуся кучеру: – Пей, пей, французское! Это тебе, Егор, не водку лакать, это напиток утонченный.
– Ох, хороша, спасибочки вам, Аполлинарий Николаевич, прямо в ноздрю шибает! – Ладонью вытер рот и бороду. – Сей квасок, однако, против казенной никак не устоит – силы в ём нет. Для чего такие капиталы за него платят, на трезвую голову не поймешь.
Хитрости буфетного мужика
Соколов отправился в буфет. За прилавком действовал широкий в плечах парень с круглым румяным лицом, густыми рыжеватыми баками и коротко, по последней моде, подстриженной бородкой. Буфетный мужик при виде Соколова расплылся в счастливой улыбке:
– Рад вас видеть, ваше сиятельство!
Соколов пророкотал:
– Ну, Семен, у тебя морда круглая стала! Сразу видно, что на паперти не стоишь, питаешься вовсе не сухой корочкой.
– Это точно, Аполлинарий Николаевич, живу отлично-с, грех Бога гневить. Чем прикажете угостить?
– Пока ничем! – Соколов просто, как об обыденном, сказал: – Я сейчас приду с четырьмя мужиками, будем пить шампанское из пивных кружек. Ты загодя высыпи снотворное и слабительное, на водке все раствори, а когда я их приведу, ты шампанского и дольешь. Понял?
Семен заробел:
– Ваше сиятельство, простите, рад бы, да рука не подымается. Ведь меня за такие порошки в Сибирь отправить могут. И кандалы еще нацепят.
– Ну, доктор Гааз, тюремный доктор, царствие небесное этому доброму человеку, на Немецком кладбище прах его с миром лежит, кандалы против прежних времен сделал совсем легкими да на прикрепах кожей мягкой обитой. Так что против старого времени таскать их стало много легче. Однако, Семен, ты не трусь, я тебя в обиду не дам. Ведь не яд подсыпаешь, а обычные лекарства. Желудки прочистят, проспятся – еще здоровее станут. И жаловаться на тебя не будут, а радоваться за себя станут. А чтобы тебе интерес в деле появился, возьми на память денежную награду. Бери, бери! Здесь двадцать рубликов – не шутка.
Семен решительно тряхнул рыжеватыми кудрями:
– Коли надо, сделаем все, как вы приказали, Аполлинарий Николаевич.
Соколов погрозил кулаком:
– Семен, ты кружки не перепутай, не сунь мне слабительного! Если чего, то я тебя… Ну, понял? Тогда точно тебя отправлю кандалами греметь, а на Сахалине тебе полголовы выбреют.
– Как можно, ваше сиятельство! Вручу, что положено.
– Ну, действуй! – И побежал наверх – приводить приговор в исполнение.
Брызги шампанского
Пока Соколов готовил для социалистов неприятность, Сипягину удалось изложить великому князю свою просьбу относительно поэта, который очень желал стать почетным академиком. К. Р. заверил:
– Я дам этому делу ход, и будем надеяться, что на ближайшей сессии Академии ваш поэт станет нашим почетным, так сказать, членом, – и улыбнулся.
У Соколова были свои хлопоты. Он отыскал революционных товарищей, жавшихся в углу, сказал:
– Господа ниспровергатели, Виссариона Белинского уважаете?
– Разумеется! – ответил Азеф. – Это великий глашатай демократии.
– Так вот, этот глашатай, имея в виду наказание смутьянов, говаривал в кругу друзей: «Нет, господа, что бы вы ни толковали, а ради поддержания порядка мать святая гильотина – хорошая вещь». Впрочем, вы сегодня столько ужасов наговорили, что мурашки по спине бегают. Не знаю, как вам, а мне захотелось выпить – просто невтерпеж. Приглашаю всех в буфет!
Азеф поцеловал руку Зинаиде и спросил:
– Вы позволите мне отлучиться на три минуты?
– Конечно, Иван Николаевич! – И нежно шепнула: – Я очень буду ждать…
У революционеров давно подвело животы. Они с охотой двинулись за графом – сами не решились бы. Буфетчик Семен, увидав гостей, стал воплощенной любезностью:
– Что прикажете налить?
Аргунов скромненько предложил:
– Может, господа, по рюмке водочки?
Чепик заинтересовался:
– Вот и бутербродики есть с икоркой-с…
Соколов решительно возразил:
– Какая водочка, какие бутербродики! Пьем, господа революционеры, по-гвардейски!
Азеф полюбопытствовал:
– Это как?
Соколов гаркнул:
– Буфетчик! Для моих заклятых друзей – самое дорогое шампанское! – Цыкнул на Чепика: – Да куда ты клешню тянешь, не фужерами – пивными кружками! Кто не пьет по-гвардейски – тот негодяй и фискал. Эй, буфетчик, что медлишь? Не жалей для прогрессивных товарищей, страдающих от самодержавной деспотии, откупоривай французское! У тебя, шельмец, точно ли шампанское самое лучшее?
– Самое значительное-с – редерер, ваше сиятельство! Брали у Елисеева по семь с полтиной за бутылку, дороже нынче не бывает-с…
– Прекрасно, лей редерер в пивные кружки, да с верхом.
Семен стал таскать из ящика шампанское, только пробки полетели к потолку. Потом он повернулся к буфету, начал наливать по самый край, струйки весело скатывались по стеклу. Соколову протянул отдельно. Тот сказал:
– Пьем, господа ниспровергатели, за ваше здоровье… умственное!
Все подняли кружки, у революционеров в глазах огонь запылал: буржуазный напиток в таком количестве, да еще на дармовщинку!
Пили жадно, взахлеб. Азеф, этот замечательный математик, на сей раз не сумел рассчитать ход классового врага – Соколова. Он выпил и крякнул:
– Ух, хорошо! Забирает всего. Ну, друзья, пошли в залу, поговорим о перспективах российской революции.
– Да, Россию следует разрушить до основания! – прогундосил Чепик. – И вот на ее развалинах, на ее скрижалях, ик, начертят наши имена. Ох, и впрямь в ноги ударило, а голова… голова даже очень… хоть куда, свежая… Ик!
Аргунов, пьяница со стажем, захмелел сразу и сильно. С нетрезвой важностью выдавил из себя:
– Когда, судари мои, сделаем революцию, кхх, каждый прота-про-проле-карий будет на ужин иметь… бутылку.
– Этот тезис занести в программу – обязательно! – одобрил Азеф. – И повсюду повесим лозунги: «Каждому пролетарию – по бутылке!»
– Пусть лакают, – согласился Соколов и весело подмигнул буфетчику.
Революционеры заплетающейся походкой вошли в гостиную. Они направились к громадному дивану с резной спинкой и плюхнулись так, что пружины застонали. Соколов проводил их веселым взглядом, предвкушая замечательное зрелище.
Зинаида смотрела на своего нового друга с недоумением.
Вынос тел
Задумчивые социалисты
Женечка, как всегда, была окружена поклонниками, но, увидав идущего к ней графа, сама устремилась навстречу ему, влюбленными глазами смотрела в его лицо и страстно говорила:
– Аполлинарий Николаевич, куда же вы пропали? Почему ко мне вторую неделю глаз не кажете? – Она взяла его за руку.
Соколов кивнул на социалистов:
– Женечка, откуда на светском рауте у тебя какая-то рвань?
– Не сердитесь. Они милые, очень занятные люди.
Соколов сказал:
– Но говорят они совсем не о забавном, а о весьма страшном.
– Ах, все это наша пустая российская болтовня. Но, граф, признайтесь: ведь надо улучшать государственную систему…
– Зачем?
Женечка удивилась. Такой вопрос никогда прежде ей не приходил в голову. Знакомые социалисты постоянно твердили, что «самодержавие прогнило» и по этой причине его следует заменить «более прогрессивным демократическим устройством». Женечка не хотела отставать от прогрессивных людей, она хотела казаться умной, идущей в ногу со временем и поэтому разделяла передовые воззрения. Она азартно проговорила:
– Как – зачем? Ну, этого требует прогресс… Когда-то люди обитали в пещерах, но благодаря развитию цивилизации теперь живут в благоустроенных домах с лифтом, водопроводом и канализацией.
Соколов отвечал:
– Это произошло не потому, что случались революции, а только потому, что люди работали руками и головой. А от революций бывают только кровь и разрушения. И твои социалисты призывают именно к разрушениям и убийствам. Надо улучшать только одно – собственную душу.
Женечка уставилась на социалистов и с умилением произнесла:
– Аполлинарий Николаевич, посмотрите, как славно наши социалисты на диванчике привалились! И головы они как-то свесили, словно думу глубокую думают.
Соколов весело рассмеялся:
– Ну конечно, о простом народе печалятся. Народ им нужен, как воробью граммофон. – И жестко добавил: – О тебе, Женечка, уже ходят слухи, что ты революционеров привечаешь, большие деньги на свержение «деспотии» даешь.
– Но они такие несчастные! Страдали по ссылкам, были в заграничном изгнании, как Иван Николаевич. Теперь, когда тетушкино наследство получила, хочу создать техникум для людей, обойденных судьбой. Пусть учатся. И вообще, революционеры не совсем глупы, порой умные вещи говорят.
– Умные слова раз в год даже попугай произносит, – заключил Соколов.
Мороз крепчал
В это время к роялю подошел, словно петь собрался, поэт Брюсов. Был он плоский и невзрачный, словно сушеная тарань. Гости захлопали в ладоши:
– Просим, прочтите что-нибудь! Просим…
Брюсов наклонил голову, словно задумался, и вдруг залаял в нос:
Юноша бледный со взором горящим,Ныне даю я тебе три завета:Первый прими: не живи настоящим,Только грядущее – область поэта.Помни второй: никому не сочувствуй,Сам же себя полюби беспредельно.Третий храни: поклоняйся искусству,Только ему безраздумно, бесцельно.Раздались аплодисменты, правда жидковатые. Соколову не понравились ни стихи, ни их автор. Он на всю гостиную сказал:
– Поэт, вы даете самые дурные советы! Что это за «юноша бледный»? Может, лучше читать: «Онанист малокровный со взором горящим». Или он у вас чахоточный, что ль?
Брюсов взвизгнул:
– Вы даже не знаете, как выглядят пораженные туберкулезом! У них на щеках горит румянец, хоть и болезненный!
Соколов рассмеялся:
– Признаюсь, в чахотке вы лучше меня разбираетесь. Но зачем юноше давать столь вредный совет – «полюбить себя беспредельно»? Чехов точно заметил: кто любит себя, у того нет соперников. Согласитесь, нет на свете более противных людей, чем самовлюбленные.
Брюсов нервно дернул головой:
– Это поэзия, это… это… понимать надо.
– Зачем же поклоняться искусству «безраздумно, бесцельно»? Ну, если только в голове у автора полная пустота, то, конечно, его занятия искусством будут вполне бесцельными и никому не нужными.
Бальмонт посмеивался, а Брюсов нервно задрожал, он хотел сказать что-то, возразить, ляскнул зубами, выпулил:
– Полковник, вы… вы – опричник самодержавия!
Соколов удивленно поднял бровь:
– Вот как? Стреляться со мной, догадываюсь, вы не можете по причинам ненависти к самодержавию и собственной трусости?
Немчинова, желая замять начинающуюся ссору, засуетилась, заторопилась. Сказала Бальмонту:
– Константин Дмитриевич, вы обещали порадовать нас своим новым шедевром. Просим вас!
Гости захлопали в ладоши:
– Просим, просим!
Бальмонт вышел вперед, одергивая на себе фрак. Манерно замер, прикрыл глаза ладонью, словно что-то вспоминая. В зале воцарилась гробовая тишина. И вдруг откинул движением головы рыжие волосы и важно произнес:
– «Песня о царе». – Снова выдержал паузу и начал читать с площадной дерзостью:
Наш царь – убожество слепое,Тюрьма и кнут, подсуд, расстрел,Царь висельник…Он трус, он чувствует с запинкой,Но будет, час расплаты ждет!Ты был ничтожный человек!Царь губошлепствует…О мерзость мерзостей! Распад, зловонье гноя,Нарыв уже напух и, пухлый, ждет ножа.Некоторые из гостей восторженно закричали:
– Бис! Браво!
Выделялся голос Книппер:
– Какая смелость! Константин Дмитриевич – вы наш герой!
Бальмонт низко поклонился.
Соколов, ни слова не говоря, прошел к балконным дверям, повернул бронзовую ручку замка, открыл обе высокие половинки. Ворвались клубы морозного воздуха. Все невольно отпрянули в глубь залы.
Соколов подошел к поэтам, с оторопью взиравшим на атлета. Он вдруг схватил поэтов за шиворот, оторвал от пола и понес на балкон.
Поэты болтали ногами, размахивали руками, пытаясь вырваться из железных клещей Соколова. Бальмонт зарычал:
– Да как вы смеете? Я пренебрегаю вашей дерзостью, отпустите немедленно!..
Из залы раздались крики ужаса:
– Не бросайте их вниз, граф! Разобьются!..
Соколов цыкнул на защитников, путавшихся под ногами, и швырнул несчастных крикунов на балконный пол, засыпанный снегом.
– Не выйдете, пока насмерть не замерзнете! – Наглухо закрыл обе створки дверей и встал возле, скрестив на груди руки и не позволяя вызволить поэтов, вывалявшихся в снегу и отчаянно стучавших в стекла. Сквозь двойную раму доносились жалобные голоса:
– Сейчас же выпустите, не безобразничайте! Караул, по-мо-ги-те!
Некоторые из гостей смеялись, другие, во главе с Книппер, возмущались и наседали на Соколова:
– Граф! Как вы можете позволять себе такое! Что же это такое, знаменитые поэты замерзнут. На дворе лютый мороз! И с улицы народ видит, смеется…
Соколов равнодушно отвечал:
– Замерзнут, туда им и дорога.
Книппер волновалась:
– Но за такие проделки вас, граф, на каторгу упекут!
– Не думаю! Я встал на защиту чести моего государя, и мне стыдно за тех, кто аплодировал гнусным стишкам.
– У нас свободное государство, и каждый волен высказывать свои мысли.
Соколов резонно возразил:
– Если у нас уже есть свобода, так чего добиваются эти и подобные визгуны?
За своей спиной Соколов услыхал звон разбитого стекла. Это Бальмонт так стукнул ладонью, что полетели осколки, а рука обагрилась кровью.
Женечка жалобно простонала:
– Милый Аполлинарий Николаевич! Не надо в моем доме устраивать скандалы. Пусть каждый говорит что хочет. Тем более поэты. Они вольны излагать свои фантазии…
Соколов перебил:
– Они вольны оскорблять моего государя?
В голосе Женечки послышались слезы.
– Прошу, умоляю, граф, откройте двери…
– Только ради вас. – Соколов смилостивился, распахнул двери. – Выходите, полоумные. Еще раз узнаю, что мараете честь государя, утоплю в проруби. Прямо напротив Кремля, в Москве-реке. При всех заявляю: я слово сдержу.
Закоченевшие поэты ввалились в гостиную. На них было жалко смотреть: вываленные в снегу, скрюченные от мороза. Бальмонт непримиримо потряс в воздухе кулаком:
– Все равно рухнет ярмо самодержавия!
Соколов сделал (явно в шутку!) угрожающее движение:
– Что такое?
Поэты бросились вон из дома, где типы в военных мундирах настолько серы, что не понимают высокой поэзии. Красавец Бальмонт все же не успокоится, он будет писать ругательные стихи и печатать их. В 1901 году суд запретит ему проживать в столичных городах. Придет день, и мечта поэта осуществится – самодержавие падет. Теперь Бальмонт на своей поэтической шкуре испытает все прелести революции: голод, ужасы расправы, реквизиции. Он бросится спасаться в буржуазную Францию, где и помрет с признаками помешательства в приюте для бедных в 1942 году.
Брюсов умрет много раньше, воспевая Ленина, большевиков и их кровавые деяния.
Командировка в участок
Женечка, желая перевести вечер в другое русло, послала лакея на кухню:
– Беги, скажи, что пора начинать ужин. – Вдруг она страшно удивилась: – Боже мой! Взгляните, граф, на диван. Мои социалисты уже вовсю храпят. Что с ними?
– Перепили, не иначе, – притворно вздохнул Соколов. – Такие славные ребята! Им только кистени – да на большую дорогу.
Мимо проплыла княгиня Гагарина, держа возле носа платок:
– Фи, какой омерзительный аэр!
Женечка со вздохом согласилась:
– Да, запах идет кошмарный.
– Перейдем в другое помещение! – Соколов увлек за собой хозяйку.
Гости уже откровенно потешались над перепившими социалистами, морщили носы и отходили подальше от дивана. Женечка жалобно сказала:
– Аполлинарий Николаевич, зачем вы гостей обижаете? Прошу, не надо…
Соколов укоризненно заметил:
– Другой раз всякую рвань приглашать не станешь!
Женечка вздохнула, ничего не ответила, лишь с мольбой сказала:
– Приезжайте, дорогой граф, завтра в одиннадцать утра, мы будем вдвоем. – Прошептала: – Хорошо, милый?
– Приеду, если на наше рандеву не пригласишь социалистов, чтобы они стали давать нам советы относительно революционно-классовых позиций! И конкурентов не приглашай…
Женечка изумилась:
– О чем вы, граф! Я люблю только вас, и вы это отлично знаете.
Соколов с оскорбленным видом возразил:
– Ну а как же великий князь К. Р.? Признайтесь, сударыня, вы ему тоже в ласках не отказываете?
Женечка досадливо наморщила прелестный носик.
– Граф, зачем вы так? Я вам верна. – И с женской непоследовательностью добавила: – Надо знать все обстоятельства и тогда судить человека. К. Р. все-таки великий поэт. Не зря государь его считает талантом не ниже самого Пушкина.