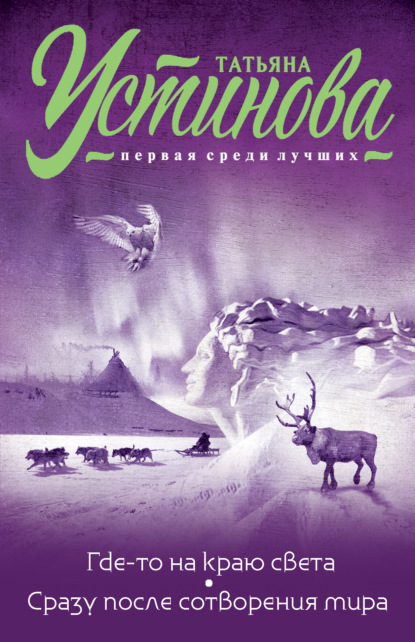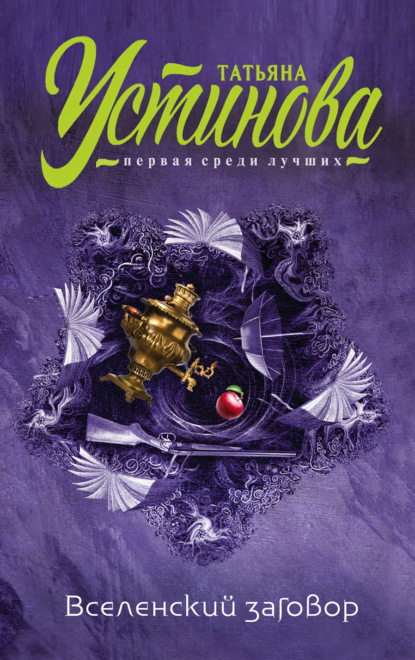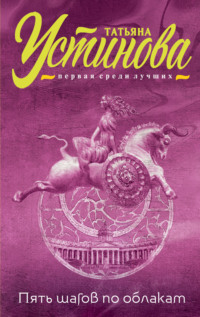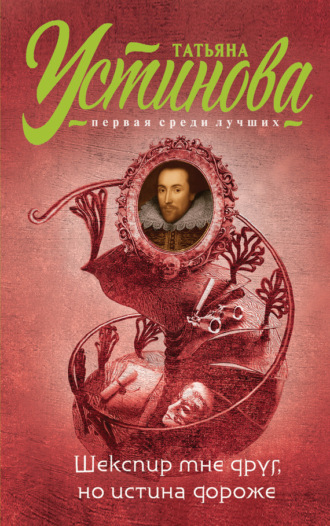
Полная версия
Шекспир мне друг, но истина дороже
– Я здесь, – пискнула из задних рядов Василиса, принаряженная по случаю «особого» спектакля в синее шелковое платьице. Глаза у нее были перепуганные.
Клюкин шевельнулся, как будто хотел взять ее за руку.
– Ты давала мое платье Никифоровой? Ну, говори! Подмывалка, уборщица! Вали в спортклуб сортиры мыть и ведра выносить, нечего тебе в театре делать! Она туалеты моет, об этом кто-нибудь знает?! Из руководства?! Может, она мои платья по туалетам таскает?!
Василиса сделала шаг назад и покачнулась, как будто Дорожкина ее ударила. От ужаса и стыда у нее тоненько зазвенело в ушах. Хуже всего, что про мытье туалетов услышал Роман! Он услышал, но, кажется, не обратил никакого внимания. Он тяжело дышал у стены, смотрел на приму исподлобья.
– Никто из вас ни на что не способен! – продолжала бушевать звезда. – Потому что вы ничтожества! И ты тоже ничтожество! – На глаза ей попалась хорошенькая Алина Лукина, дочка директора театра. – Думаешь, папаша тебя протолкнет в искусство? Твой папаша грязный развратник, поняла?! Господи, сколько раз он мне намекал, сколько раз! Только мне на него, – и она плюнула на пол.
– Хватит, – твердо сказал протиснувшийся к ней директор театра. – Алина, ступай в свою гримерную. А вы успокойтесь, Валерия Павловна, или я вызову санитаров.
Она захохотала:
– Все вы меня боитесь, все! Потому что я одна говорю правду! А вы все, как жуки, по уши в навозе! Ну, скажи, скажи, что ты не звал меня в койку! Не было этого?
Директор сморщился, как от зубной боли, и попытался взять ее за руку:
– Не трогай меня, урод! Ты думаешь, я не знаю, что вы за моей спиной гадости мне делаете?! С этой твоей подстилкой, Лялечкой!.. Она нарочно так репертуар выбирает, чтобы мне ничего не доставалось, а все только ему, бездарности этой!
– Это неправда! – крикнула запыхавшаяся Ляля. Она только вбежала в служебные помещения и угодила прямо в эпицентр извержения. – Зачем вы так говорите?!
– Затем, что знаю! А ты зря стараешься, он все равно тебя бросит! Бро-осит! Он с директорской дочкой давно крутит! Я своими глазами видела! Ты старая, никому не нужная кляча!
Тут артисты и служащие разом задвигались и закричали со сладостным ужасом и негодованием. Директор и режиссер переглянулись. Верховенцев аккуратно спрятал в нагрудный карман так и не раскуренную трубку, и они с двух сторон взяли звезду под локотки.
– Софочка, воды со льдом из буфета, быстренько!
– Не трогайте меня, уберите лапы! – орала Валерия.
– Да она с ума сошла, господи, истеричка чертова!
– Ребята, сейчас первый звонок дадут!
– Софочка, быстренько!..
– Пощечину ей, и дело с концом!
– Как же мы играть-то будем?!
Софочка, совершенно красная, утираясь обеими руками, тяжело потрусила по коридору – перед ней все расступались и отводили глаза – и оказалась лицом к лицу с высоким типом, никто не видел, когда он вошел с лестницы. Тип был абсолютно незнакомый и ни к селу ни к городу в театральном коридоре – в распахнутой красной туристической куртке и тяжелых ботинках. За ним маячил еще один, тоже незнакомый.
– Здрасти, – сказал первый тип Софочке, застывшей перед ним, как схваченный внезапным морозом студень. Она растерянно моргала, не зная, с какой стороны его обойти, он занимал весь коридор.
Исподлобья он молниеносно оглядел толпу, принял какое-то решение, вынул из кармана руку и протянул Софочке:
– Озеров Максим Викторович, режиссер, – представился он. Подумал и добавил: – Из Москвы.
По толпе прошел то ли вздох, то ли стон.
– Доигралась, – сквозь зубы прошипел Верховенцев и бесцеремонно толкнул Дорожкину в сторону гримерки. Она от неожиданности сделала слишком большой шаг и чуть не упала. – Господа лицедеи, все по местам, через пять минут первый звонок!
Директор театра замахал руками на манер хозяйки, загоняющей кур со двора в курятник. Артисты беспорядочно задвигались.
– Здравствуйте, здравствуйте, Максим Викторович, Лукин моя фамилия, мы с вами по телефону, если помните…
– Ты мне заплатишь за это, – громко сказал Роман Земсков звезде, вышел на площадку и бабахнул дверью. Вздрогнули старые, давно не мытые люстры на потолке.
– Потом, потом разберемся, – закудахтал директор, – ребятушки, все по местам, по местам, родимые мои!
«Родимые» расходились неохотно, оглядывались и на разные голоса негодовали. Валерий Клюкин хотел было пойти за женой, но передумал и куда-то скрылся.
– Весело тут у вас, – громко сказал столичный режиссер. – Вы так перед каждым спектаклем развлекаетесь?
– Только перед некоторыми, – мстительным голосом откликнулась артистка Никифорова, оскорбленная «щами из банки», – когда важных гостей ждем!..
– Потом, все потом!.. – продолжал кудахтать Лукин.
Режиссер Верховенцев потряс Озерову руку и показал глазами на артистов, как бы призывая его в сообщники:
– Тонкие настройки, нервные натуры, вы ж понимаете.
– Я тоже натура нервная, – заявил Озеров. – Я бы хотел спектакль посмотреть и теперь нервничаю, что опоздаю. Не опоздаю?
– Как же можно опоздать, когда все… здесь! Мы для вас директорскую ложу открыли, она для самых наипочетнейших гостей. Алиночка, девочка, иди к себе, мы после все обсудим.
– Пап, ты должен ее уволить. Прямо сейчас!
– Алиночка, мы все решим. Ты, главное, не обращай внимания!
– Да, – спохватился Озеров. – Это господин по фамилии Величковский, по имени Федор, он мой… сценарист и ассистент. Федя, где ты?
Двухметровый охламон, наблюдавший за действом из-за спины Озерова, вышел вперед и болтнулся всем телом – поклонился собравшимся.
Хорошенькая до невозможности Алина Лукина молниеносно смерила ассистента глазами, артистка Никифорова оценила его коротким взглядом через плечо, даже некстати разбушевавшаяся прима мелькнула в дверях своей гримерки – взглянула одним глазком.
– А это наша заведующая литературной частью Ольга Михайловна Вершинина.
Ляля, у которой сильно тряслись руки, только кивнула. Знакомиться с приезжими как следует у нее не было сил. Она думала о том, что Ромка переживает за своей дверью, вероятно, даже плачет – он был чувствителен, как ребенок, – а она не может зайти и утешить его.
Не имеет права.
Он ее разлюбил, а может быть, и никогда не любил.
– Лялечка, проводите гостей в ложу, а мы… скоро подойдем.
Ляля была уверена, что директор с главным режиссером сейчас голова к голове побегут в кабинет, достанут из сейфа початую бутылку армянского коньяку и с горя тяпнут по полстакана!
– Пойдемте со мной.
Она не запомнила, как их зовут, этих московских, ни одного, ни второго!..
– А мы прямо в верхней одежде пойдем? – осведомился ассистент и сценарист и стащил с плеч дикую зеленую куртку с мордой льва на спине. Должно быть, у столичных принято так одеваться в театр.
– В приемной можно одежду оставить, – неприязненно сказала Ляля, думая только о Ромке. – Я покажу.
На полутемной узкой лестнице маячил сосед Атаманов, про которого она напрочь забыла, как только услышала шум в коридоре! Она услышала шум, сдернула с головы платок и понеслась, а он остался на лестнице. Сосед привез ее к театру – и ничего, успели, к самому скандалу успели! – и не уехал, а зачем-то потащился за ней.
– Георгий Алексеевич, ты что здесь? Езжай домой, я не скоро.
– Ничего, подожду.
– Где ты подождешь-то? Не надо!
Столичный режиссер сунул соседу руку:
– Хотите с нами в ложу для особо почетных гостей?
Ляля очнулась:
– Зачем, не надо!.. Да это мой сосед просто!
– Атаманов Георгий, – представился тот. – Отчего же, можно и в ложу. В ложе я никогда не был.
– Вот и прекрасно. Товарищ не возражает.
– Егор, – грозно сказала Ляля, которой на этот вечер было вполне достаточно приключений, – езжай домой, я тебя прошу.
– Максим Викторович, давайте пуховичок, я мигом отнесу. И вы, товарищ сосед! – предложил Федя.
– Да вы же не знаете, куда! – всполошилась Ляля.
– А вон дверка, написано – приемная. Может, туда?
И Федя Величковский, взяв куртки в охапку и мило улыбаясь, бочком просеменил в «дверку».
Тоже артист, с ненавистью подумала Ляля.
– Он догонит.
Догонит так догонит! В старинном здании театра заблудиться было легче легкого, но у Ляли не осталось ни сил, ни эмоций для… политеса. И еще сосед сопит и топает за спиной. Это он так сочувствие выражает, не хочет оставлять брошенную Лялю своей заботой, черт бы его побрал совсем!..
Федя в полутемной приемной взгромоздил куртки на вешалку – пуховик немедленно свалился, он наклонился и поднял. Из-за старинного шкафа с полотняными шторками доносились странные звуки, и он за него заглянул.
Девушка в нелепом блестящем платье горько плакала, плечи ходили ходуном, вздрагивал узел темных волос на затылке.
– Здрасти, – сказал Федя Величковский. – Это вы, Кузина Бетси?
Девушка перестала рыдать, посмотрела на него и быстро утерла глаза.
– Прошу прощения, – извинился Федя галантно. Он решительно не знал, как нужно утешать плачущих за шкафом девушек. – Я помешал?
– Я… просто так, – пролепетала девушка. – Я уже ухожу.
– Не случилось ли у вас какого-нибудь несчастья?
Она посмотрела на него.
– Федор, – представился охламон. – Ужасная ошибка, ужасная!.. Был введен в заблуждение. Меня уверяли, что сегодня будут представлять комедию, а оказывается, дают драму!
Девушка моргнула. Совсем глупенькая, подумал Федор с сочувствием.
Пошарив в наколенном кармане безразмерных брезентовых штанищ, он вытащил салфетки в пакетике и протянул ей. Девушка взяла салфетку и скомкала.
– Вы драматическая артистка?
Девушка как будто испугалась.
– Нет, что вы!.. Я… помощник костюмера. Я вообще-то учусь, а здесь подрабатываю.
Сказав про костюмера, она вдруг словно заново увидела скандал, разгневанную Дорожкину и рыдающую несчастную Софочку. Надо сейчас же ее найти. Найти и утешить! Хотя как тут утешишь?.. Уже ничего, ничего не поможет!..
Салфеткой она вытерла нос, встала и одернула мятый подол. Федя посторонился.
– Вас проводить?
Тут она испугалась еще больше.
– Ой, нет, не надо!
– Как будет угодно Кузине Бетси, – следом за ней он вышел на лестницу и покрутил в разные стороны головой.
Пока что ему все очень нравилось. Даже представление в коридоре понравилось, хотя Федя был принципиальный противник всяких скандалов и истерик, особенно публичных!.. Отец всегда говорил, что нет ничего хуже женщин-истеричек и мужчин-неврастеников. Федя с ним полностью соглашался.
Но ведь тут – театр, особый мир. Максим Викторович ему про эту «особость» все уши прожужжал, когда он писал свой первый сценарий.
– Ты дай артистам поиграть-то, дай!.. Артист живет, только когда играет. Вот это что за реплика? Зачем он отвечает «да»? Что это за «да», совершенно непонятно! Это же радиоспектакль, их не видно, они должны все делать голосами, интонацией, а не лицом! Вот и напиши так, чтоб они сделали.
А в «особом мире», должно быть, положено ругаться и обзываться прилюдно, да еще перед самым спектаклем. Это может быть интересно – картина нравов.
Опять же – теория!.. Федя был любителем разного рода теорий. По его теории, следует воссоздать исходную картину «от противного», то есть от результата, от финала к началу! Посмотрим, послушаем, понаблюдаем и точно установим, с чего все начиналось.
Очень занимательно. Хотя немного жалко несчастную «Кузину Бетси». Так он и не спросил, как ее зовут.
Федя потер руки, как будто с мороза, в коридоре оглянулся по сторонам, слегка разбежался, подпрыгнул так, чтобы достать потолок не ладонью, а локтем, чуть-чуть не достал и дальше пошел уже степенно.
Заблудился он очень быстро, зашел в тупик, вернулся, поднялся по лестнице, спустился, решил спросить дорогу, но никого не было.
Проблуждав какое-то время, он дошел до роскошной ореховой двери, слегка приоткрытой. Все остальные попадавшиеся ему двери были обшарпанны и заперты.
– Имей в виду, – громко говорили за дверью, – я этого дела так не оставлю. Все, терпение мое лопнуло! И не уговаривай меня!
Собеседник что-то отвечал, но Федя не расслышал, что именно.
– Мы областной театр, а не цирк зверей! Пусть уходит, уезжает, пусть в Волге утопится, мне все равно!
Опять негромкий голос в ответ.
Федя понимал, что подслушивает, а подслушивать нехорошо, но ничего не мог с собой поделать.
– Да плевать я хотел на все соображения! Истребить надо, каленым железом выжечь, чтоб никому неповадно было!..
После «каленого железа» Федя понял: стучать и спрашивать, как пройти в директорскую ложу, не стоит, тем более что над головой вдруг жестким алюминиевым звуком ударил звонок – раз, два, три!..
Федя ринулся в другую сторону, опять попал на лестницу, опять спустился и вывалился в ярко освещенное пустое фойе. Строгая билетерша в затянутом сером костюме посмотрела подозрительно.
Федя спросил, где директорская ложа, а билетерша спросила, где его билет, воспоследовали объяснения и препирательства, а свет меж тем медленно погас, как будто задули свечи.
В ложу он вбежал, когда на сцену уже вышли артисты. Строгая билетерша поспешала за ним, чтобы в случае недоразумения немедленно изгнать.
Озеров оглянулся и прошептал раздраженно:
– Где ты ходишь?..
– Был уличен в безбилетном проникновении, – зашептал Федя в ответ, быстро подсаживаясь, – и отконвоирован сюда.
Билетерша бесшумно скрылась, Максим Викторович махнул рукой – молчи, мол.
Федя уставился на сцену. Декорация была богатой и красивой, никаких подвешенных на колосниках стульев и колышущихся в воздухе полотнищ, символизирующих, как правило, внутренний непокой героя.
Красавец с тугими кудрями – в коридоре он говорил истеричной дамочке, что она поплатится за все, – объяснялся этой же дамочке в страстной любви. Глаза у него горели, голос дрожал, руки дрожали тоже – из директорской ложи было видно каждую подробность. Дамочка смотрела на него неотрывно, как будто все туже и туже между ними натягивалась струна.
В зале никто не смел шевельнуться.
Даже Озеров подался вперед, оперся локтями о бархатный парапет, пристроил подбородок в ладони и замер.
Федя не уловил момента, когда перестал слушать текст и смотреть на игру артистов, а начал жить с ними одну жизнь, и в какую минуту ему стало важно, чтобы она непременно осталась с ним, чтобы разрешились все противоречия, ведь совершенно ясно, что друг без друга эти двое погибнут!..
Когда вдруг вспыхнул свет и пошел занавес, он ничего не понял.
– Великая сила искусства, – сказал Озеров с удовольствием, засмеялся и потянулся. – А я тебе что говорил?! Это не просто хороший театр, это отличный театр! И труппа отличная. Мы с тобой запишем шедеврик, Федя, вот увидишь! Ну? В буфет?
– А что, антракт? – глупо спросил Величковский.
– Он самый! Давайте с нами в буфет, Георгий! Мы с дороги, есть очень хочется. Только нужно быстро, а то за нами сейчас придут от директора, и не будет нам никакого буфета, а будут одни сплошные разговоры.
– Да можно и в буфет, – согласился их неожиданный сосед. – Чего ж не сходить?..
В буфете было не протолкнуться, но ловкий Озеров за руку вытащил из толпы Федю, который начал рассматривать фотографии артистов, сунул его в очередь, а сам нашел за колонной свободный столик.
– Чего брать? – спросил сосед. – Коньяку?
– Бутербродов, воды, ну, и сока какого-нибудь.
Вокруг шумела и переговаривалась нарядная, очень театральная толпа. У некоторых дам в руках были букеты. Обсуждали спектакль и хвалили артистов и постановку.
Озеров прислушивался.
Явился Федя. Непостижимым образом он принес сразу три тарелки с бутербродами и пирожными.
– Миндальное, – сообщил он. – В Большом театре самые вкусные миндальные пирожные на свете! А в Консерватории тархун. Нигде нет такого тархуна, как в Консерватории. Когда родители водили меня на симфоническую сказку «Петя и волк», я все никак не мог дождаться перерыва и выпивал сразу пять стаканов!.. Я и здесь взял, может, ничего?
И он извлек из кармана штанищ крохотную бутылочку с зеленой жидкостью. Георгий протолкался к столику за колонной. Он принес еще немного бутербродов, воду в бутылках и два бокала, от которых резко и вкусно пахло.
– Это вам, – объявил он. – По коньячку, с приездом. Сам бы выпил, да не могу, за рулем!
Они с удовольствием жевали бутерброды и разговаривали с Георгием, как со старым приятелем.
– Да какой из меня театрал, – говорил тот. – Пока жена была жива, таскала меня сюда, мне нравилось даже. У нас хороший театр, не какой-нибудь там отсталый! А потом… я уж и не ходил. Хотя Ляля, Ольга Михайловна Вершинина, соседка моя, она тут у них литературой заведует, контрамарки мне доставала. А вот режиссер… Он чего делает?
– Да, собственно, ничего не делает, – отвечал Максим. – Он сидит на стуле, мешает артистам играть и всех критикует.
– Да я серьезно спрашиваю!
– Так я серьезно и объясняю!
– Подождите, Максим Викторович, – вступил Федя, переполошившись, что Георгий все примет за чистую монету, – как ничего не делает? Режиссер весь спектакль делает! Как артисты стоят, куда идут, что говорят, это все режиссер придумывает.
– А разве в пьесе не сказано?
– Нет, автор пьесы – это совсем другое дело!.. Вот смотрите…
Они успели все съесть и выпить, а звонка все не давали. Должно быть, здесь приняты длинные антракты.
Втроем они вернулись в ложу, уселись и еще немного поговорили.
Зал постепенно заполнялся, ровный гул поднимался из партера и бельэтажа к балконам, тоже заполненным.
Звонка все не было.
Постепенно шум стих и установилась тревожная полутишина, зрители не понимали, что происходит.
Когда шум стал подниматься снова, в прорезь занавеса вышел директор. Максим даже не сразу его узнал – в свете рампы он казался изжелта-бледным и очень маленьким.
Директор объявил изумленным зрителям, что произошло несчастье и спектакль отменяется.
Деньги за билеты будут возвращены, обращайтесь в кассу.
Озеров смотрел в окно, за которым валил снег. Метель пришла ночью, и утром оказалось, что горка, на которую выходили окна его номера, вся засыпана снегом так, что захотелось съехать с нее на заднице. Из приоткрытого окна несло морозной сыростью. Сейчас самое время отдернуть занавески, лечь на диван, накрыться пледом и смотреть, как летит снег. Смотреть долго, не отрываясь, и чувствовать, как в голове тоже начинает идти снег, и вскоре он закроет все, и хорошее, и плохое, и останется только одно – ждать весны.
Накрыться пледом и валяться до весны было никак невозможно, и Максим заставил себя одеться и спуститься на завтрак.
Завтракал он вяло и безрадостно, почти в полном одиночестве. Все командированные уже разошлись по делам, а других постояльцев в гостинице не было. Потом появился Федор Величковский.
С ним вместе явились любопытство, нетерпение и охотничий азарт.
Федя обежал буфетную стойку, сунул в тостер два куска хлеба, подумал и сунул еще два. Налил в стакан воды из графина, выпил, налил еще, подумал, забрал графин и притащил на стол.
– Чего-нибудь изволите, Максим Викторович?
– Почему ты в капюшоне?
– А! – Федя откинул с головы капюшон синей толстовки. Волосы у него торчали в разные стороны. – Так это для конспирации, шеф! Чтоб никто не догадался!
– Сыру желаю.
– Плавленого или такого?
– Обыкновенного.
На Фединой собственной тарелке болтались салатные листья, два прозрачных ломтика ветчины и гора поджаренного хлеба. Два ломтика ветчины Озерова развеселили.
Сыр он принес отдельно, и очень много – небольшой сырный холмик.
– Хочу чаю, – заявил Федя. – Никогда по утрам не пью кофе, Максим Викторович! Только старый добрый английский чай! Девушка, девушка, можно мне чаю? Только не чашку, а чайник! И можно, чтоб не пакет, а нормальной заварки насыпать?
– Ну, ты гурман, – с улыбкой констатировал Озеров.
– Ничего не могу с собой поделать. Ни-че-го! Я старался, очень старался, но изменить себе гораздо труднее, чем кажется!
Он намазал масло на кусок поджаренного хлеба, ложкой выложил сверху клубничного джема – изрядно, – полюбовался и откусил.
– Вас не мучила бессонница, шеф? – спросил он с набитым ртом. Максим отрицательно покачал головой.
…Вот что теперь делать? Уезжать? Переносить запись? Вряд ли труппа вернется в работоспособное состояние и они смогут записать спектакль.
– Меня тоже не мучила, но хорошо бы, чтоб мучила. Тогда мы могли бы поделиться соображениями и выводами! Вы можете предположить, кто его убил?
– Федь, ты фантазируй, но в рамках действительности. С чего ты взял, что его убили? Вчера ничего было не понятно.
– Все ясно как день, – заявил Федя Величковский, вкусно жуя поджаристый хлеб. Озерову тоже сразу захотелось хлеба. – Это убийство чистой воды. Мы видели ссору. Мы слышали вопли. Мы были в эпицентре драмы. Все по моей теории – мы присутствовали при финале истории, и нам остается только восстановить события и понять, с чего все начиналось.
– Зачем нам восстанавливать события, Федя?
– Как зачем? Чтобы понять истоки! Вы же режиссер, Максим Викторович! Вы режиссер, а я сценарист! На наших глазах, ну, почти на наших разыгралась настоящая трагедия, и что, мы даже не сделаем попытки проникнуть к ее истокам?
– Да, – согласился Озеров. – Трагедия. И твоя высокопарная ирония неуместна.
– Да что вы, шеф, – помолчав, пробормотал Федя. – Это я просто так. Извините.
…В антракте артистка Валерия Дорожкина всегда остается в своей гримерке, и к ней никто не заходит. Непосредственно перед тем, как дают занавес, на столик ей ставят стакан чуть теплого сладкого чая с лимоном, чтобы она могла глотнуть «тепленького», как только начнется антракт. Вчера все было точно так же. Несчастная до глубины души костюмерша Софочка своими глазами видела, как Валерия вошла и закрыла за собой дверь. Правда, пришла она не прямо со сцены, по дороге задержалась где-то, но не слишком, всего минуты на три-четыре. И больше не выходила, даже когда по внутреннему радио объявили минутную готовность. Софочка подсматривала из костюмерной и страшно переживала – не за себя, конечно, за актрису, которую она так расстроила перед самым спектаклем! Валерия все не появлялась, и после долгих мучений Софочка решилась постучать. Никто не открыл, и она потянула дверь. Странное дело, дверь оказалась заперта. Перепуганная Софочка подняла шум, побежали за режиссером.
Мертвый Верховенцев лежал посреди своего кабинета, откинув одну руку и прижав к груди другую, как будто показывал актеру, как именно следует читать монолог. Рядом на полу валялся его портфель, из которого вылезли бумаги, а на столе стояли бутылка и два коньячных бокала. Один пустой, второй почти нетронутый.
Стали звонить в «Скорую», искать директора, поднялся невообразимый переполох, кто-то помчался в радиорубку предупредить, чтобы не давали звонка. Софочке стало так плохо, что она могла только мычать и показывать рукой куда-то в коридор. Наконец, Василиса догадалась, что костюмер пытается объяснить что-то важное. «Что, что, Софочка?» «Лера», – наконец выговорила костюмерша.
Дверь гримерки открыть не смогли. Послали за слесарем, но откуда вечером в театре слесарь?! Помог сосед Ляли Вершининой, прибежавший за кулисы после того, как директор объявил о несчастье. Сосед притащил из машины ящик с инструментами и в два счета расколупал замок. Дорожкина лежала на кушетке, вытянувшись, рядом с ней на ковре валялся пустой стакан и выкатившийся из него ломтик лимона. В первую секунду все решили, что она тоже… умерла. Однако московский гость Озеров бесстрашно пощупал ей пульс, сказал, что она жива, и потребовал нашатырь. Василиса кинулась и принесла из костюмерной литровую бутыль – они брызгали нашатырь на брюки, чтобы не блестели после глажки. Озеров сунул Валерии под нос ватку, она замотала головой, оттолкнула его руку и стала натужно кашлять.
Все это было похоже на сцену из спектакля.
Может, поэтому Федя Величковский поверил… не до конца.
– Как вы думаете, кто его убил и за что?
– Мы вообще не знаем, почему он умер. Может, у него инфаркт случился?
– Но вчера все говорили, что он никогда ничем не болел!
– Федь, у тебя же родители врачи. Ты прекрасно знаешь, что в любую секунду может случиться все, что угодно.
– Именно потому, что мои мамаша с папашей подвизаются на ниве медицины, – начал Федя, обретая прежний тон, – я и утверждаю, что Верховенцев помер насильственной смертью! Мои родители всегда говорят, что человек – конструкция очень надежная. Ни с того ни с сего на тот свет она отправиться может, конечно, но это маловероятно.
– Кто – она?
– Конструкция, – объяснил Федя не моргнув глазом. – Как вы думаете, с нас будут… как это говорят… снимать показания?