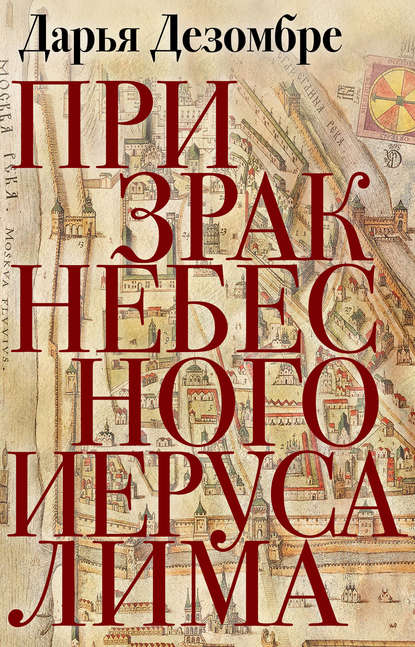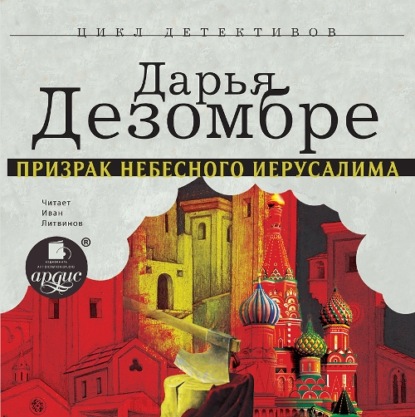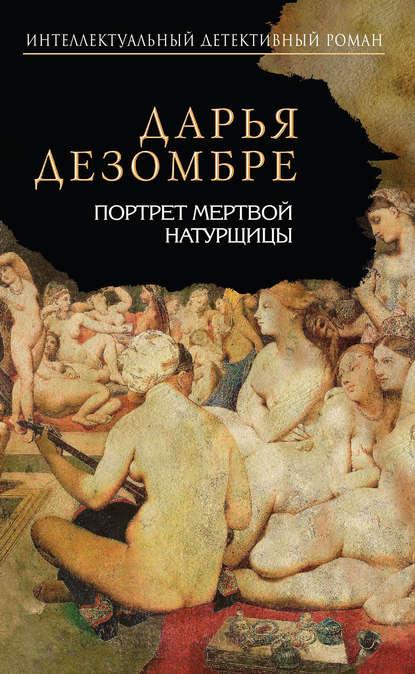Полная версия
Тени старой квартиры
– Если бы не пыталась спасти Страд, может, и перелома такого не было бы, – с жалкой улыбкой поясняла друзьям Ксения, положив поверх одеяла руку в гипсе. Обездвижена оказалась и правая лодыжка – последняя, слава богу, не сломана, а лишь вывихнута.
– Ну и как, спасла? – Игорь приветственно кивнул Маше.
– Спасла, – провела Ксюша рукой по одеялу, будто сама себя погладила. – А руку свою не спасла. Какая из меня теперь музыкантша? Я ложку-то не смогу в руках держать… Привет! – это Ксения увидела в дверях палаты растерянную Машу. Глаза у нее были красные – видно, всю ночь проплакала. За стеклами очков с сильной диоптрией они казались маленькими, как у кролика. У Маши сердце сжалось от жалости – столько усилий, затраченных на профессию, такой успех в Канаде, блестящие перспективы… И что же получается? Неужели конец?
– Ничего-ничего, – похлопала ее по гипсу Ника. – Еще срастется. Ты молодая, разработаешь руку…
– Срастется-то срастется, – жалко усмехнулась Ксюша. – Но шансов на то, что я смогу играть, немного. И если это сделал Петя…
– Что сделал? – подала голос Маша, придвинув второй стул к кровати.
– Я не упала, – посмотрела на нее Ксюша. – Меня столкнули. Столкнул человек, который добрую половину дороги шел за мной по пятам.
– Думаешь, тебя преследовали? – мягко улыбнулась Маша.
– Да. Этот человек стоял под проливным дождем, в сумерках, и делал вид, что смотрит на воду.
– Городской сумасшедший, – мельком переглянулась с Машей Ника. – Зачем кому-то тебя преследовать?
– Я не знаю, – жалобно пожала плечами Ксения.
– Скорее всего, – внушительно сказал Игорь, – это два совершенно не связанных события. Один – неизвестный гражданин, которого ты еле-еле разглядела, сама говоришь – сумерки и ливень. Второй – какая-то торопливая сволочь, которая случайно тебя толкнула на лестнице, а теперь боится признаться в содеянном.
Ника мелко закивала: устами мужчины глаголет логика, а следовательно – истина, а Маша молчала, задумчиво смотрела на Ксению. Ей хотелось порасспрашивать ее поподробнее о незнакомце в сумерках, но виолончелистка выглядела подавленной. И плюс к тому – испуганной. И усугублять этот испуг как раз тогда, когда Игорь сумел ее чуть-чуть успокоить? Маша поймала вопросительный взгляд Ксении и улыбнулась:
– Выздоравливай-ка. А мы с Игорем пойдем завтра в архив, покопаемся там по твоим квартирным делам, потом тебе все расскажем. Да, Игорь?
– Развлекут тебя, – кивнула с готовностью Ника.
А Игорь подмигнул Маше: мол, ввязались мы с тобой! И с видимым облегчением поднялся с казенного стула:
– Что ж, не будем утомлять больную, – он потянул жену за локоть, и Ника, чмокнув подругу в щеку и материнским жестом машинально оправив одеяло, вышла из палаты вслед за супругом и Машей.
* * *– Ну-с, с чего начнем?
– Скорее, с кого. – Маша провела рукой по голове, смоченной невидимой питерской моросью. Они стояли перед Центральным госархивом. Игорь снял с носа и протер очки в мелкой водяной пыли, вынул из кармана список жильцов.
– Пироговы, – прочел он. – Вкусная фамилия. Наверное, и люди не самые плохие.
Валера. 1959 г.
«Во Дворце пионеров имени А. А. Жданова свыше 11 тысяч детей занимаются в 702 технических, художественных, музыкальных, хоровых и спортивных кружках».
Газета «Ленинградская правда». 1959 г.«Красивая пара», – сказал папка про «хрузин», как их называет мама – как выплевывает. Худшие у нее «явреи», но грузины ей тоже – не очень. «Грубо выражаясь, мягко говоря», – добавляет про себя Лерка любимое папино выражение.
Лерка смотрит через занавески на новую соседку – как она к мамке в доверие пытается влезть: ему штаны справила, мамке – юбку расширила. Мама у него красивая, папа говорит – «все на месте», большая. Глаза, правда, – пытался он быть объективным, – маленькие. Ну, и усы, конечно. Все мальчишки над ним во дворе потешаются: что, Лерка, как вырастешь, такие же усы будут, как у мамки? Лерка в ответку с ними ни с кем не делится, когда выходит во двор со съестным – мамка то и дело ему то бутерброд сунет, то пирожное. Папка из магазина каждый день за пазухой приносит, называет это «толькодлясвоих», мама – дефицит. «Сорок-сорок сорокни!» – кружат вокруг него вечно голодные пацаны, кожа да кости. Сорокни – значит, поделись. Но Лерка только побыстрее засовывает кусок в рот, вытирает толстые масляные пальцы о растянутую вязаную кофту. Поняв, что им ничего не достанется, дворовые кричат:
«Жиро-мясо-комбинат, пром-сосиски-лимонад!»
И отстают. Но чуть-чуть презирают и отправляют водить: в пятнашки – водить, в прятки – водить, в двенадцать палочек – тоже. Ударит Витька по палочкам – и беги их, собирай! Или в выбивалу – вечно Лерку выбить норовят. Он – простая мишень. Крупная. Или за фрица играть – если в «войнушку». Фрицем быть никто не хочет. А на рыбалку или на чердак полазать никогда не зовут. Один Колька Лоскудов с ним дружит, потому что сосед, деться некуда, – понимает с легкой грустью Лерка. Брат вчерась Кольке фотоаппарат подарил – «Любитель 2». Лерка аж затрясся весь от зависти: у него фотоаппарата не было. А спроси – зачем он тебе сдался? Не ответит. Только знает: ему нужно все самое лучшее.
– Ты ж очкарик, – важно сплевывает Лерка в дворовую пыль – они сидят на лавке рядом с дровяными сараями. – Какой из тебя фотограф?
Колька опускает близорукие глаза. А Лерка, довольный, его добивает:
– В объектив надо видеть все хорошо, а то государство тебя обучит, а ты ослепнешь, вот будет номер!
– Все равно пойду, – глядя в пыль, говорит Колька. – Во Дворце пионеров кружок есть, фотолюбителей. По четвергам занимаются.
– Я с тобой, – вскакивает Лерка.
– Тебе ж это разве интересно?
– Я за компанию, – Лерка смотрит на него выжидающе. Он во Дворце был уже – на кружке по машиностроению. Но ушел – скучно стало. Пнул ногой щепку. – Ну чего, идем?
Вот странно как: Невский проспект близок, а они туда реже бегают, чем в порт на Ваське. Так на Невском что смотреть? Ну, «Елисеевский» с огроменными люстрами из хрусталя, «Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы» – эти крабы, «Chatka», тут же в банках, составленных высоченной пирамидой, и две бочки с черной икрой – гадость жуткая. Не подойти – дороговизна! Конфеты карамельки – по 700 рублей! Колька, конечно, замирает с открытым ртом. А Лерка тянет его к переходу – на другой стороне играет в саду отдыха джаз-банд, написано: под управлением Изи Атласа. Там публика уже пришла на концерт Райкина. Они с Колькой на секунду тормозят перед киноафишей: двое – мужчина и женщина – впились друг в друга почему-то синими губами. И это – кино? Лерка с Колькой переглядываются: кому такое вообще может быть интересно? То ли дело – «Судьба человека» Бондарчука! Папка его обещал сводить. Про войну. Тут он вспомнил, что слышал сегодня ночью, и замедлил шаг.
– Ты чего? – удивляется Колька. На секунду Лерке захотелось все рассказать, прямо тут, выплеснуть тот ужас, который он испытал, услышав знакомый и одновременно совсем чужой голос, перекрываемый богатырским отцовским храпом. «Шварц айзен адлер, – говорил голос. – Айзен адлер…» Лерка в темноте покрылся холодным потом, зажмурил глаза. Это было похоже на самую страшную сказку, где красавица внезапно превращается в чудовище. Хотя нет, еще страшнее, потому что какая красавица может быть ближе и дороже, чем своя мама? И с утра, вглядываясь в родное лицо, он пытался понять, не приснилось ли ему все. А если не приснилось, то что с этим делать – куда бежать? К отцу? Или сразу в милицию? Лерка сглотнул, прикрыл глаза – будто спрятался от реальности, чтобы не думать, не решать здесь и сейчас.
– Идем, что ли? – тычет его в бок Колька. Он волнуется, боится опоздать.
Они проходят через торжественный вход в Аничков дворец, долго изучают доску с перечнем кружков – их тут видимо-невидимо. А Колька – даром что очкарик – сразу видит «Фотодело» и дергает Лерку за локоть: поторопись!
* * *Домой возвращаются в прямо противоположном настроении: Лерка мрачно пинает вдоль набережной жестянку, Колька – сияет, что твой медный грош. Его взяли в кружок! Сказали: близорукость может делу даже помочь – близорукий видит то, что другие не видят, а это, мол, для фотографа самое главное. Длинный, как жердь, руководитель секции показал ребятам несколько фото, попросил выбрать, что нравится. Лерка выбрал цветные фото из «Огонька». А Колька – фигню какую-то: черно-белые лица колхозников, деревню с лошадью в тумане. Длинный тут как обрадуется! Что-то залопотал о перспективе и равновесии, Лерка ничего не понял. И Колька, он уверен, тоже не понял. Но кивал большой головой, как болванчик. А на самого Лерку жердявый после даже не взглянул, и Лерке стало обидно. Не столько из-за фотографий, столько из-за того, что и ему хотелось так же сиять, как Колька…
– Тебе тоже нужно в какой-нибудь кружок записаться! – говорит Колька, будто подслушал его мысли.
– Вот еще, дурака нашел! – начинает Лерка, и вдруг взгляд его падает на киоск «Союзпечати»: на стеклянной стенке выставлены новые марки. – Я марки собирать буду! – заявляет он.
– Филателистом станешь? – уважительно смотрит на него Колька.
И Лерка повторяет, с удовольствием пробуя сложное слово на вкус: фи-ла-те-лист. Да.
Ксения
Ксюша заставила себя подняться с постели и выйти хотя бы в больничный коридор. И то сказать: в старой больнице если и было чего красивого, то этот просторный коридор с арочными окнами. Будто в замедленном кино больные по-черепашьи – травма же! – переходили из зоны света в зону тьмы. Ксения тоже вполне бодро постукивала алюминиевыми ходунками, когда…
– Простите, бога ради, вы тут наступили… – Ксения замерла. Мужчина в ярко-синем свитере под горло и зеленых вельветовых брюках встал перед ней на одно колено, голова в роскошных светлых кудрях склонилась к ее ногам, в руках блеснуло что-то металлическое – пинцет? – Вам не сложно будет привстать здоровой ногой на цыпочки?
Ошеломленная, Ксения оперлась на ходунки и с некоторым трудом приподнялась на носки.
– Ву-а-ля! – торжествуя, мужчина встал, держа пинцетом маленький клочок бумаги. – Простите, случайно вылетела…
– Кто вылетел? – Ксения впервые увидела лицо мужчины: густые брови, яркие – под цвет свитера – глаза, улыбка, как у Чеширского Кота. Такие красавцы всю жизнь вызывали у нее исключительно желание спрятаться.
– Бабочки тут не летают, – улыбка стала еще шире. – Это марка, узнаете?
Ксения, чуть покраснев и мысленным взором сразу окинув весь свой гламурный наряд – тапки, вязаные носки, застиранный халат, очки, – покачала головой: нет.
– Так называемая «Черная пенни», она погашена, в средней сохранности. Недорогая. – Ксения пригляделась: на марке была изображена дама в профиль. – Королева Виктория, – прокомментировал незнакомец, – очень приятно. А я – Эдуард.
Ксения хмыкнула:
– Восьмой?
Мужчина расхохотался:
– А вы забавная. Может быть, все-таки представитесь?
– Ксения, – Ксения покраснела еще гуще. – Уж простите – руки подать не могу, – и она качнула рукой в гипсе.
– Понимаю. Это вы меня извините, что побеспокоил в таком состоянии. Хотите, принесу вам что-нибудь из съестного? Я как раз маме иду покупать очередной вафельный торт. Она у меня съедает по одному «Шоколадному принцу» в день и не толстеет.
– Везет, – улыбнулась Ксения. – Но мне ничего не нужно, спасибо.
Эдуард («Боже, какие же претензии к жизни были у любительницы «Шоколадного принца», надеюсь, его отчество хотя бы не Иванович», – усмехнулась про себя Ксюша) кивнул и пошел себе по коридору – яркой экзотической птицей на фоне больничных ворон. Провожая его взглядом, Ксения не могла не признать: изумрудно-зеленый и небесно-синий смотрелись, как ни странно, очень здорово вместе – и вздохнула: есть же мужчины со вкусом! Среди консерваторской братии ей такие никогда не попадались. Да что там – сама Ксения с трудом решалась даже на традиционные цветовые сочетания. Размышляя об этом, она потихоньку доковыляла обратно до своей палаты, уверенная, что самое яркое впечатление на сегодняшний день уже пережила. И ошиблась.
Через полчаса, когда она уже почти прикончила принесенный ей заботливой Никой детектив в мягкой обложке, раздался стук в дверь. Думая, что это медсестра, Ксения сказала: войдите! И сразу пожалела: на пороге стоял давешний Эдуард с букетом цветов. Ксения почти неприлично на него уставилась.
– Сияние стиля, – усмехнулся в ответ Эдуард.
– А?
– Название букета. Шедевр цветочного маркетинга. Любите кустовые розы?
– Э… – Ксения, похоже, могла выражать мысль только звуками.
– Слушайте, там был не слишком большой выбор, – пожал он плечами. – Либо красные розы – но это мне показалось банальным. Либо композиции с лилиями – но от них у вас могла разболеться голова. Либо…
– Спасибо, – наконец смогла выразиться словом, а не междометием Ксения.
Красавец облегченно вздохнул:
– Я, наверное, не в тему. Но мне просто хотелось вас как-то порадовать.
– Спасибо, – повторила Ксюша, глядя на букет. На самом деле розы были прелестные – мелкие, бледно-розовые, очень нежные. Никто из ее друзей не догадался принести ей в больницу цветы. Да что там! Последний букет она получила после концерта в Монреале от месье Менакера, а до этого… – попыталась вспомнить она о каких-нибудь цветочных подношениях от Пети, но так и не вспомнила.
– Ваза, – кивнул тем временем самому себе Эдуард и исчез из палаты, вернувшись пятью минутами позже с трехлитровой банкой. За это время Ксения попыталась причесать – кое-как, пятерней незагипсованной руки – давно не мытые волосы и вставить линзы.
А Эдуард, водрузив банку с цветами на широкий подоконник, не дожидаясь приглашения, запрыгнул на него же и с любопытством оглядел апельсиновые дары на тумбочке рядом и обложку книжки, лежащей на Ксюшином пододеяльнике.
– Вы, наверное, филателист? – светски поинтересовалась Ксения, чтобы скрыть смущение. Что он тут – весь вечер сидеть намерен?
– О, нет, – он по-мальчишески поболтал ногами. – Это хобби. А вообще-то, я дизайнер. Дизайнер по интерьеру.
– Правда? – оживилась Ксения, нащупав тему для беседы. – А я как раз купила квартиру, которой очень нужен ремонт.
Эдуард снова улыбнулся, сверкнули идеально ровные зубы:
– Замечательное совпадение, вы не находите?
Маша
Маша пила чай и поглядывала по сторонам: как это часто бывает у пожилых людей, стены небольшой комнаты украшало множество фотографий. Вот на фоне входа в церковь из резного камня (птицы да цветы) стоят молодожены – судя по фраку и закрытому наглухо платью на юной испуганной невесте – конец XIX века. Маша привстала, чтобы прочесть надпись каллиграфическим почерком: Тифлис. 1888.
– Это мои дед с бабкой. Амилахвари. Древний, уважаемый род. Мама говорила, ее фамилия встречается в одной из поминальных записей в синодике Крестного монастыря в Иерусалиме, – мягкий низкий голос Тамары Зазовны завораживал.
Она сидела, улыбаясь, в кресле напротив: бархатный халат с кистями, бархатные же узкие тапочки на небольшом каблуке. Королева. Доброжелательная королева. Перед ней на столике накрыто для гостьи королевское же угощение: несколько видов варенья в хрустальных розеточках, домашнее печенье. – Вы ешьте, не обращайте внимания на мою болтовню. Вот – варенье ореховое. Это мне из Тбилиси родня присылает. Знаете, фотография тоже от них. Мои родители боялись хранить такое у себя. Князья – не слишком удачная родня в Советском государстве. Папа-то у меня был из простых, несмотря на «культурную» профессию. Его отец служил садовником у Амилахвари. Мать, я так понимаю, просто «спрятали» в таком неравном браке. А петь в его семье любили все – ну, это у нас, у грузин, частое явление. Вы ешьте, ешьте.
Маша зачерпнула серебряной ложечкой прозрачное оранжевое озерцо. Облепиха?
– Тамара Зазовна, а не осталось ли у вас каких-нибудь фотографий той поры?
– Конечно. Я вам тут приготовила пару альбомов. Видите ли, один из соседских мальчиков – мой любимец, Коля, – обожал фотографировать. Так у нас сложилась даже такая традиция: в Новый год или на 7 Ноября он нам дарил свои карточки. Вот, – она потянулась и достала пухлый альбом: потертая бархатная обложка трогательно перевязана коричневым школьным бантом. Тамара пролистнула первые страницы, передала Маше. Сама пересела на диван рядом. Маша осторожно взяла альбом в руки: на первом развороте слева – супруга, справа – супруг.
– Какой ваш отец знойный красавец! – с улыбкой сказала она.
Тамара Зазовна кивнула:
– Мама тоже была интересная, умела себя подать. Но папа – правда был очень хорош. Это помогало в профессии – я имею в виду на сцене. Красивых оперных певцов не так много, а если к внешности добавить чарующий голос… – Она перевернула страницу: – А вот и все наши жильцы.
Тамара Зазовна замолчала, вглядываясь в лица.
– Мы сегодня смотрели в архиве документы по семье Пироговых, – Маша дотронулась до лица Пирогова: нос уточкой, маленькие хитроватые глазки, добродушно улыбается, демонстрируя многочисленные коронки в рту.
– Тоже красавец, – усмехнулась Бенидзе. – Только в своем роде.
– Это вы о хищениях госсобственности? – подняла глаза Маша.
– Откуда вы знаете?
– Через несколько лет после убийства Ксении Лазаревны его отстранили от работы в родном мясном магазине, осудили условно. Дело, я так поняла, было негромкое, больше воспитательного плана. Хищения оказались мелкие, он, как это тогда называлось, был банальным «несуном», а не злостным расхитителем.
– Вот именно что – банальным, – вздохнула Тамара Зазовна. – Мы же понимали, зачем человеку работать мясником. Но все его покрывали, потому что ели – на праздники – и язык, и балык, и вырезку. Мама моя готовила из этого изобилия на общий стол. Мы, можно сказать, благодаря им, Пироговым-то, и выживали. Поэтому он у нас был «квартуполномоченным», да и вообще… – Тут Тамара Зазовна чуть потемнела лицом. – Он же, как вы уже, наверное, знаете, крестьянский сын. Практичный, рукастый.
– А Пирогова?
– Галина Егоровна? Она, конечно, была не в восторге от щедрости мужа, но в этом тоже просматривался несложный расчет: прикармливая всю нашу коммуналку, они надеялись на ответную лояльность. И получали ее: например, Людмила Николаевна Лоскудова, мама Коли и Алеши, присматривала за детьми, моя мать вне очереди драила места общего пользования и всех обшивала, доктор Коняев лечил нас, его жена – учительница – часто помогала делать уроки.
– Звучит, как идеальное общество, коммуна в действии? – улыбнулась Маша.
– В некотором роде так оно и было, – кивнула Тамара Зазовна. – Знаете, что говорил наш Пирогов, вставая с рюмкой водки на всех застольях? Что даже если по социалистическому плану строительства им предложат отдельную квартиру, он от нее откажется – так хорошо ему у нас в коммуналке живется!
– Но вы его не любите, – сказала Маша скорее утвердительно, чем задавая вопрос. И сама удивилась – почему использовала настоящее время? Кого сейчас уже не любить покойника?
Тамара Зазовна отвернулась:
– Не люблю, – глухо ответила она, тоже не отделяя себя за давностью лет от прежнего чувства. И добавила строго: – Но это уже мои личные причины, к убийству Ксении Лазаревны отношения не имеющие.
Маша решила не настаивать:
– Значит, хищения социалистической собственности вряд ли могли быть причиной для преступления?
Бенидзе замахала руками:
– Боже упаси!
Маша перевернула еще несколько страниц альбома.
– Не одолжите мне его на некоторое время?
– Конечно, берите.
– И еще. Мальчик, который много фотографировал…
– Коля?
Маша кивнула:
– Вы, случайно, не знаете его координаты? Я бы хотела с ним встретиться.
Тамара Зазовна побледнела:
– Боюсь, не получится, Маша. Он погиб. И уже давно.
* * *Какая тишина… Удивительное место – за поселком, в сосновом бору. Дорога, минуя кладбищенские ворота, петляет дальше через лес и выходит к озеру. Золотое место Ленобласти, осененное дачными радостями еще с конца девятнадцатого века: бонтонные прогулки, крокет, домашний летний театр, в хорошую погоду – вид на Кронштадт. Само кладбище – маленькое совсем, только для избранных: академики, занимавшие здесь ведомственные дачи, один большой поэт, один большой музыкант. Немногочисленный, но солидный некрополь. И – среди прочих серьезных плит – маленькая стела. Николай Лоскудов. Коля. 1951–1960.
Человек, с которым Маша договорилась тут о встрече, стоял под мокрым снегом с непокрытой головой – длинный черный зонт, как штандарт побежденной армии, упирается в кладбищенскую глину. Высокий старик в синей куртке с отороченным мехом капюшоном, голова чисто выбрита, острый подбородок опущен в клетчатый шерстяной шарф. Крупный хрящеватый нос, кустистые брови над выцветшими серыми глазами.
– Здравствуй, Тамарочка, – произнес он первым, увидев Тамару Зазовну.
– Алеша? – откликнулась Бенидзе, вглядываясь в высокого старика, и у Маши сжалось сердце: в этой перекличке между пожилыми людьми она услышала зов юности. Она поддерживала Тамару Зазовну под руку и почувствовала, как дрогнула ее ладонь в перчатке. Алексей Иванович молча смотрел, как они подходят – чуть склонив голову на плечо и вглядываясь в лицо своей бывшей соседки.
– Совсем не изменилась, Томочка, – сказал он через легкую паузу, осторожно ее обняв.
– Конечно, нет, – рассмеялась Бенидзе, и Маша удивленно на нее взглянула: этот смуглый румянец, блестящие от сдержанной слезы глаза… А Тамара Зазовна тряхнула головой: – Всего-то полвека прошло.
– Да кто их считает? – с улыбкой пожал плечами старик, повернулся к Маше и протянул руку: – Здравствуйте. Лоскудов.
– Мария. Каравай, – протянула она ладонь в ответ, но на секунду замешкалась: кожа Лоскудова была вся в странных пятнах – экзема?
– Не обращайте внимания! – Алексей Иванович спрятал руку обратно в перчатку. – Наследственная проблема, это не заразно, чисто косметический дискомфорт. Так что у вас за вопрос?
– Я хотела поговорить с вами о бывших соседях. – Снег, нападавший на рукав пуховика за те несколько минут, что они стояли перед могилой, соскользнул мини-лавиной вниз.
Старик пожал плечами и раскрыл наконец над ними свой внушительный зонт.
– Боюсь, интересующая вас эпоха пришлась как раз на мою раннюю юность. А в этом возрасте взрослые нас не очень волнуют. Мы все – в проблемах нашего собственного мироздания. Подростковые комплексы и идеалы, друзья, первая любовь…
Тут Маша вновь почувствовала движение руки в перчатке и украдкой взглянула на Тамару Зазовну. «Не может быть! – сказала она себе. И тут же себя одернула: – Почему же не может?»
Ведь ясно как день, что Тамара Бенидзе была, а возможно и до сих пор, влюблена в Алексея Лоскудова. А он в нее, увы, нет.
Алеша. 1959 г.
Мой залетка в ЛенинградеИ меня туда зовет.Моя буйная головушкаИ здесь не пропадет!Ленинградский фольклорКаждое утро, занимая очередь в ванную, я размышляю над тем, с чем можно сравнить нашу квартиру. Доисторический строй? Огонек газовых плит горит, как костерок в пещере, висящие над коммунальными столами сковородки исполняют роль тамтамов, а вывешенное сушиться над огнем белье – звериных шкур? Или все-таки Древняя Греция, где кухня – это агора, место общения, обмена новостями, эдакая театральная сцена для наших коммунальных драм? Тогда голос Левитана из репродуктора – как голос божества, указывающего светлый путь. А может, и вовсе Средневековье? Общий коридор – не что иное, как главная улочка средневекового городка, пересечение двух полуголых персонажей в ванной – встреча у фонтана, а пьяные потасовки на кухне (у нас такого нет, слава богу!) – тот же рыцарский турнир?
Но сколько бы я ни иронизировал, толку мало. Меня тошнит и от своего, и от чужого быта. Я перегружен лишней для меня информацией: знаю наизусть все соседское исподнее, знаю, что сегодня Пирогов своровал на ужин, я слышу свистящий шепот, которым Лали Звиадовна умаляет то немногое, что осталось от достоинства ее мужа. Мне жалко Тому, слоняющуюся по квартире с больными глазами – она так любит отца, но не в силах его защитить. Мне хочется отключить все органы чувств, закрыться, как моллюск, забиться в угол между рабочим столом и кроватью. Неделю назад, уходя, отец, оправдываясь, проговорился, что давно не дает матери денег. Я замер. Он-то был уверен, что я в курсе и оттого так с ним неласков. А правда в том, что мать ничего мне не рассказывала. И тогда – на что мы живем? Ведь ее зарплаты – сутки через трое на теплоэлектростанции – может хватить разве что на мерзлую картошку. У меня не хватило духу задать ей вопрос. Ведь пока я, здоровый парень, ей ничем помочь не могу. Да еще нужно изыскивать средства, чтобы отдавать Ксении Лазаревне деньги за Колькин фотоаппарат. Честно говоря, фарцовая компания давно вокруг меня ходит – есть у меня глупый, никому не нужный талант: я к языкам способный. Ну и вообще – память хорошая. Выяснилось случайно. В позапрошлом году ездили с ребятами на перекладных на Всемирный фестиваль молодежи и студентов – прозевать такое было нельзя, даже мама сдалась, отпустила. Трое суток почти не спали, болтались по столице, общались с интернациональной молодежью. Выяснилось, что американцы совсем не похожи на карикатуры в «Крокодиле»: простые ребята, большинство – в синих штанах и футболках. И главное – говорят совсем иначе, чем наша учительница по английскому по прозвищу Белка. Так вот, не поверите, через два дня я шпрехал так, что меня даже наши милиционеры принимали за иностранца. Да, слов я знал мало, и это пришлось исправлять по приезде: постучался в комнатку к той же старорежимной старушке, нашей Ксении Лазаревне. Попросил у нее давно примеченные романы Вальтера Скотта – еще дореволюционного издания. Она не отказала, только велела обернуть в бумагу – ну а как иначе? И давала по одному тому: сначала «Айвенго», потом – «Роб Рой» и «Черный карлик». Читать было тяжко, даже взятый в школьной библиотеке словарь – и тот не знал всех слов. Но потихоньку дело пошло – и бедная Белка стала меня побаиваться: я пару раз поправил ее на уроке. Вышло шикарно. Теперь можно было браться за дело.