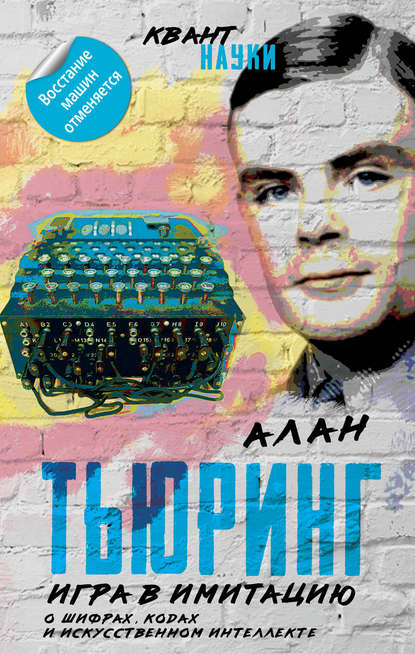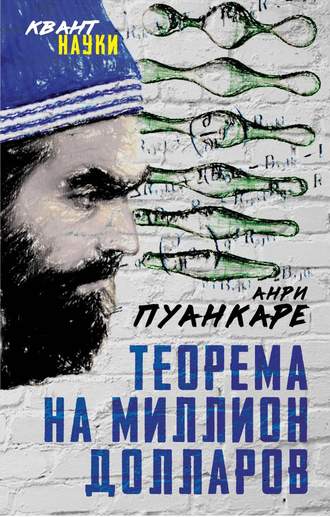
Полная версия
Теорема века. Мир с точки зрения математики

Анри Пуанкаре
Теорема века. Мир с точки зрения математики
© ООО «Издательство Родина», 2020
Наука и гипотеза
Введение
Для поверхностного наблюдателя научная истина не оставляет места никаким сомнениям: логика науки непогрешима, и если ученые иногда ошибаются, то это потому, что они забывают логические правила.
Математические истины выводятся из небольшого числа очевидных предложений при помощи цепи непогрешимых рассуждений: эти истины присущи не только нам, но и самой природе. Они, так сказать, ставят границы свобод творца и позволяют ему делать выбор только между несколькими относительно немногочисленными решениями. Тогда нескольких опытов будет достаточно, чтобы раскрыть нам, какой выбор им сделан. Из каждого опыта с помощью ряда математических дедукций можно вывести множество следствий, и таким образом каждый из них позволит нам познать некоторый уголок Вселенной.
Вот в таком виде представляется широкой публике или учащимся, получающим первые познания по физике, происхождение научной достоверности. Так они понимают роль опыта и математики. Так же понимали ее сто лет тому назад и многие ученые, мечтавшие построить мир, заимствуя из опыта возможно меньше материала.
Но, вдумавшись, заметили, что математик, а тем более экспериментатор, не может обойтись без гипотезы. Тогда возник вопрос, достаточно ли прочны все эти построения, и явилась мысль, что при малейшем дуновении они могут рухнуть. Быть скептиком такого рода значит быть только поверхностным. Сомневаться во всем, верить всему – два решения, одинаково удобные: и то и другое избавляет нас от необходимости размышлять.
Итак, вместо того чтобы произносить огульный приговор, мы должны тщательно исследовать роль гипотезы; мы узнаем тогда, что она не только необходима, но чаще всего и законна. Мы увидим также, что есть гипотезы разного рода: одни допускают проверку и, подтвержденные опытом, становятся плодотворными истинами; другие, не приводя нас к ошибкам, могут быть полезными, фиксируя нашу мысль; наконец, есть гипотезы, только кажущиеся таковыми, но сводящиеся к определениям или к замаскированным соглашениям.
Последние встречаются главным образом в науках математических и соприкасающихся с ними. Отсюда именно и проистекает точность этих наук; эти условные положения представляют собой продукт свободной деятельности нашего ума, который в этой области не знает препятствий. Здесь наш ум может утверждать, так как он здесь предписывает; но его предписания налагаются на нашу науку, которая без них была бы невозможна, они не налагаются на природу. Однако произвольны ли эти предписания? Нет; иначе они были бы бесплодны. Опыт предоставляет нам свободный выбор, но при этом он руководит нами, помогая выбрать путь, наиболее удобный. Наши предписания, следовательно, подобны предписаниям абсолютного, но мудрого правителя, который советуется со своим государственным советом.
Некоторые были поражены этим характером свободного соглашения, который выступает в некоторых основных началах наук. Они предались неумеренному обобщению и к тому же забыли, что свобода не есть произвол. Таким образом, они пришли к тому, что называется номинализмом, и пред ними возник вопрос, не одурачен ли ученый своими определениями и не является ли весь мир, который он думает открыть, простым созданием его прихоти[1]. При таких условиях наука была бы достоверна, но она была бы лишена значения.
Если бы это было так, наука была бы бессильна. Но мы постоянно видим перед своими глазами ее плодотворную работу. Этого не могло бы быть, если бы она не открывала нам чего-то реального; но то, что она может постичь, не суть вещи в себе, как думают наивные догматики, а лишь отношения между вещами; вне этих отношений нет познаваемой действительности.
Таково заключение, к которому мы придем; но для этого нам придется подвергнуть беглому обзору ряд наук от арифметики и геометрии до механики и экспериментальной физики.
Какова природа умозаключения в математике? Действительно ли она дедуктивна, как думают обыкновенно? Более глубокий анализ показывает нам, что это не так, – что в известной мере ей свойственна природа индуктивного умозаключения и потому-то она столь плодотворна. Но от этого она не теряет своего характера абсолютной строгости, что прежде всего мы и покажем.
Познакомившись ближе с одним из орудий, которые математика дает в руки естествоиспытателя, мы обратимся к анализу другого основного понятия – понятия математической величины. Находим ли мы ее в природе или сами вносим ее в природу? И в последнем случае не подвергаемся ли мы риску все извращать? Сличая грубые данные наших чувств и то крайне сложное и тонкое понятие, которое математики называют величиной, мы вынуждены признать их различие; следовательно, эту раму, в которую мы хотим заключить все, создали мы сами; но мы создали ее не наобум, мы создали ее, так сказать, по размеру и потому-то мы можем заключать в нее явления, не искажая в существенном их природы.
Другая рама, которую мы налагаем на мир, – это пространство. Откуда происходят первоначальные принципы геометрии? Предписываются ли они логикой? Лобачевский, создав неевклидовы геометрии, показал, что нет. Не открываем ли мы пространства при помощи наших чувств? Тоже нет, так как то пространство, которому могут научить нас наши чувства, абсолютно отлично от пространства геометра. Проистекает ли вообще геометрия из опыта? Глубокое исследование покажет нам, что нет. Мы заключим отсюда, что эти принципы суть положения условные; но они не произвольны, и если бы мы были перенесены в другой мир (я называю его неевклидовым миром и стараюсь изобразить его), то мы остановились бы на других положениях.
В механике мы придем к аналогичным заключениям и увидим, что принципы этой науки, хотя и более непосредственно опираются на опыт, все-таки еще разделяют условный характер геометрических постулатов. До сих пор преобладает номинализм; но вот мы приходим к физическим наукам в собственном смысле. Здесь картина меняется; мы встречаем гипотезы иного рода и видим всю их плодотворность. Без сомнения, они с первого взгляда кажутся нам хрупкими, и история науки показывает нам, что они недолговечны; но они не умирают целиком, и от каждой из них нечто остается. Это нечто и надо стараться распознать, потому что здесь, и только здесь, лежит истинная реальность.
Метод физических наук основывается на индукции, заставляющей нас ожидать повторения какого-нибудь явления, когда воспроизводятся обстоятельства, при которых оно произошло в первый раз. Если бы могли повториться вместе все эти обстоятельства, то этот принцип мог бы быть применим без всякого опасения; но этого никогда не случится: всегда некоторые из обстоятельств будут отсутствовать. Абсолютно ли мы уверены, что они не имеют значения? Конечно, нет. Это может быть вероятно, но не может быть строго достоверно. Отсюда – значительная роль, которую играет в физических науках понятие вероятности. Таким образом, исчисление вероятностей не есть только забава или руководство для игроков в баккара, и мы должны стараться точнее обосновать его принципы. В этом отношении я мог дать лишь неполные результаты, поскольку тот неясный инстинкт, который руководит нами при решении вопроса о вероятности, мало поддается анализу.
Изучив условия, в которых работает физик, я счел нужным показать его за работой. Для этого я взял несколько примеров из истории оптики и электричества. Мы увидим, откуда вышли идеи Френеля, Максвелла и какие гипотезы бессознательно создавали Ампер и другие основатели электродинамики.
Часть I. Число и величина
Глава I. О природе математического умозаключения
IСамая возможность математического познания кажется неразрешимым противоречием. Если эта наука является дедуктивной только по внешности, то откуда у нее берется та совершенная строгость, которую никто не решается подвергать сомнению? Если, напротив, все предложения, которые она выдвигает, могут быть выведены один из других по правилам формальной логики, то каким образом математика не сводится к бесконечной тавтологии? Силлогизм не может нас научить ничему существенно новому, и если все должно вытекать из закона тождества, то все также должно к нему и приводиться. Но неужели возможно допустить, что изложение всех теорем, которые заполняют столько томов, есть не что иное, как замаскированный прием говорить, что А есть А!
Конечно, можно добраться до аксиом, которые лежат в источнике всех этих рассуждений. И если, с одной стороны, держаться того мнения, что их нельзя свести к закону противоречия, с другой – не желать видеть в них только факты опыта, которые не могли бы обладать характером математической необходимости, то имеется еще надежда отнести их к числу синтетических априорных суждений. Но это не значит разрешить затруднение; это значит только дать ему название: даже если бы природа синтетических суждений перестала быть для нас тайной, все же противоречие не было бы устранено, оно было бы только отодвинуто; силлогистическое умозаключение неспособно прибавить что-либо к тем данным, которые ему предоставляются; эти данные сводятся к нескольким аксиомам, и, кроме них, ничего нового нельзя было бы найти в заключениях.
Никакая теорема не должна была бы являться новой, если в ее доказательство не входила бы новая аксиома; умозаключение могло бы только возвращать нам истины, непосредственно очевидные, имеющие источником интуицию; оно являлось бы только промежуточным пустословием. Тогда, пожалуй, возник бы вопрос: не служит ли вообще силлогистический аппарат единственно для того, чтобы маскировать делаемые нами заимствования?
Противоречие поразит нас еще больше, если мы откроем какую-нибудь математическую книгу: на каждой странице автор будет выражать намерение обобщить уже известную теорему. Значит ли это, что математический метод ведет от частного к общему, и каким образом можно называть его тогда дедуктивным?
Наконец, если бы наука о числе была чисто аналитической или могла вытекать аналитически из небольшого числа синтетических суждений, то достаточно сильный ум мог бы, по-видимому, с первого взгляда заметить все содержащиеся в них истины; более того: можно было бы даже надеяться, что когда-нибудь для их выражения будет изобретен язык настолько простой, что эти истины будут непосредственно доступны и заурядному уму.
Если отказаться от допущения этих выводов, то необходимо придется признать, что математическое умозаключение само в себе заключает род творческой силы и что, следовательно, оно отличается от силлогизма.
И отличие это должно быть глубоким. Так, например, мы не найдем ключа к тайне в многократном применении того правила, по которому одна и та же операция, одинаково примененная к двум равным числам, дает тождественные результаты.
Все эти формы умозаключения – все равно, приводимы ли они к силлогизму в собственном смысле или нет, – сохраняют аналитический характер и поэтому являются бессильными.
IIВопросы этого рода обсуждаются давно. Еще Лейбниц пытался доказать, что 2 да 2 составляют 4; рассмотрим вкратце его доказательство.
Я предполагаю, что определены число 1 и операция x + 1, состоящая в прибавлении 1 к данному числу x. Эти определения, каковы бы они ни были, не будут входить в последующие рассуждения.
Я определяю затем числа 2, 3 и 4 равенствами:
(1) 1 + 1 = 2; (2) 2 + 1 = 3; (3) 3 + 1 = 4.
Я определяю также операцию x + 2 соотношением
(4) x + 2 = (x + 1) + 1.
Установив это, мы имеем
2 + 2 = (2 + 1) + 1 (определение (4)),
(2 + 1) + 1 = 3 + 1 (определение (2)),
3 + 1 = 4 (определение (3)),
откуда
2 + 2 = 4 (что и требовалось доказать).
Нельзя отрицать того, что это рассуждение является чисто аналитическим. Но спросите любого математика, и он вам скажет: «Это, собственно говоря, не доказательство, а проверка». Мы просто ограничились сближением двух чисто условных определений и констатировали их тождество; ничего нового мы не узнали. Проверка тем именно и отличается от истинного доказательства, что, будучи чисто аналитической, она остается бесплодной. Она бесплодна, потому что заключение есть только перевод предпосылок на другой язык. Истинное же доказательство, наоборот, плодотворно, ибо в нем заключение является в некотором смысле более общим, чем посылки.
Равенство 2 + 2 = 4 могло подлежать проверке только потому, что оно является частным случаем. Всякое частное выражение в математике всегда может быть таким образом проверено. Но если бы математика должна была сводиться к ряду таких проверок, то она не была бы наукой. Ведь шахматист, например, не создает еще науки тем, что он выигрывает партию. Всякая наука есть наука об общем.
Можно даже сказать, что точные науки имеют своей задачей избавить нас от необходимости таких прямых проверок.
IIIИтак, посмотрим на математика за его делом и постараемся объяснить себе успешность его приемов. Задача эта не лишена трудностей; недостаточно открыть случайно попавшееся сочинение и проанализировать там какое-нибудь доказательство.
Мы должны прежде всего исключить геометрию, где вопрос усложняется трудными задачами, относящимися к роли постулатов, к природе и к происхождению понятия пространства. По аналогичным основаниям мы не можем обращаться и к анализу бесконечно малых. Нам надо искать математическую мысль там, где она осталась чистой, т. е. в арифметике.
Надо еще продолжить отбор; в высших отделах теории чисел первоначальные математические понятия подверглись столь глубокой разработке, что становится трудно их анализировать.
Следовательно, именно в началах арифметики мы должны надеяться найти искомое объяснение; но как раз в доказательстве наиболее элементарных теорем авторы классических сочинений обнаружили меньше всего точности и строгости. Не надо ставить им это в вину; они подчинялись необходимости; начинающие не подготовлены к настоящей математической строгости; они усмотрели бы в ней только пустые и скучные тонкости; было бы бесполезной тратой времени пытаться скорее внушить им большую требовательность; надо, чтобы они быстро, без остановок, прошли путь, который некогда медленно проходили основатели науки.
Почему же нужна столь продолжительная подготовка, чтобы привыкнуть к этой совершенной строгости, которая, кажется, должна была бы быть от природы присущей всякому нормальному уму? Это логическая и психологическая проблема, которая достойна обсуждения.
Но мы не будем останавливаться на ней; она является посторонней для нашего предмета. Я буду лишь помнить, что нам надо, из опасения не достигнуть цели, привести заново доказательства наиболее элементарных теорем и вместо той грубой формы, которую им придают, чтобы не утомить начинающих, придать такую, которая может удовлетворить ученого-математика.
Определение сложения. Я предполагаю, что предварительно была определена операция x + 1, состоящая в прибавлении числа 1 к данному числу x. Это определение, каково бы оно ни было, не будет играть никакой роли в последующих рассуждениях.
Дело идет теперь об определении операции x + a, состоящей в прибавлении числа a к данному числу x.
Предположим, что определена операция
x + (а − 1).
Тогда операция x + а будет определена равенством
x + а = [x + (а − 1)] + 1. (1)
Таким образом, мы узнаем, что такое x + а, когда будем знать, что такое x + (а − 1); а так как я вначале предположил, что известно, что такое x + 1, то можно определить последовательными «рекурренциями» операции x + 2, x + 3 и т. д.[2]
Это определение заслуживает некоторого внимания, так как оно имеет особенную природу, отличающую его от определения чисто логического; в самом деле, равенство (1) содержит бесчисленное множество различных определений, и каждое из них имеет смысл только тогда, когда известно другое, ему предшествующее.
Свойства сложения. Ассоциативность. Я утверждаю, что
а + (b + с) = (а + b) + с.
В самом деле, теорема справедлива для c = 1; в этом случае она изображается равенством
а + (b + 1) = (a + b) + 1.
А это – помимо различия в обозначениях – есть не что иное, как равенство (1), при помощи которого я только что определял сложение.
Предположим, что теорема будет справедлива для с = γ; я говорю, что она будет справедлива и для c = γ + 1; пусть, в самом деле,
(а + b) + γ = а + (b + γ);
отсюда следует
[(a + b) + γ] + l = [a + (b + γ)] + l
или в силу определения (1)
(а + b) + (γ + l) = a + (b + γ + 1) = a + [b + (γ + 1)],
а это показывает с помощью ряда чисто аналитических выводов, что теорема верна для γ + 1.
Но так как она верна для с = 1, то последовательно усматриваем, что она верна для с = 2, для с = 3 и т. д.
Коммутативность. 1. Я утверждаю, что
a + 1 = 1 + a.
Теорема, очевидно, справедлива для а = 1 путем чисто аналитических рассуждений можно проверить, что если она справедлива для а = γ, то она будет справедлива для а = γ + 1; но раз она справедлива для а = 1, то она будет справедлива и для а = 2, для а = 3 и т. д.; это выражают, говоря, что высказанное предложение доказано путем рекурренции.
2. Я утверждаю, что
a + b = b + a.
Теорема только что была доказана для b = 1; можно аналитически проверить, что если она справедлива для b = β, то она будет справедлива для b = β + 1.
Таким образом, предложение доказано путем рекурренции.
Определение умножения. Мы определим умножение при помощи равенств
a × 1 = a
a × b = [a × (b − 1)] + a. (2)
Равенство (2), как и равенство (1), заключает в себе бесчисленное множество определений; после того как дано определение а × 1, оно позволяет определить по следовательно а × 2, а × 3 и т. д.
Свойства умножения. Дистрибутивность. Я утверждаю, что
(а + b) × с = (а × с) + (b × с).
Мы проверяем аналитически справедливость этого равенства для с = 1; а потом проверяем, что если теорема справедлива для с = γ, то она будет справедлива и для с = γ + 1.
Предложение опять доказано рекурренцией.
Коммутативность. 1. Я утверждаю, что
a × 1 = 1 × a.
Теорема очевидна для а = 1.
Проверяем аналитически, что если она справедлива для а = α, то она будет справедлива и для а = α + 1.
2. Я утверждаю, что
a × b = b × a.
Теорема только что была доказана для b = 1. Аналитически проверяем, что если она справедлива для b = β, то она будет справедлива и для b = β + 1.
IVЗдесь я прерываю этот монотонный ряд рассуждений. Но именно эта монотонность и способствовала лучшему выделению того однообразного процесса, который мы находим на каждом шагу.
Этот процесс есть доказательство путем рекурренции. Сначала формулируется теорема для n = 1; потом доказывается, что если она справедлива для n − 1, то она справедлива и для n, и отсюда выводится заключение о справедливости ее для всех целых чисел.
Мы только что видели, как можно воспользоваться этим для доказательства правил сложения и умножения, т. е. правил алгебраического вычисления; это вычисление есть орудие преобразования, которое применяется в гораздо большем числе разнообразных комбинаций, чем простой силлогизм; но это орудие еще чисто аналитическое, оно не способно научить нас ничему новому. Если бы математика не имела ничего другого, она тотчас же остановилась бы в своем развитии; но она получает новое средство в том же процессе, т. е. в рассуждении путем рекурренции, и потому может непрерывно продолжать свое поступательное движение.
В каждом шаге, если его хорошенько рассмотреть, мы находим этот способ рассуждения – или в той простой форме, которую мы только что ему придали, или в форме более или менее видоизмененной.
В нем, следовательно, по преимуществу заключается математическое рассуждение, и нам следует изучить его ближе.
VСущественная черта умозаключения путем рекурренции заключается в том, что оно содержит в себе бесчисленное множество силлогизмов, сосредоточенных, так сказать, в одной формуле.
Чтобы лучше можно было себе это уяснить, я сейчас расположу эти силлогизмы один за другим в виде некоторого каскада. Это, в сущности, – гипотетические силлогизмы.
Теорема верна для числа 1.
Если же она справедлива для 1, то она справедлива для 2.
Следовательно, она верна для 2.
Если же она верна для 2, то она верна для 3.
Следовательно, она верна для 3 и т. д.
Очевидно, что заключение каждого силлогизма служит следующему меньшей посылкой.
Большие посылки всех наших силлогизмов могут быть приведены к одной формуле:
Если теорема справедлива для n − 1, то она справедлива для n.
Таким образом, очевидно, что в рассуждении путем рекурренции ограничиваются выражением меньшей посылки первого силлогизма и общей формулы, которая в виде частных случаев содержит в себе все большие посылки.
Этот никогда не оканчивающийся ряд силлогизмов оказывается приведенным к одной фразе в несколько строк.
Теперь легко понять, почему всякое частное следствие, вытекающее из теоремы, может быть, как я изложил выше, проверено чисто аналитическим процессом.
Если, вместо того чтобы доказывать справедливость нашей теоремы для всех чисел, мы желаем обнаружить ее справедливость, например, только для числа 6, для нас будет достаточно обосновать 5 первых силлогизмов нашего последовательного ряда; если бы мы пожелали доказать теорему для числа 10, надо было бы взять их 9; для большого числа надо было бы взять их еще больше; но как бы велико ни было это число, мы всегда в конце концов его достигли бы, и аналитическая проверка была бы возможна.
Однако как бы далеко мы ни шли, мы никогда не могли бы дойти до общей применимой ко всем числам теоремы, которая одна только и может быть предметом науки. Чтобы ее достигнуть, понадобилось бы бесконечно большое число силлогизмов – нужно перескочить бездну, которую никогда не будет в состоянии заполнить терпение аналитика, ограниченное одними средствами формальной логики.
Вначале я поставил вопрос, почему нельзя было бы вообразить ум, достаточно мощный для того, чтобы сразу подметить всю совокупность математических истин.
Ответ теперь нетруден; шахматный игрок может рассчитать вперед четыре, пять ходов, но, каким бы необыкновенным его ни представляли, он всегда предусмотрит только конечное число ходов; если он применит свои способности к арифметике, то он не будет в состоянии подметить в ней общих истин путем одной непосредственной интуиции; он не будет в состоянии обойтись без помощи рассуждения путем рекурренции при доказательстве самой незначительной теоремы, ибо это и есть то орудие, которое позволяет переходить от конечного к бесконечному.
Это орудие всегда полезно, ибо оно позволяет нам сразу пройти любое число ступеней и избавляет нас от долгих, скучных и однообразных проверок, которые скоро стали бы практически невыполнимыми.
Но оно делается неизбежным, раз мы имеем в виду общую теорему, к которой аналитическая проверка нас непрерывно приближала бы, никогда не позволяя ее достигнуть.
В этой области арифметики кто-нибудь, пожалуй, счел бы себя далеким от анализа бесконечно малых; между тем мы сейчас видели, что идея математической бесконечности уже здесь играет весьма важную роль, и без нее не было бы арифметики как науки, так как не было бы идеи общего.
VIСуждение, на котором основан способ рекурренций, может быть изложено в других формах; можно сказать, например, что в бесконечно большом собрании различных целых чисел всегда есть одно, которое меньше всех других. Можно легко переходить от одного выражения к другому и таким образом создавать иллюзию доказательства законности рассуждения путем рекурренции. Но в конце концов всегда придется остановиться; мы всегда придем к недоказуемой аксиоме, которая, в сущности, будет не что иное, как предложение, подлежащее доказательству, но только переведенное на другой язык.
Таким образом, нельзя не прийти к заключению, что способ рассуждения путем рекурренции несводим к закону противоречия.
Это правило не может происходить и из опыта; опыт нас может научить только тому, что это правило справедливо, например, для 10, для 100 первых чисел; он не может простираться на бесконечный ряд чисел, а лишь на большую или меньшую часть этого ряда, всегда ограниченную.