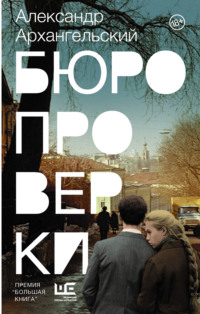Полная версия
Бюро проверки
Но как бы далеко ни уносились мысли Сумалея, он неизменно возвращался к храму как семиотической модели мира. И без конца наращивал детали. Это конха, а это апсида. Деисусный чин. Иконостас. Престол. Я так увлёкся новым знанием о храмовом пространстве, что очень скоро смог водить библиотечных девушек в московские церквушки. Стоя сзади, снисходительно шептал на ухо: это называют ектенья… когда кадят (видишь, дымок выпускают), надо голову слегка склонить… да что же ты, Псалтыри не читала?! Девушки охотно впечатлялись и становились гораздо податливей.
Однажды я пошёл с очередной знакомой на вечерню. Служили размеренно, важно; затворились царские врата, настоятель театрально поклонился трём старушкам, и воцарилась гулкая пустая тишина. Девушка поглядывала на меня со смесью изумления, недоумения и страха. Я резко усилил эффект: сгорбился, ссутулил плечи, сделал просветлённое лицо и встал перед иконой Всех Скорбящих, закупоренной в серебряном киоте. Изображая сокрушённую молитву, с интересом разглядывал крестики, кольца и серьги на толстых цепочках, которыми, как бусами, была обвешана икона. Было в этом нечто дикое, туземное.
Вдруг на солею воробышком вспорхнул священник, старый, почти безбородый; пахло от него душистым мылом, сквозь которое невнятно проступал коньячный дух. Он опёрся подбородком на огромный серебряный крест и заговорил громовым голосом. Слушать его было некому – кроме старушек, меня и забытой подруги,имя же ея ты, Боже, веси. Но священник этого не замечал. Он говорил про то, про что обычно говорят на проповеди. Апостол Пётр доверился Христу, пошёл по морю. Вдруг испугался и отвёл глаза. Немедленно начал тонуть. Вот и мы, дорогие братья и сестры… Но так он это говорил, с такой последней силой, что по спине пробегали мурашки.
Закончив проповедь для нас двоих, священник замер, встал на цыпочки и троекратно осенил крестом, энергично, чуть ли не со свистом рассекая воздух.
Я пытался выбросить из головы коньячного священника, но почему-то ничего не получалось. Лодка, море, Христос – и апостол. Нужно быть там, где они. Почему? Я не знаю. Так надо, так правильно, точка.
Через месяц с небольшим (как сейчас помню, завершалась холодная осень семьдесят седьмого, всюду висели плакаты и флаги, в честь 60-летия Великого Октября; революция вступила в пенсионный возраст) я заявился к громогласному отцу Илье. Отстоял, как положено, службу, дождался окончания молебна, отпевания и завтрака священников. Отловил на выходе из храма и попросил крестить меня – без восприемников и записи в церковной книге, чтобы в универ не сообщили. Отец Илья стал смешно озираться, не подслушал ли кто; убедившись, что нет соглядатаев, он согласился. И ещё через неделю я стоял в натопленной крестильне (со священника катился градом пот, даже мне в льняной рубашке было жарко) и повторял, дрожа от восхищения, как повторяют рубленые современные стихи:
отрицаюся,отрицаюся,отрекохся.В церкви, где меня крестил отец Илья, было очень хорошо. Все друг друга знали, были дружелюбны. Но служил отец Илья непредсказуемо – то на ранней, то на поздней, то по будням, а то вообще не являлся на службу; пришлось искать себе приход поближе и попроще. Со слишком жизнерадостным отцом Георгием и слишком мрачным настоятелем отцом Мафусаилом. Впрочем, к отцу Илье я тоже заезжал. Но гораздо реже, чем хотелось бы.
6Тот аспирантский семинар у Сумалея был рассчитан на один семестр и завершился накануне католического Рождества. Впрочем, в семьдесят седьмом про католическое Рождество никто особенно не вспоминал, во всяком случае, в моём семействе; Новый год был единственной точкой отсчёта. Уже открылись новогодние базары, мужчины в заячьих шапках-ушанках тащили запелёнатые ели, женщины с полными сумками неуклюже скользили по накатанному льду, на снегу валялись мандариновые корки, из авосек торчали бутылки с «Советским шампанским», посверкивал лёгкий оскольчатый снег.
Михаил Миронович собрал самодельные слайды в коробку, завернул в бумажку жёлтый заграничный мел, похожий на тюбик с помадой, торжественно и суховато всех поздравил – с окончанием курсаи ещё одним важным событием. (Всем полагалось догадаться, что он имеет в виду.) Помолчал, подумал и добавил: «Этсамое, зачёт по расписанию не предусмотрен, но будет доверительное собеседование. Обязать я не имею права, но если не придёте – будет, этсамое, нечестно. Жду вас после новогодних праздников… на какое же число назначить… пусть будет, для симметрии, седьмого января. Так сказать, от Рождества до Рождества. Красиво». Подошёл к холодным окнам и раздёрнул затемняющие шторы. При этом слишком резко поднял руки, повернулся – я увидел в вороте рубахи золотой нательный крест. Старинный, на тонком плетёном шнурочке. И это было как масонский знак, как тайное послание: тебе доверено, тебя включили!
Седьмого января он появился ровно в десять. Всех запустил в поточную аудиторию, поздравил с новым, одна, тыкскыть, тысяча девятьсот семьдесят восьмым годомот Рождества Христова, раздал машинописные вопросы, перед собой поставил термос, развернул газетку с бутербродами. В аудитории запахло колбасой, отвратительным зелёным сыром и лимоном. Сумалей подливал себе чаю, недовольно жевал бутерброд – и капризно мучал аспирантов. Дайте полифункциональное определение средневекового города. Что значит «вы не говорили»? Был список обязательной литературы. Был? Ну вот. Какие работы Аделаиды Сванидзе о городе и бюргерстве вы знаете? То есть не читали ничего. Понятно… Да, это не по курсу философии. И что же?
Над крышкой термоса клубился пар. От гигантского окна тянуло холодом, стекло изнутри обрастало мохнатым узором; город был подсвечен розовым, морозным светом. Сумалей демонстративно не спешил; моя очередь подошла к полудню.
– Ноговицын, – Сумалей посмотрел на меня затяжным недоверчивым взглядом. – Очень хорошо. Фамилия какая интересная. А имя-отчество? Алексей Арнольдович. Ещё интересней. А что вы, Ноговицын Алексей, э-э-э, Арнольдович, смогли вынести из моего курса? Поделитесь.
Отвечать Сумалею – всё равно что бить мячом в глухую стену: чем сильнее удар, тем быстрей возвращается мячик. В чём заключался смысл знаменитой надписи над конхой центральной апсиды в киевской Софии? Понятно. Что по этому поводу сказано в статье Аверинцева? Хорошо. Где статья Аверинцева опубликована? Неплохо. Кто ему возражал? Почему? Ладно, это вы знаете. Попробую спросить иначе…
Погоняв меня по всем вопросам и вымотав до основания, как зайца на псовой охоте, Михаил Миронович кивнул: годится. Опять воткнул в меня свой долгий непонятный взгляд. И вдруг добавил полушёпотом, чтобы не привлечь стороннего внимания: мне кажется, мы сможем с вами пообщаться. Дождитесь окончания зачёта.
Я наскоро сбегал в буфет, выхлебал тарелку «ленинградского рассольника», из огромного стального жбана налил себе бледного чаю, слакал в три глотка и вернулся на место. В коридоре присесть было негде – на время новогодних праздников уборщицы зачем-то попрятали стулья в кладовку; я стоял у грязного окна и тихо волновался.
За окном постепенно темнело, снег завихрялся, плотную завесу раздвигали фонари; редкие прохожие, нагнув заснеженные головы, упрямо пробивались сквозь метель, как восточный караван сквозь песчаную бурю. К шести аудитория освободилась лишь наполовину; метель утихла, образовались лёгкие сугробы; в десять вечера из аудитории вышел бледный Сумалей, с чёрным портфелем под мышкой, и торопливо направился к лифту.
– Михаил Миронович!
– А? что? – удивился он.
– Вы сказали, чтобы я вас подождал.
– Да? Кажется, действительно сказал. Но я уже ничего не соображаю, день выдался долгий, сами видите. Знаете что? Завтра кафедра, подтягивайтесь к двум, и поболтаем.
Мне показалось, что М. М. едва заметно усмехнулся. Двери лифта сомкнулись, как смыкаются на службе царские врата; лифт почему-то отправился вверх, огонёчки на панели замигали – девятый, десятый, одиннадцатый: прежде чем спуститься, Михаил Миронович вознёсся.
Назавтра в душный кафедральный кабинет входили сгорбленные профессора со свекольными гладкими щёчками, в полосатых старомодных тройках. Они усаживались в первый ряд и с важным видом говорили о лекарствах. Я ждал Сумалея, но тщетно. Дверь закрыли, завкафедрой начал зачитывать речь, товарищи, как пишет товарищ Толстых в январском номере журнала «Коммунист», социалистический образ жизни предполагает культурный рост личности, а социалистический реализм не исключает условности, и я оказался в ловушке: глупо остаться, уйти невозможно.
Заседание закончилось к шести. Я спросил весёлую упитанную лаборантку, похожую на молодую попадью с картины передвижника: что с Михаил Миронычем? Почему его нет? Та ответила невозмутимо:
– Михаил Миронович свалился с гриппом.
– А когда он будет?
– Без понятия. А вы поезжайте к нему, все так делают. Вот адресок, сможет – примет, нет – не повезло.
– Я лучше позвоню.
– А вот это вот зря, – развеселилась лаборантка. – Михал Миронычу не принято звонить.
Отсыскав сумалеевский дом, я бессмысленно и долго жал на кнопку. На всякий случай дёрнул ручку; сезам отворился. На кухне приятно гремели посудой и негромко мурлыкало радио.
– Тук-тук, – сказал я осторожно. – Я могу войти?
Не получив ответа, громко хлопнул дверью. На меня внимания не обратили.
– Извиняюсь! – крикнул я.
И лишь тогда услышал возмущённый голос Сумалея:
– «Извиняюсь» говорят извозчики и дворники! Правильно будет – «извините»! Повесьте пальто, Ноговицын, все тапочки у нас на нижней полке, выбирайте.
Михаил Миронович сидел на кухне, довольный жизнью и почти весёлый; никаких следов обещанной болезни. Огромное старинное окно выходило на церковь, нечётко высвеченную фонарями; самоварным боком выпирал центральный купол, остальные купола, поменьше, окружали его, как голубые чашки. Крохотная, похожая на канарейку жена суетилась у плиты. В центре круглого стола стояла красная эмалированная кастрюля, в старинном соуснике со сколотым краем густела сметана. Пахло плотно промешанным фаршем и варёной капустой.
– Простите, – промямлил я. – На кафедре сказали, вы больны и надо ехать…
– Всё отлично, – возразил Михаил Миронович, – у меня сегодня приступ хитрости. Заодно и вас проверил. Есть, тыкскыть, званые, а есть призванные. Милости прошу, помойте руки, оба заведения направо, встык, а потом присаживайтесь с нами вечерять, Анна Ивановна соорудила славные голубцы.
Анна Ивановна пошла за тарелкой; кажется, она привыкла к необъявленным визитам.
Я смущённо подсел; мне положили на тарелку толстый голубец, выдали вилку и нож и продолжили семейную беседу. Не подстраиваясь под меня. Беседа заключалась в том, что Сумалей без остановки говорил, а жена его безмолвно слушала. Он рассуждал о каких-то старинных знакомых, которые решили эмигрировать в Израиль. Я так и не понял, осуждает их М. М. или поддерживает.
Голубец был сочным и мягким, сметана свежая, наверное, с базара; ел я с удовольствием и от этого стеснялся ещё сильнее.
– …Такие, в общем, дела, – подытожил Михаил Миронович; жена кивнула. – Насытились?
– Спасибо большое, очень вкусно.
– Да, Анна Ивановна большая затейница по этой части. Ну что же, если все сыты-довольны, пойдём в кабинет, на два слова.
В кабинете я был подвергнут допросу. Кто ваши родители. Почему расстались. Что привело на философский. Кого читали. Что думаете о спорах Сахарова с Солженицыным. Как случилось, что не знаете Кьеркегора. Я отвечал как солдат на плацу – чётко, не пытаясь уклониться. Закончив испытательный допрос, Сумалей умолк. Через пять минут очнулся, словно вынырнул из летаргического сна.
– Что я хочу сказать, Лексей Арнольдыч. Думается мне, как нынче говорят советские начальники, что мы и вправду с вами можем посотрудничать. И вот вам первое задание… рискованное, прямо скажем. Вы статейку в аспирантский сборник сдали?
– Сдаю на днях. Но я уже её перепечатал! – стал я оправдываться.
– Отлично, отлично. Это очень хорошо, что задержались. Потому что мне нужна одна цитата. До зарезу. Вот так, – он чиркнул ладонью по горлу. – Из любого, этсамое, марксиста. Но не сегодняшнего и даже не вчерашнего. Я предпочёл бы позднего Плеханова или, там, какого-нибудь Германа Лопатина. Примерно вот такая, понимаете?
Он протянул листок, на котором стремительным бисером было написано: «Марксисты не боятся изучать религию как конгломерат конкретных знаний; эстетика свободна от дурмана». Польщённый сумалеевским доверием, я решил слегка поумничать и произнёс:
– Михаил Миронович, по стилю это не Плеханов. Может, поискать у Дьёрдя Лукача?
– Нет, у Лукача не надо. Лукач слишком долго жил. Он помер лет десять назад, если не позже. – Сумалей заиграл желваками.
– Простите, Михаил Миронович, – я не угадал причину раздражения. – А какая разница, когда он помер? Главное же найти?
– Да что ж тут сложного? Если вы припи́шете цитату Лукачу, вас архивисты зажопят. – Михаил Миронович по-ленински прищурился, на лице образовалась странная улыбка: то ли ироничная, то ли презрительная, то ли просто злая.
– Припи́шете? – Я всё ещё тупил.
– Ну конечно, припи́шете. Что тут непонятного? Вот вам слова. Подредактируйте и приведите их в статье. Закавычьте. Повесьте ссылку на какой-нибудь архив: марксизма-ленинизма, там, или ЦГАЛИ. Главное, чтоб фонд такой существовал. Опись, номер папки, лист.
– А зачем?
– А затем, Лексей Арнольдыч, – осердился Михаил Миронович, – что мне не пропускают монографию. Нужно прикрыться, хоть Карлом, хоть Фридрихом, хоть банным листом. А ничегошеньки нет. Вообще ничего, ни одной завалящей цитатки. А выйдет ваш ротапринтный сборник, радость складских помещений, и я смогу на вас сослаться: «Как сказано в статье такого-то, недавно обнаруженной в архиве», – и всё будет тип-топ.
– Но ведь это подлог?..
– Как хотите.
Сумалей изменился в лице. Словно запер его изнутри. Складки разгладились, губы слегка растянулись, проявилась отстранённая улыбка. Он встал и в полупоклоне указал на дверь.
– Простите, уважаемый товарищ Ноговицын, был непозволительно доверчив. Надеюсь, разговор останется между нами, но как вам будет угодно.
– Михаил Миронович, постойте, вы что, я же просто, – забормотал я. – Сделаю, конечно, как вы скажете.
Так я заслужил доверие Учителя. И сложную, изменчивую дружбу.
7Жил Сумалей на Володарского, в двух шагах от станции метро «Таганская», где мы условились о встрече с Мусей. Улицу свою он величал Гончарной, по старинке. Гулять он не любил и раньше, мол, в квартире воздух тот же самый, только с подогревом; а после кончины любимой жены (в августе семьдесят девятого; как сейчас помню тот ужас) Михаил Миронович ушёл в полузатвор. Добровольно перевёлся в консультанты, отказался от единственного семинара, в МГУ появлялся нечасто – на кафедре, в парткоме, на защитах диссертаций и на редких заседаниях учёного совета. В магазин за едой посылал аспирантов; восторженные аспирантки в очередь готовили.
Уточнив, где на Казанском камера хранения, я спустился в цокольный этаж. Строгие вокзальные уборщицы швабрами гоняли воду по коричневому кафелю. Вёдра были расставлены в шахматном порядке, чтобы тряпки было легче отжимать. В полуподвальном помещении с приземистыми потолками воздух разогрелся до предела и всосал водяные пары; было жарко и влажно. Везде висели одинаковые олимпийские плакаты на дорогой мелованной бумаге: жизнерадостный медведь с чёрно-жёлтым поясом атлета и огромной пряжкой из пяти колец. Вопреки напрасным опасениям, возле камеры не гужевалась тёмная толпа; здесь не было ни худощавых азиатов, ни обильных телом молдаван, ни щеголеватых грузин в широких клёшах, ни зачумлённых рязанских дедков. Старый кладовщик подхватил рюкзак и легко закинул на пустую полку.
– Расчётный час – ноль-ноль часов, молодой человек. С семнадцати тридцати до восемнадцати перерыв, молодой человек. Не опаздывайте, молодой человек, чтобы не пришлось доплачивать, молодой человек.
Избавившись от багажа, я налегке отправился пешком. Петляющим маршрутом. Через пыльные Басманные и вялую Покровку, которую никто и никогда не называл официально, ул. Чернышевского; оттуда в длиннохвостый Лялин переулок, а потом – до Николоямской, в те времена ещё, конечно же, Ульяновской, и вверх. Вдоль тротуаров подсыхали тополя, на скамейках восседали злобные сторожевые бабки. Спокойная жара перерастала в пекло; на всех углах стояли белые нарядные милиционеры, похожие на сахарные головы; поражала феерическая пустота…
Как же я любил тогда Москву… Страдающий архитектурным сколиозом, простроченный трамвайными путями, этот город корчился, гремел, чадил, но стоило свернуть в очередной кривоколенный переулок, и ты погружался в последний покой, где безраздельно царили старухи. В длинных авоськах телепались продукты: белый батон, нарезно́й, за тринадцать копеек, четвертинка «Орловского» чёрного, баночка килек в кислом томате, треугольный пакет молока. Доминошники в майках сидели за дворо́выми столами и с размаху били по неструганым сосновым доскам: р-р-рыба! Костяшки домино взлетали в воздух и, приземляясь, жадно клацали. Мамочки, спрятавшись в чахлом теньке, злобно качали коляски – да уснёшь ты наконец? Из колясок раздавались сладкие сирены: уа-а-а-а-а-а, уа-а-а-а!
А надоела деревенская идиллия – вынырнул из подворотни, и вот уже троллейбусы втыкаются рогульками в растянутые провода, трамваи высекают электрические искры. Заранее ищешь навес, прячешься под ним и смотришь, как низкое небо густеет, готовясь изойти тяжёлым ливнем. Грозная, изменчивая красота.
От Яузы дорога круто забирала вверх. Я знал, что старое название холма, Болвановка, было связано с татарским идолом, но Учитель резко возражал: что за ерундистика, какой там идол, слово происходит от болванок, на которых шляпники сучили колпаки. Вы поняли, Лексей Арнольдыч? Кол-па-ки. Поневоле приходилось соглашаться.И чтобы никакого на Таганке! Только в! Запомните раз навсегда! В Таганке! В Таганке! В Таганке! Ладно, Михаил Миронович, договорились, вы таганский с детства, вам виднее.
Я тормознул у киоска с мороженым.
– Мне сливочного, за девятнадцать.
У стаканчика рифлёные бока. Жирный вкус. Небесное блаженство. А вокруг оплывала Москва. Над раскалённой мостовой змеился воздух, сквозь него сомнамбулами двигались прохожие, весело бибикали машины, сворачивая к Котельнической набережной, от столбов тянулись дистрофические тени, солнце растекалось по фасаду низкорослого здания напротив. Сбоку от входа висела большая афиша, на которой пылали плакатные буквы:
ГАМЛЕТ!
Я бывал в театре на Таганке, но попасть на «Гамлета» не смог; даже Мусины знакомства не сработали. Спекули просили четвертной, что ни в какие ворота не лезло. Но об этом спектакле ходили легенды; о том, как Высоцкий выходит на сцену матросской походкой, бьёт по струнам и вырыкивает строки Пастернака.
Гул затих. Я вышел на подмостки. Прислонясь – к дверному – косяку. Я. Ловлю. В далёком отголоске. Что. Случится. На. Моём. Веку.
У меня промелькнула счастливая мысль. Деньги я привёз. Может быть, не жадничать сегодня? Ну, четвертной, на двоих – пятьдесят. Наплевав на жёваные брюки и куртец, заявиться к самому началу, вычислить в толпе барыгу – расхлябанного, как на шарнирах, с уверенным и наглым взглядом. Войти по третьему звонку, пробуриться на свои места, смущая напомаженных интеллигенток и расплывшихся райкомовских мужчин; выдохнуть и затаиться в ожидании начала. Мусе эта затея понравится; она к театру прикипела, полюбила.
Когда я первый раз повёл её во МХАТ, она почти обидно усмехнулась: нашёл кого билетами заманивать! Нам, торгпредовским, как мясникам, несут билетики и книжки, а мы носы воротим, парикмахершам билеты раздаём… Но сидела в зале тихо, отрешённо. И вскоре сама предложила: а не хочешь пойти в «Современник»? Там Гафт играет в главной роли, а пьесу некий Рощин написал. Потом позвала на Таганку. Призналась честно – ничего не поняла, но впечатлилась. После чего напросилась на выставку – и честно стояла на Малой Грузинской у картин недоступных художников. Даже выписала толстые литературные журналы, хоть потом ворчала, что читать в них совершенно нечего, разучились современные писать, не то что были Толстой и Тургенев. Популярный роман об «Альтисте Данилове» она осудила – «пижонство». Зато «Под сенью грецкого ореха» Искандера и в «Поисках жанра» Аксёнова прочла взахлёб. И долго пытала меня: что я думаю о странном трифоновском «Старике», почему там время словно скачет в каждой фразе, так что не всегда понятно, где ты – в двадцатых, тридцатых годах или сейчас?
Мороженое было съедено, оставалось выпить газировки. Упитанная продавщица выжала рычаг сифона; стакан был горячий, вода ледяная, мелкие пузырики шибали в нос…
Я перешёл дорогу. Нужно было что-нибудь купить М. М. – нельзя же являться с пустыми руками.
В продуктовом было хуже, чем в гладильной, тётки прели в накрахмаленных халатах и высоких белых колпаках. На сияющих стеклянных полках вместо бледно-жёлтых ёжиков из комбижира, утыканных коричневыми спичками, красовалась тонкая нарезка сервелата, непривычным образом запаянная в плёнку. Да ещё какого сервелата! Финского, пурпурно-розового, с рябью! И прямоугольные коробочки с приклеенной прозрачной трубкой сбоку; я пригляделся внимательно – сок! Ничего себе, куда шагнул технический прогресс. И рядом железные жёлтые банки – это что ж, теперь такое пиво, без бутылок? И яйца были в изобилии, и шестипроцентное густое молоко, и гранитное мороженое мясо, и дряблая, но изобильная треска – которая давно исчезла из продажи, уступив вонючей мойве, которую отказывались есть коты.
– Сегодня завезли! Олимпиада! – гордо объяснила продавщица и поправила колпак, напоминающий армейскую папаху.
8Учитель вышел мне навстречу, в коридор (чего не делал никогда), но особой радости не выказал. Губы быстро растянулись, сжались: здрасьте-здрасьте.
– Алексей Арнольдович? Прошу, прошу, что называется, давненько не видались, совсем забыли старика. А? что? приехали из стройотряда? По комсомольской, так сказать, путёвке? Даже не зашли, не попрощались. И чего вас туда понесло? Вам же защищаться в октябре. Ах, деньги. Да-да. В наш век железный без денег и свободы нет. Понимаю, наука не кормит.
Иронизирует, ревниво осуждает, но при этом заботливо смотрит в глаза: всё хорошо у вас? в порядке? А вслух произносит почти равнодушно:
– Я, этсамое, сейчас вьетнамку-докторантку отпущу, и поболтаем. Это что такое? колбаса? Лишнее. Колбаса привязывает к дольнему. Впрочем, принимаю – и бла-го-да-рю. Какая неожиданная колбаса, в прозрачной блямбе. Кофе будем? Ну конечно! У меня – да и без кофе. Невозможно. Ерундистика какая-то получается.
Готовили ему всегда другие, но кофе он варил единолично. Тощий, лысый, как Махатма Ганди, таинственно склонялся над плитой, до предела откручивал вентиль, чтобы пламя над конфоркой полыхнуло и образовалось жёлто-синее сипящее кольцо. Ставил старую чугунную сковороду, неторопливо высыпал зелёные зерна и медленно помешивал; кофейные окатыши язычески темнели, покрывались матовым блеском, распускались вязкие запахи. Он жужжал болгарской кофемолкой, перетирая зёрна в пудру: дунешь – и взметнётся облачко. В замызганной латунной джезве поднималась тонкая пузырчатая пенка. Гранёные стаканчики с ледяной водой запотевали. Учитель разливал свежесваренный кофе по мелким фарфоровым чашкам, осторожно пробовал губами: горячо! И тут же маленький глоток воды: прекрасно! Теперь, пожалуй, можно закурить: он выбивал жёлтым ногтем папиросу, мял её, она приятно пахла сеном. Дул в гильзу, заминал зубами кончик, злобно сдавливал середину, запаливал шведской спичкой и ноздрями выпускал синий дым.
«Асмодей!» – восхищались аспирантки, влюблённые в него, как маленькие девочки, хотя ему было сильно за семьдесят, он от рождения хромал, из ворота рубашки выпирали стариковские ключицы, тяжело перемещался острый кадык, кожа на шее обвисла и собралась в неприятные складки, а зубы были мелкие и жёлтые, с густым коричневым налётом. Но зато над светлыми, почти прозрачными глазами разлетались кустистые брови, скулы были очерчены резко, губы сдавлены в холодную улыбку. И куда до него молодым, белозубым; с ними было скучно, а с Сумалеем – интересно! Уверенно отыгрывая внешность, демонстрируя повадки римского патриция, Михаил Миронович радушно принимал – и был непроницаемо далёк; «культура начинается с дистанции», – повторял он с незаслуженным укором, словно кто-то смел на эту дистанцию покуситься.
Телефоны он не уважал; если по ошибке или странной прихоти снимал телефонную трубку, то говорил отрывисто и резко, как бывший заика: «Ало. Да. Не знаю. Лучше будет, если вы приедете. Когда? Этсамое, когда сочтёте нужным». И нажимал рычажки. Чего звонить? Знаете же правила, они простые. Если двери приткнуты на мятую газетку, значит, хозяин доступен. Нет – звиняйте, батьку, вам не повезло. На естественный вопрос, который задавали свежие ученики: «А если вор?» – Учитель однотипно усмехался, кольцами пускал дым и быстрой струйкой протыкал их насквозь. «Я же всё равно открою, если позвонят, какая мне разница».