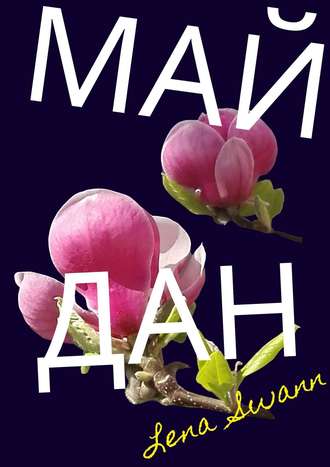
Полная версия
Майдан

Майдан
Lena Swann
© Lena Swann, 2020
ISBN 978-5-0050-9251-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
МАЙДАН
И дернуло же их приехать именно в эти дни… Когда консьержка-француженка, крупноглазая начитанная брюнетка с рваной стрижкой под тинэйджера и кончиком носа под артишок, завидев, как она заходит в подъезд, быстро-быстро выбралась к ней из-за своей округлой конторки и, раскланиваясь, каким-то особенным звонким тоном с блестящими глазами начала приговаривать, экзальтированно вертя личиком: «Хорошего дня! Прекрасного денька Вам!», – в сердце, с сумасшедшим радостным стуком, уже ворвалось подозрение, что они – здесь, наверху, уже в квартире, что консьержка без нее тайком впустила их, отперев своим ключом, – но долгожданное счастье спугнуть было так страшно, что впрямую спросить консьержку она суеверно не решилась, – и из-за этого, пока шла вверх по ступенькам, сердце наоборот как будто срывалось с каждой ступеньки вниз, – и к тому моменту, как она вступила на площадку четвертого этажа, в голове и перед глазами уже вилось цветное марево, а сердце уже вело себя как напуганный ёж, – ёжилось, а потом вдруг быстро расправлялось и куда-то норовило убежать, пронзая, словно иглами, всё тело, так что и страшно было шевельнуться, – и, раньше чем шагнуть к двери своей квартиры, она ненадолго вросла боком в стенку (дряхлая кариатида-сибаритка), чтобы отдышаться и прогнать жаркий туман из висков.
Елизавета Марковна Святоградская, старейший (из живых) специалист по эмигрантской русской словесности двадцатого века, некогда державшая знаменитейший курс лекций в Сорбонне с незатейливым, но красноречивым названием «L’Eхode», давно ждала гостей. Майка, двадцатидвухлетняя троюродная, киселеюродная, внучатая племянница из Москвы, которую любила Елизавета Марковна чуть ли не как приемную дочь, – и которую вот уже два года, – да, почти два года, без малого! – два мучительных трагических года, с момента Болотных событий, она не видела, не могла увидеть, – должна была приехать к ней в гости в Париж вместе со своим новым другом, почти женихом, неким Борисом.
Собственно, лет Майке было почти столько же, сколько истории наездов Елизаветы Марковны, урождённой парижанки, в Москву – сначала краткосрочных, а уж затем и тех, которые, из затяжного квартирантства, казалось, закончатся уж полным переселением антиквариата живых костей. Сначала – та незабвенная, умопомрачительной победой казавшаяся, выставка эмигрантских книг в девяностом в Иностранке: коллеги подбили вместе поехать выступить на открытии, – визы, некоторый страх – словно едешь не в страну, где жили предки, а в полу-животную басурманскую Северную Корею, где с тобой всё что угодно могут сделать! – о, как запомнила в тот первый визит Елизавета Марковна тот особый запах тлена разрушающихся и полуразрушенных от ветхости и недостатка любви домов и в Тверских переулках, прятавшихся под чужими именами, и в Арбатских, и на горке над Цветным, и на Солянке, где всё гуляла как во сне, всё не веря, что мечта сбылась… И вид изувеченного города, как будто из него с боями отступает какая-то невидимая вражеская армия, покуражившаяся над ним почти три четверти века… А выхоленными (то есть гнилью не воняли) были лишь дома цековские, да гэбэшные, да генеральские, – но те все невыносимо воняли другим, вонью духовной проказы, уют на крови́. А родового домика-то, где некогда, в стародавние, жила ее бабка рядом с Брюсовым, до вынужденного бегства семьи в 1918-м, уже в живых и не обнаружилось: упал, видать, и умер, от разрыва сердца, не выдержав всего происходившего вокруг него, – чай не бетонный! – в отличие от заселившихся в него кровавых мародёров. Решил, видать, как верный домашний пес, лучше умереть, чем служить подлым новым хозяевам.
А после девяносто первого было… Да много чего еще было! Неожиданное предложение читать лекции в московском Историко-Архивном… Русские студенты… И какие студенты! Безграмотные, нищие, вечноголодные, по-русски изъяснявшиеся изломанным советским новоязом, – но какие удивительные чистые восторженные глаза! Выступления в МГУ, поездки по всей стране, которая, казалось, так жадно жаждала дорваться, наконец, до запрещенных книг – до той вольной, свободной, истинной русской культуры, уцелевшей лишь в изгнании, которая была в Советах под запретом всю ту страшную, драконову часть века, все то невообразимо долгое время черно-кровавой оккупации омертвелой, убитой, неживой (казалось навсегда) России… И те, безумные счастливцы, как и она сама, – уцелевшие, упасшие в мучительном долгом изгнании дух русского вольного творчества от расправы, – приезжали из-за рубежа и передавали клад дрожащими от счастья руками в дрожащие же от счастья руки тех, кто, казалось, был готов всё это богатство принять…
В живых, из дальних, троюродных, родственников in situ обнаружилась одна Ирина (дочь троюродной, по крайне кривой, изломанной, разомкнутой, линии, племянницы) – вот уж человек чуждый по духу до крайности: деловитая, корыстненькая, хабалистая советская заматерелая «экономистка», пристроившаяся где-то в кооперативе бухгалтером. Но жалко было и ее: и когда у Ирины родилась дочь, а муж ее бросил, а молока не было, – Елизавета Марковна привозила из Парижа чемоданами французскую сухую молочную смесь.
Майка… Как смешно и безуспешно Майка училась в детстве выговаривать её, Елизаветы Марковны, имя, а потом, бросая все попытки – и заплетаясь языком, тыча в нее пальцем, сама же смеясь своему никому больше не понятному младенческому юмору, – говорила ей исковерканно: «Майковна!» – уловив на своем собственном наречии какое-то косноязыкое гургукающее грассирующее созвучие со своим именем, а потом, когда научилась выговаривать букву «р», – то, то ли для кратости, то ли опять наслаждаясь детским картавым созвучием с собственным именем, обзывала ее: «Марька!», «Марка!» – да так почему-то всю жизнь и звала потом, когда выросла, ласково: «Маркушей».
Елизавета Марковна поначалу относилась к Майке с некоторой дистанцией, настороженно, словно к какому-то другому, дефективному биологическому виду, словно к тому, в ком течет драконова кровь, – маленький бойкий дракончик – чудовищные гены, потомок трех поколений советских рабов, и вопяще-неинтеллигентная мамаша. И к сердцу не допускала. Да и времени нянчиться особо не было – бесконечные разъезды и лекции, помощь Историко-Архивному – да ведь и как-то нужно находить время на продолжение собственных новых недописанных работ, исследований! Ирина сунула Майку уже в пять лет в какую-то школу современных танцев… Да и вообще Майка, несмотря на детское свое обаяние, уже самой своей фактурой, материалом из которого была сделана, как-то слегка настораживала Елизавету Марковну: вроде совсем была чужая, не своя, – казалось, уж слишком спортивная, уж слишком гибкая, физически слишком бойкая, нагловатая, – Елизавета Марковна такой никогда не была и справедливо рассуждала, по жизнью доказанному принципу, что «если где-то что-то прибыло – значит, где-то что-то убыло» – и не ожидала от физически бойкой Майки особых интеллектуальных и творческих проблесков. Но чем больше Майка взрослела – тем больше к Елизавете Марковне как-то крайне искренне изо всех сил тянулась – видимо, инстинктивно чувствовала в ней способ бегства из своей кровной – не очень-то веселой – жизни в Свиблово, из бухгалтерской крикливой серости мамаши. Ирина сначала и сама корыстно как будто подпихивала Майку к Елизавете Марковне – надеясь на подарочки да на полезные связи для Майки в будущем, – но когда Ирина заметила и осознала в Майке вот эту вот тягу от нее сбежать, – начала ревновать.
Елизавета Марковна решилась и вовсе уж на неосмотрительное безумие – завела у себя в Брюсовом, в двухкомнатной съемной квартирке, щенка – дурашливого добродушного лабрадудла Зою с карамельными кудряшками и янтарной прорыжью самых-самых крайних кисточек волос на боках. Завела ради Майки, как только Майка поступила в школу: той мать запрещала – «от животных только линька и вонь! лишний рот в доме!». Знала, знала Елизавета Марковна, что в любой момент из России может прийтись уехать, дурные предчувствия, как ядовитые испарения, всё нагнетались в московском воздухе, никогда до конца не доверяла прелести внешних метаморфоз без глубинного раскаяния людей, да без жестких люстраций, да без суда над нелюдью и людоедами, – но уж больно велик был соблазн рискнуть и попробовать изменить хотя бы вот Майкину природу! пробудить Майку, сделать ее другой! Дать ей как бы второй дом, дать ей шанс, чтобы у нее был выбор.
Безумие, безумие, – конечно это было безумием! К щенку Елизавета Марковна привязалась так, что уже и помыслить было невозможно никакого отъезда. Парижскую квартирку свою сдала в долгосрочную аренду греческому профессору с семьёй.
Майка, впрочем, тоже и вправду сразу щенка полюбила – она и так-то приезжать к Елизавете Марковне в гости в Брюсов обожала, а теперь ее еще и каждый раз ждал праздник: выгуливать самой Зою – дурашливую, игривую, в шутку кусачую (прикусит остренькими щенячьими зубами – и сразу отпустит – и смеётся всей весёлой кучерявой карамельно-плюшевой рожей) на бульварах! А Елизавета Марковна кормила Майку книгами да рассказами. И учиться после школы Майка поступила в бывший историко-архивный, теперь уж именуемый университетом, где Елизавета Марковна преподавала. Чернявая, маленькая, худенькая, шустрая, звонкая, с двумя косичками, – Майка моментально со всеми на факультете перезнакомилась, завела друзей, – к Елизавете Марковне в Брюсов с какой-то особенной гордостью заваливалась как домой, с большими яркими хохотливыми студенческими компаниями: «Маркуша, ты у нас – достопримечательность! Все у тебя в гостях мечтают побывать!»
Господи, как рыдала теперь в шкатулочной своей квартирке в Париже Елизавета Марковна каждую ночь перед сном! Как же страшен этот миг, когда выключаешь свет, и обычные милые дневные заглушки-анестезии (рукописи, компьютер, встречи с друзьями) вдруг предательски отступают и бросают тебя один на один с горем! Не понятно даже, с кем разлуку ей было больнее вынести – с Майкой или со старой уже и тяжело больной, пятнадцатилетней уже, любимой псиной… С Майкой-то хоть по скайпу поговорить можно было – а Зоя, оказавшаяся из верных, выла невероятным истошным воем, едва заслышав из компьютера Елизаветы Марковнин голос… И всё тактильнее и зримее, всё более раняще, будто в жутких телепатических прозрениях, в темноте, даже на чудовищном расстоянии разлуки, видела и чувствовала Елизавета Марковна всей душой и всем сердцем, как ровно та нечеловеческая, черно-кровавая вражья нечистая сила, которая правила Россией чуть ли не весь прошлый век (за вычетом благословенной последней Божьей десятины века – которую Бог чудом отвоевал у нечисти, даруя время на покаяние и прозрение тем, кто не мёртв душой), та самая дьявольская сила, которую когда-то, в свой первый приезд в Москву, Елизавета Марковна так зримо видела отползающей, сползающей с города, как духи серых недотыкомок-убийц, которые обиженно визжа уползали к себе в тартар (черный – это ведь просто крайне дружно сбившиеся в толпу серые), – вот ровно та сила, только теперь вновь обнаглевшая, напившаяся молодой крови, восставшая из тартара и бросившая все ресурсы на то, чтобы взять реванш, теперь возвращалась вновь, день ото дня (почти без боя ведь!) отвоевывала обратно все освобожденные было на десятину лет клеточки жизни, а оккупировав вновь – и территорию и души, – всё набухала, раздувалась и готовила всему миру новые катастрофы.
Тот чудовищный день, то чудовищное обманчиво-солнечное лживо-разнеживающее почти жаркое майское московское воскресенье, которое перевернуло всю их жизнь, Елизавета Марковна то и дело вспоминала в мельчайших деталях с самого ее тогдашнего утреннего пробуждения. Елизавета Марковна проснулась у себя в Брюсовом поздно, часов в одиннадцать, и не вылезая из постели правила, гелиевой ручкой, распечатанную под утро рукопись. Вечером накануне так вдруг что-то прихватило сердце, что боялась даже лечь в постель, – досидела за компьютером, за новым эссе о Ходасевиче, до пяти почти утра. Утром сердце вроде отпустило – на рассвете даже выгуляла Зою возле дома, – а уж когда выспалась, да увидела розовый солнечный луч на паркете, да радостную солнечную Зоину морду… но какая-то странная пугающая неуверенность в сердце осталась – словно при любых резких движениях сердце раскачивается в гамаке, а как заволнуешься – так и вовсе улетает на тарзанке. В полдень позвонила Майка:
– Маркуша, ну ты идешь с нами? Где встречаемся? Или мне зайти за тобой?
– Майка, боюсь, что сегодня ты пойдешь за двоих – и за меня тоже… Я сегодня не выдержу в толпе.
– Маркуш, ну ты не расстраивайся – я забегу тогда вечером к тебе, сразу после митинга, накормишь? Мы ненадолго, туда и обратно, просто чтобы на несколько человек там было больше!
Спасовала, в тот день Елизавета Марковна спасовала, и Майка на Болотную отправилась без нее, с несколькими друзьями из университета и еще тройкой ребят, с которыми они познакомились еще в декабре на митинге на Сахарова. Спасовала, хотя до этого, все последние месяцы, стойко рука об руку и с Майкой и с другими своими студентами выдерживала и давку на каждом протестном митинге, и мегафонный ор в ухо, и каждое задиристое запрещенное протестное гуляние, – и унизительные игры в разгоны и догонялки – всегда почему-то с чернокасочными омоноидами в роли водящих, а не наоборот, – и даже отогревала у себя дома всех юнцов после того омерзительного холодного мартовского вечера на Тверской – где громоздкие омоноиды затеяли с людьми грубые силовые салочки… Как бы стилистически далека ни была академичная восьмидесятидвухлетняя Елизавета Марковна от уличной романтики, – но не выходить на протесты вместе с молодежью и вместе со всей московской интеллигенцией было невозможно: уж больно нагло подтасовали думские выборы – а президентские выборы так по сути и вообще отняли, изобретя паскудную рокировочку членов политбюро, – уж больно нагло и безнаказанно загоняют страну назад в советский свинарник, с гламурным бессменным профи-свиноводом с опять уже наточенным ножом наготове! Если промолчим – станем пособниками подлецов, преступников и убийц! Майка, но сегодня ты пойдешь за меня.
Днем, тихонько, передвигаясь плавно (чтобы гамак сердца не раскачивался), выгуляла Зою дважды в скверике рядом с домом, каждый раз мучительно думая: какой же невозможный уродливый памятник Славе Ростроповичу всё-таки они у нас здесь воткнули, как пень, прямо напротив церкви… что за наглость! – а памятник-то – в брежневских традициях – с фотографической передачей внешности… Купить Галю лестью и почестями – чтоб не поддержала протесты, а восславила подлую власть… Бедный Слава в гробу небось как пропеллер переворачивается вместе с виолончелью, видя всё это!
И уже ближе к вечеру Елизавета Марковна, без пса уже, так же тихонько и плавно, оберегая себя от резких жестов, поднялась по Брюсову на Никитскую в любимый крошечный гастрономчик купить баночку зеленого горошка для обожаемого Майкой салатика (Майка почему-то на французский манер называла его «оливье» – в то время как все парижские друзья Елизаветы Марковны, французы, наоборот обзывали его «русским салатом») – как раз к приходу Майки, с ней вместе свеженький и сделаем…
Уже когда Елизавета Марковна была на Никитской, едва успела выйти из гастронома с пакетом, Майка позвонила на мобильный:
– Маркуша, я, видимо, немножко задержусь… Тут полный бардак… Эти козлы нам здесь ловушку устроили – прикинь, вчера же ведь место митинга на Болотной площади согласовано было, схему ведь даже на ментовском сайте вывесили – а сегодня мы дошли – а они, сволочи, вход на Болотную площадь кордонами омоноидов перегородили… Народу уйма, давка дикая, а они просто-напросто провокацию устроили – как будто специально чтобы людей подавило! Меня чуть не расплющило тут! Меня сейчас просто как пулю толпой сзади внесло в ментов, я еле на ногах устояла, в омоноидах брешь пробили… А сейчас они мочить всех подряд вон начали… Мы на набережной сейчас, в загоне тут оказались между двумя кордонами и парапетом набережной – хоть вплавь убегай… Мы выбраться даже отсюда не можем… Здесь их тьма со всех сторон… Засада, короче… Маркуш, я не знаю, когда я отсюда выберусь… Маркуш, не волнуйся, я ведь не одна, маме ни в коем случае не говори, где я… У меня еще и батарейка почти кончилась, блин…
– Майка, где ровно ты находишься? Скажи мне ровно где? – Елизавета Марковна, забыв и про салат, и про сердце, и про пакет с консервной баночкой в правой руке, и как будто бы забыв разом еще и родную речь, быстрым шагом уже шла вниз по Никитской, – вокруг на улице вроде всё было спокойно, обычные воскресные расслабленные прохожие, – и только когда Елизавета Марковна добралась до Румянцевской, до Пашкова дома, то увидела с пригорка невообразимейшее море акульих волнорезов – гряды гладких круглых черных касок и черных бронежилетов, монолитным фронтом намертво заблокировавших весь Большой Каменный мост и все подходы к Кремлю, – а за ними, в конце моста – будто баррикадами выставленные машины водометов и милицейские грузовики. Инаугурационная паранойя…
На обход потребовался бы час, не меньше. Какой там час – часа два плестись, полгорода перекрыто! И Елизавета Марковна решилась совершить нечто, пожалуй, еще более невозможное, чем переход реки вброд по воде аки по суху.
– Я там живу! – тихим голосом, легко подделывая чудный французский акцент, врала Елизавета Марковна одубиненным омоноидам в гигантских черных яйцах-касках (какая ж такая страх-птица черные яички высидела? вон – проклюнулись уже – зыркают!), с жуткими, апокалиптическими наплечниками и прочей нечеловечьей какой-то сбруей на телах. Но в ответ изрыгались нечеловечьи рыки. И ужасен был свёрк нечеловечьих злых глаз – сквозь спущенные на лица прозрачные намордники. – Я вон там живу, на другой стороне, в доме на набережной! В последнем подъезде, возле «Ударника», – тихо повторяла Елизавета Марковна – и указывала рукой. Но, вот, наконец, справа при входе на мост нашла какого-то типа с рацией: – Вы не имеете права не пропускать меня домой. Я живу в доме на набережной. Я французская гражданка, я дипломатически защищенный гражданин… Вам, что, паспорт показать?… (французский паспорт Елизавета Марковна, весьма кстати, всегда с недавних пор носила с собой – из-за нескольких отвратительных инцидентов с полицаями на улицах в центре) – и, то ли эти слова, то ли сам ее внешний вид почему-то сработали: хрупкая, тонкая, высокая (чуть высокомерная даже, с первого взгляда) старая женщина со строгой осанкой и со строгим узким лицом с большими темно-синими глазами, с длинными в нежный медок крашенными волосами, сколотыми заколкой в высокий, на самом затылке, вольный чуть распадающийся фонтан, – в красной шелковой блузе с жабо и длинными, на кисти ниспадающими кружевными манжетами, и в длинной черной узкой юбке (лекторская привычка всегда одеваться академично), и в узких черных туфлях на платформах на старо-сорбоннский манер, с крошечной легкой театральной сумочкой-кошельком на тонкой золотой цепочке через плечо, – и особенно, видимо, помог, для камуфляжа, мешавшийся вроде бы, уже оттягивающий правую руку – но тут вдруг внезапно пригодившийся для легенды, дурацкий продовольственный пластиковый пакетик: каким-то чудом Елизавете Марковне удалось буквально с воздушной невесомостью как голубиное пёрышко перелететь через мост, сквозь один за другим кордоны рычащих (звереющих, с каждым метром ее продвижения через мост ближе к Болотной, всё больше) чёрно-каско-головых. Добравшись, на этой же французской легенде, до последнего жилого подъезда перед «Ударником» и, ахнув, уже увидев перед собой ровно то, о чём ей говорила Майка, – весь ужас капкана, который устроили для людей власти, внезапно изменив маршрут и загоняя десятки тысяч протестующих, всё подходящих и подходящих через Малый Каменный мост, в узенькую полоску набережной, вместо того, чтобы, как было заранее условлено, впустить их на площадь, – Елизавета Марковна, посреди гвалта и бедлама, посреди хаоса давки, размывавшей то и дело оцепление силовиков, быстро свернула налево и, убежденно и целенаправленно, прошла, никем не остановленная, к Болотной набережной, сквозь начавшиеся уже рукопашные (ой, увы, и ногопашные уже тоже! вон какой-то врач в белом халате, защищая лежащего на асфальте демонстранта с окровавленной головой, которого омоновцы добивают ногами, отмахивается от них ногами же!), – шла выручать Майку, – спроси ее кто-нибудь в ту секунду, как именно хворая восьмидесятидвухлетняя женщина способна «выручить» кого бы то ни было из засады вооруженных силовиков, которым явно был отдан приказ устроить провокацию, создать повод для применения силы и максимально жестоко избить и запугать протестующих, арестовать как можно больше – чтоб впредь людишки не мешались со своими протестами под ногами, – она не смогла бы ответить, – но шла вперед, проникая сквозь месиво и крики, к названному Майкой по телефону месту, быстро и невероятно уверенно, среди безобразных неравных драк: среди бронированных омоноидов, избивавших ногами, бронированными кулаками с подлыми боевыми накладками, и дубинками, всех, кого могли схватить, – и до потери сознания добивавшими тех, кто смеет защищаться, – шла по чьей-то разлитой из опрокинутых туалетов моче, среди кровавых разбитых голов, среди упавших в обморок тел и давки, среди начавшейся уже катастрофы, шла словно как по наитию, как будто вёл ее какой-то ангел любви к Майке. Шла, быстро, легко, ни одной сволочью и пальцем не тронутая, по чуду, на каком-то уверенном внутреннем самогипнозе (гипнотизировавшем заодно и орущих разнузданных беснующихся бандитов в касках вокруг).
– Маркуша, ты с ума сошла! – испуганно хохотнула Майка, когда, уже на набережной, после того как Елизавета Марковна чудом просквозила последнее уже преграждавшее ей дорогу, на минуту разреженное оцепление омоноидов (в этот миг как раз крайне занятых азартным сафари – выхватыванием из толпы и чудовищным зверским избиением ногами и дубинками двух пацанов, – тела которых, почти бездыханные, они, как охотники – трофеи, чуть позже волоком уволакивали по асфальту за ноги и за руки, при каждом шаге стукая добычи головами об асфальт, к автозаку), и их с Майкой буквально швырнуло друг к другу прибоем толпы. – Как ты умудрилась меня найти в такой давке?
И не успела Елизавета Марковна перевести дух и объяснить Майке свой план, как выбраться из оцепления, Майка оказалась вот так же внезапно, ровно с той же хаотичной жестокостью (как до этого омоновцы на глазах Елизаветы Марковны выхватывали наугад из толпы случайных мирных митингующих и избивали их), схвачена двумя озверелыми чернокасочными персонажами апокалипсиса: Майку буквально выдернули за шиворот джинсовой курточки, выволокли из группки друзей, в которой они стояли, сбили с ног ударом омоновских военных башмаков по голеням и швырнули на асфальт лицом вниз, – первый омоновец погнался за Майкиным приятелем с факультета куда-то влево, а второй – гигантский садист-омоновец, в котором уже явно разгулялись его больные самые низменные страсти, башмаком правой ноги встал Майке на позвоночник посреди тела, нагнулся над ней, рукой схватил ее за волосы (за Майкины красивые вьющиеся черные распущенные волосы!) и, к неописуемому ужасу Елизаветы Марковны и под крики Майкиных друзей, стоящих вместе с Елизаветой Марковной в двух метрах от бойни, начал быть Майку об асфальт головой. В секунду прекрасно поняв, что еще миг – и Майку изуродуют навсегда, если не убьют, – сломают башмаком позвоночник, повредят печень и почки, разобьют голову и лицо, Майкино милое нежное лицо! – которым подонок-садист бил ее сейчас по асфальту! – Елизавета Марковна, на каком-то опять-таки неосознанном, каким-то наитием как будто руководимым рывке, – резко подскочила к избивавшему Майку омоноиду и изо всех своих сил вмазала ему в его черную каску тем единственным предметом, который был у нее под рукой, – консервной банкой с зеленым горошком. Банка ощутимо сплющилась у нее в руке прямо в пакете – а избивавший Майку садист-омоновец, наклонявшийся над Майкой, вдруг внезапно от неожиданности потерял равновесие и упал – и все Майкины поклонники из университета, разом, в ярости за это гнусное на их глазах избиение девушки, накинулись на омоновца, сорвали с него шлем, и хотя и не избивали – но держали его и не давали встать – и он катался по асфальту, как опрокинутый бронтозавр в бронированном панцире, – на своем горбу теперь, видимо, чувствуя (еще не в достаточной степени, гад!) то, что чувствовала за минуту до этого Майка на асфальте под его башмаком. Кто-то исхитрился метнуть сорванный черный шлем в канал.
– Майка, ты жива? Быстро вставай, побежали… – бросив в сторону гармошкой смятую банку горошка в пакете, лопотала Елизавета Марковна, поднимая коротенькую, маленькую, избитую, испуганную до полусмерти Майку с асфальта, – пока вокруг них Майкины друзья отбивали очередной шквал нападения разнузданных бандитов-омоновцев, просто откровенно искавших, на ком бы сорвать садистские инстинкты: выхватывали из толпы всех кто попадется под руку, зверски избивали и, окровавленных, полуобморочных жертв волокли в ментовозки и увозили. Господи, у Майки широченная кровавая царапина от асфальта на лбу, правой щеке и носу – как будто глубоко полоснули наждачной бумагой по диагонали… Как бы спрятать?… Ее ведь за эту рану, ими же нанесенную, сейчас еще и арестуют – как вон с остальными делают! – раз надклюнули, значит, постараются добить, вороньё проклятое…



