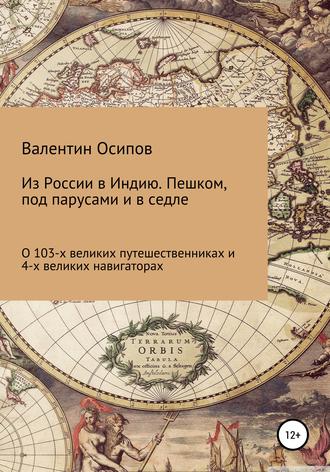
Полная версия
Из России в Индию. Пешком, под парусами и в седле: о 103-х путешественниках и 4-х великих навигаторах
Успех! «Собрание было столь многолюдно, что если бы театр мой был трижды больше, конечно, был бы наполнен».
«Утеснения без вины». Такова одна из собственноручно выведенных записх о нагрянувшем суде. То итог, что у Лебедева нашлись конкуренты-ревнивцы. Поподличали. Вчинили иск будто бы за неуплату денег за ремонт снимаемой квартиры. Лебедев одинок и беден. Адвокаты от него шарахаются. Еще бы: этот русский не в чести у чиновных англичан, да и торчали уши неприязни к нему Ост-Индской компании; Лебедев называл ее «компанейские сосуны».
О колониальных судьях остался от Лебедева впечатляюще-обобщающий портрет: «Суды, во главе которых стоит только так называемый “гражданский мэр”, который как-то, томясь от единственного кушания – плова наваба (набоба), улучшил свой стол, как бы по вдохновению, некоторыми блестящими лакомствами на золотых блюдах и сам позаботился о себе, что, конечно, нужно признать, было наиболее верным путем показать миру свою действительную ценность».
Приговор был таким, что Лебедев потом излил в своем дневнике: «Обманутый во всех ожиданиях, я был вынужден прибегнуть к унизительной необходимости разрушить свой театр и продать все свои материалы на случайном аукционе за гораздо более низкую сумму, чем я заплатил рабочим за возведение театра, и уступить моим счастливым конкурентам как славу, так и доходы». Еще запись: «Я догола почти разорен».
Надо было возвращаться домой.
О дорожном багаже. Что же вывозил Лебедев итогом своих 12 лет жизни в Индии. Никаких драгоценных каменьев. Чем же наполнил дорожный сундук? Читаем «Приказ Торговой палаты капитану корабля Ост-Индской компании “Лорд Европу”: «Два куска простого муслина… Один кусок муслина, затканного золотыми и серебрянными цветами… Два куска муслина ньянсук… Один кусок муслина чаркона… Десять кусков муслина буттадар… Шестнадцать муслиновых носовых платков с каймой… Восемнадцать носовых платков Шандернагорских… Один кусок полосатой ткани, один кусок капа… Один кусок черного атласа 14 ярдов…» И итоговая сумма в рупиях: «271». Выходит, его нажиток в год из 12-ти прожитых в Индии – 22 с половиной рупии!
Странно, что таможенники не отметили ну, ладно коллекцию перламутровых раковин, и засушенных морских коньков: пустячки в понимании колониальных чиновников.
Зато Лебедев знал своему багажу особую цену – писал: «Духонетленный товар словесных наук, для выгоды соотечественников и славы государя, индийские книги и рукописи». В их числе выделялсь словари хинди, бенгальского и сансакрита и об этом будет ещё важный сказ через три абзаца.
Сейчас же о том, что этот интеллектуальный багаж по возвращении Лебедева домой поразили знатока Индии директора Императорской публичной библиотеки А. Оленина.
И еще вывез две драгоценности. Первая: собранный в Индии материал к книге «Грамматика чистых и смешанных Ост-Индских диалектов». Он её написал и издал в Лондоне, по дороге домой.
О второй можно узнать по отчету-реестру, писанного по возвращении на родину на имя графа Румянцева. Это некое пособие для тех, кому предстоит иметь финансовые или торговые дела с Индией. Напрмер,7-м пунктом значилось: «Ключ от начальных оснований индийской арифметики, расположенных в пяти отделениях, в каждом особенно сто числам, для вычисления разных весов и мер, твердых и жидких тел и четвероякого рода денег, как-то: раковок, вместо денег употребляемых, чеканенных медных, серебреных и золотых».
В подверстку Лнбедев включил свое особое пожелание – выпросить два корабля, чтобы попытаться наладить для торговли путь от Ганга в Неву. И стал к тому же советовать: российские купцы обязаны перекрыть Англии возможность обогащаться в Индии «за счет России». И доказал это: «Привозят в Индию по большей части из России таковые товары: мачтовые деревья, пильные доски, пенька, лен, парусное полотно, юфть, деготь, сало, гвозди, икра, клюква и брусника». Концовка с горьким выводом, но и с явно с надеждою быть услышанным: «Из чего нетрудно усмотреть можете, любезные соотчичи, коликих мы лишается выгод».
Житейские беды шли нога в ногу с Лебедевым. Он мечтал использовать вывозимые ткани в качестве подаров-сувениров, да замысел не удался. Он с превеликим сожалением писал: «Все пятьдесят кусков перепорчены морской водой».
1805. Выдающееся исследование. Когда вернулся домой, в Петербург, то написал и издал «Беспристрастное созерцание систем Восточной Индии брамгенов, обрядов их и народных обычаев». Серьезнейший научных труд. Здесь и о древнеин индийском календаре, и о религиях страны, и ее философии.
И – выделю! – записи о местных жителях. Да так писал, что понималось – он явно вел спор с теми в Европе, кто восслед колонизаторам считал индийский народ отсталым: «Индийцы ни мало не похожи на диких и более имеют справедливости приписывать сию укоризну тем, кто жесточайше с ними обходится… Удерживают они достойную подражания непреклонность во благочестии».
А как уважительно отозвался об одном своем новом знакомце – поэте: «Написал так сладкоречиво, приятно, ясно и справедливо, что многия вытверживают наизусть».
Не всё однако принимал в полюбившейся стране. Есть и такое: «В сей день, в разрезанной коже с продетыми веревками на боках и железными прутьями проткнутыми сквозь язык, ходят стадами по городам и в других селениях, при барабанном, колокольном, побрякушек и раковин разном стуке и звуке пляшут вприсятку».
В книге эхо отношения индийцев к России: «В Индии носится молва о могущественной северной державе, которая бросает бури на соседние страны».
Чудо-талант на языки. Когда вернулся домой, удивлял ученый люд феноменальным знанием нескольких языков Индии. С чего начинал? Пишет о своем учителе из бенгальцев: «Хорошо знал одинаково бенгальский язык и смешанные индустанские наречия (жаргон) грамматически… Он усердно советует мне заняться санскритской азбукой, поскольку это золотой, все открывающий ключ к неоценимым сокровищам восточных наук».
Шел Лебедев к познанию языков не просто силою прилежания: «Составил несколько диалогов на разные темы как на бенгальском, так и на индустани и утешал себя надеждой, что вскоре я смогу разговаривать. Однако тут я очень ошибся, потому что я не понимал общеупотребительных говоров. Я открыл, что они происходят от бенгальского санскрита и это меня побудило написать грамматику их, чтобы самому понять разницу. Я сделал это и установил те говоры, которые присущи группам, занимающим разное положение в жизни…»
Рееестр собранного. Дома занялся научным осмыслением познанного в путешествии. Рапортовал самому канцлеру Румянцеву целым реестром-описью – что уже свершено и что-де оставалось дорабатывать. Удивимся же сотворённому:«1-е. Азбука санскрито-бенгальского духовного и светского языка, состоящая из 147 букв, расположенная в трех отделениях, имеющих пять отличий. Подлинник с переводом на российской язык изготовлен к тиснению (к печати.-В. О.).2-е. Словарь на бенгальском и общенародном индийском (смешанном из разных азиатских) языках. Должно переписать начисто. 3-е. Грамматика на народном индийском и английском языках, отпечатана и поднесена государю императору. Долженствует быть переведена на российской язык.4-е. Грамматика бенгальского чистого языка, на коем индийцы ведут по делам переписки. Подлинник с переводом на российской язык: должно переписать начисто. Сия грамматика может путеводствовать к научению санскритского языка.5-е. Несколько разговоров на разные предметы. Написаны на бенгальском, народном индейском, на российском и английском языках Должно переписать начисто».
Замечу: этот отчет шел с посвящением «Любезному отечеству».
Подарки родине. После Лебедева в России стали лучше знать языки, экономику, географию и культуру Индии. Поразил он и тем, что первым в Европе изготовил для типографии санскритский шрифт, а еще устраивает первую же в Европе типографию с бенгальским шрифтом.
Вовремя вернулся он домой – несколько университетов России готовятся открыть восточные кафедры.
Однако же ему выбрали стезю чиновничества в Азиатском департаменте Коллегии иностранных дел. Можно догадаться, что оказался весьма полезен в развитии отношений двух стран – выслужил звание надворного советника, что соответствовало «подполковнику» с правом именоваться «Ваше высокоблагородие». «Из священнических детей» значилось в его «личном деле» или в формулярном списке Коллегии.
Поклон биографам Лебедева. Мало знает Россия этого необычного человека. Сказывается, что случился огромный перерыв между напечатанными о нём работами и были малы их тиражи. Но все-таки воздадим хвалу тем немногим, кто увековечивал его память. В 1880 году появилась статья Ф. И. Булгакова «Герасим Степанович Лебедев – русский путешественник» в «Историческом вестнике». Затем, спустя почти 70 лет, в 1956-м, появились статьи Воробьева-Десятовского и Л. С. Гамаюнова (сб. «Очерки по истории русского востоковедения»), а в 1999-м – доклад Васильева Я. В. на международной конференции.
Выделю научные изыскания К. Антоновой (в т. ч. по обнародованным ею документам в сборнике «Руско-Индийские отношения ХУШ веке»). Это она обнаружила в архиве, как писала, «четыре тетради в кожаных светло-коричневых переплетах, неодинакового формата». По этим тетрадям она – изумленная – стала приобщаться к фантастически и огромному, и разнобразному материалу по Индии. Пьесы, которые перевел Лебедев. Его языковые упражнения – буквы, слова, разговорные выражения. Записи при изучении летоисчисления «О месяцах и знаках небесных, о сравнении месячных чисел, о праздниках и о временах года». Заметки по истории Индии. Многие факты к этой главе позаимствовано из ее исследований.
Замечу: по дороге в Россию Лебедеву пришлось некоторое время пожить в одном из портов на юге Африки. И надо же: встреча с соотечественником – с Юрием Лисянским, тогда практиканта на английском корабле.
Хотелось бы живописать, как на краю свет встретились два соотечественника, как соскучились по родному языку… Но, увы, встречались, да не сошлись характерами. Узнал об этом по запискам Лиснянского. Высказался о Лебедева: «Таскается по свету, не делая ни малейшей чести нации, к которой принадлежит». И у великих такое случается.
Глава 8. Мореход Ю. Ф. Лисянский
Наконец мое желание совершилось, и несет меня к востоку со всею тою радостию, каковую только может внушать человеку, оставившему Европу, чтобы видеть Индию.
Ю. Лисянский из письма25 сюжетов:
На британском корабле * Мадрас: катамаран на рейде* Наблюдения из трактира* Танцовшицы * Кое-что о колонизаторах * Свадьба* Бомбей: свидетельства о параянах. И другое.
Действующие лица:
Н. Непомнящий – первопубликатор дневников. Екатерина П. Будущий адмирал Крузенштерн. Генерал-губернатор лорд Моринтон. Два «нейбоба». И другие
1799.Лейтенант русского флота Юрий Лисянский – будущий первый в России кругосветчик – по приказу своего адмиралтейства вступает на палубу британского корабля: начинается практика судовождения к берегам Индии!
Не по приказу. К Индии он плыл по великому дешевному велению. Сохранилась его запись с датой 5 января 1797 года и с именем посла России в Британии: «Прибыл в Лондон и явился к графу Семену Романовичу Воронцову. Желание, которое я имел идти в Восточную Индию, понравилось его сиятельству». Выделю следующие строки: «Он не токмо обещал мне исходатайствовать к тому случаю, но даже писать о моей охоте к государю императору». Замечу: так и случилось – Павел 1 одобрил замысел.
Ещё благородный знак особого отношения к далекой стране – пишет приятелю Крузенштейну: «Наконец-то мое желание совершилось, и несет меня к востоку со всею той радостию, какую только может ощутить человек, оставивший Европу, чтобы видеть Индию».
Догадался вести дневник. Лейтенант приметлив на местные обычаи и нравы, окаймленные – вот особенность! – присутствием британцев.
О том, как этот дневник знакомит с Индией я узнал в 2010 году по выходе книги «Русская Индия» Н. Непомнящего. Он вызволил его из архива литературы и искусств (РГАЛИ). Далее два адреса пера Лисянского с наиболее характерными особенностями узнавани новой страны.
Первый адрес: Мадрас. Впечатления первых минут: «1799 года генваря 6-го в 10 часов поутру увидели гору Поликат на W, к которой, подошедши к вечеру, мы положили якорь…
… Не успели мы стать на якорь у Мадраса, как пристал к кораблю индеец на катамаране с приказанием, чтобы не занимать места противу батарей и не принимать никого из европейцев к себе без повеления правительства.
Катамаран есть вещь весьма удивительная, это не что иное, как три четыреугольные бруса дерева, связанные вместе травяными веревками, два из коих равной величины, а третий немного боле половины. Голые индейцы сидят на оных и гребут разщепленною бамбуковою тростию. Они разной длины и поднимают от двух и до четырех человек. Гребцы сии, хотя весьма искусны, но при всем том часто опрокидываются и принуждены бывают ловить свои суда вплавь…»
Погляд военного моряка: «Рейд мадрасский совершенно открытый, большие корабли обыкновенно становятся в 2 или 2/1/2 милях от берегов, а малые суда гораздо ближе 5. Хотя оный защищается батареями, но неприятелю весьма легко напасть на внешние корабли, особливо когда флоту нет на рейде. Вход в оный весьма прост даже ночью».
Первые знакомства: «Я остановился с капитаном своим в довольно хорошем трактире, где не успели мы успокоиться, как принуждены были принимать людей толпами. Сапожники, портные, купцы и шуты разных родов то и дело что приходили; последние столь навязчивы были, что зачинали свои пустяки без всякой церемонии, и признаться, что в Европе дорого бы заплатили за эти штуки, которыя здесь не стоят почти ничего.
Прелестницы не прельстили: «К вечеру сцена переменилась, и мы окружены были разными партиями танцовщиц, которыя большею частиею были девочки молодые и весьма красивые. Каждая труппа приходила с двумя бандурщиками и уже почти неволею уходила; последняя же как красотою, так и богатым убором превозвышала прочих, она прибыла около десяти часов и, кажется, с другим намерением, нежели показать искусство своих ног. Девиц было точно такое же число, как нас, и оне употребляли все старание, дабы сделать свою пляску наипрелестнейшею, но без всякого успеха принуждены были возвратиться домой».
Первые визиты. «Читаем: «Я с капитаном занялся делать визиты, начиная от генерал-губернатора лорда Моринтона. Они все нас приняли ласково, и мы к вечеру званы были обедать на целую неделю вперед. Сие вышло к случаю, ибо армия уже вся выступила противу неприятеля.
…10-го был представлен к нейбобу Аркотскому. Старик принял меня на своем диване, он любопытствовал о месте моего рождения, но, кажется, не много понимал, что говорено ему было на сей предмет, хотя разумел англицкий язык весьма хорошо, он напоследок подарил мне булатную саблю.
Не всякому можно видеть сего человека, ибо он совершенно почти содержится под стражею у англичан подобно всем прочим владетелям восточной Индии, где эта нация поселилась».
Свадьба по новым и старым обычаям: «Нейбоб Аркотский на случай женитьбы старшего своего сына давал ужин всем знатным особам, к которому и я имел счастье быть приглашен. Генерал-губернатор и прочие вельможи прибыли со всем великолепием индейским и были встречены самим нейбобом в диванной. Около десяти часов вечера стол начался и кончился не прежде трех часов утра, в продолжение которого времени пушечная пальба и музыка гремели безпрерывно. Нейбоб сидел на возвышенном месте под балдахином с нами, лорд Морентон по правую, а лорд Кляйв по левую его сторону; дети же нейбобские имели особливое место, которое блистало драгоценными каменьями. По окончании ужина дан был знатный фейерверк, а потом индейский танец, который по множеству [танцорок] и новости заслуживал большого внимания. Оный составляло до пятидесяти богато убранных женщин. В 5-ть часов утра мы разъехались…»
Диковинные свадьбы так поразили, что появилась ещё одна запись: «Мы каждый вечер забавлялись здешними свадебными церемониями, которых в городу было великое множество. Сие время предвозвещено было по их религии счастливым, следовательно, каждый, кто имел сына или дочь у себя, старался их женить не теряя времени. Не успеет солнце опуститься за горизонт, как повсюду сделаются слышны трубы и барабаны, церемонии за церемонией протекает улицы, которые от факелов кажутся издали горящими. Бывши однажды приглашен на свадьбу к богатому купцу, мне хотелось узнать весь обряд оной, а потому я решился присутствовать с начала и до конца. В 6-ть часов вечера мы вышли из дому в таковой процессии. Сперва шла музыка, перед которою один трубил в предлинную трубу, потом ехал мальчик верхом в знатном азиатском уборе, оному последовали азиатские и европейские коляски, наполненные мальчиками и девочками от 4-х до 10-ти лет. После сего везен был жених с невестою верхом на лошади. Оне были убраны брилиантами с ног до головы, лошадь же вели два индейца, по бокам которой шло для церемонии по три человека с копьями и по одному, который держал по большой парасоли над женихом и невестою. За сею группою ехало несколько мальчиков на лошадях; они были одеты в разные европейские мундиры и представляли весьма смешную фигуру, а кольми паче когда проезжали толпу зрителей и снимали шляпы.
Каждая из ихних лошадей имела также двух провожатых, что с факелами, парасолями и другими принадлежностями составляло немаловажный вид. Мы посещали все улицы до 8-ми часов, а тогда прибыли в дом, назначенный для свадебного пиршества. Я принужден был дожидаться на улице, покудова обряд церковный женитьбы не кончился, ибо в продолжение оного людям другой религии присутствовать не позволяется, о чем хозяин при первой встрече извинился, а между тем представил меня молодым, которые тогда уже сидели под великолепною балдахинью, одетые в белое кисейное платье. Мальчику не было более 10-ти, а девочке около 6-ти лет. По здешнему обыкновению отцы всегда составляют партии и нередко женят детей 4-х или 5-ти летних, которые до пришествия в возраст живут порознь. По обе стороны балдахина было поставлено по корзине с кокосовыми орехами, подле которых сидело по человеку с бумагою.
К молодым подходили их знакомые по порядку и свидетельствовали свое почтение им, обмокнувши палец в большую чашу краски и потом дотронувшись лба жениха и невесты. После сего приветствия каждый давал подарок, состоящий из денег (которые тогда же и записывались в приход), и получал в обмен кокосовый орех. В продолжение сего публика забавлялась танцовщицами, которыя мне однако не понравились. Все их движения состояли в двух или трех выступках вперед и назад, что только производило шум побрякушек, которыми ноги их были покрыты. Я было позабыл упомянуть, что правые руки новобрачных были связаны тонким бумажным шнурком, которого конец висел на шее жениха, а сие и представляло священную связь замужества.
Здесь обыкновение, чтобы для свадеб строить временные строения перед домом отца жениха. Сие делается по достаткам, так что другие занимают великое пространство. Оные обыкновенно разделяются на 3 или 4 горницы, первые три бывают наполнены простым народом, а последняя остается для гостей почетных и фамилии хозяйской. Сия убирается лучше прочих, хотя и те увешаны коврами, цветами и разными фигурами, сделанными из фольги, что все вместе с люстрами, фонарями и музыкою походит более на игрище украшенное.
Приметы колониализма. Читаем: «Мадрас лежит при береге Коромандельском и принадлежит английской ост-ындской компании. Его разделить можно на европейский и индийский города, первый обнесен регулярною крепостью и наполнен каменными домами, где находятся также компанейские магазейны, а последний окружен невысоким валом, в котором, исключая нескольких европейцев, живут сами остынци /индийцы.-В. О./. Жилище их небольшие мазанки с галлереями на улицу, кои однако содержатся довольно чисто. Место сие называется черным городом и купно с их храмами делает неважную фигуру.
Европейцы здесь живут в удивительной роскоши, они на лето удаляются в свои загородные маленькие дворцы, а в городе бывают только по должностям от 10-ти часов утра до 5-ти вечера. Экипажи их так же великолепны, как и все прочее; кроме карет и фаэтонов все употребляют паланкины или род четыреугольного ящика около семи фут длиною и трех шириною, окруженного жалюзями. Сии покойные повозки обыкновенно носятся людьми, которые подпрягают себя под длинный шест, утвержденный на середине».
Что о местных жителях? Лисянским подмечено: «Они вообще роста довольно высокого, построены хорошо и имеют черты лиц приятные, а особливо женский пол, который, исключая темного цвета тела, не уступят много своим товарищам в Европе.
Бедная часть ходит совершенно почти нагая, кроме небольшого куска полотна, покрывающего наготу, богатые также одеваются в миткаль или кисею. Они также употребляют род юбок и корсетов с длинными рукавами, но все генерально носят на головах тюрбаны. Мущины бреют свои длинные волоса и оставляют токмо одну макушку и усы, а некоторые носят бороды; женщины же подкалывают свои косы, скручивая наверх.
Оба пола здесь весьма любят украшать себя разными побрякушками; они не только носят цепи или бусы на шее, перстни на пальцах и брыслеты на руках, но надевают толстые метальные кольца на ноги и имеют серьгу в носу от 3-х до 4-х дюймов в диаметре. Уши женщин вокруг увешаны украшениями, а у многих даже пальцы на ногах в перстнях, ибо оне ходят босые, а мущины только употребляют туфли, носки которых загибаются наверх».
Нет в свете народа, который мог бы сравниться с женту /? – В. О./ в разсуждении чистоты; можно сказать, что они не ложатся и не встают без обмывания всего тела. Люди сии также могут служить примером по скромности своей жизни, пища их состоит из сорочинского пшена и зелени, а питие из чистой воды; при всем том рабочий народ трудится не менее нашего».
Что особо поразило? Пишет: «Быстрота ума индейцев безподобная, ибо со всевозможною бережливостью редко кому удастся скрыть свою мысль от слуги или дебоша, а кольми паче от последнего, который безпрестанно смотрит в глаза и старается узнать, чем лучше может обмануть. Этот дворецкий не требует никакой платы, а довольствуется тем, что перепадет в его руки от покупок; удивительно видеть, с какой пылкостью народ сей в уме делает арифметику, у них в минуту тысячи множатся, слагаются и делятся».
Второй адрес: Бомбей. Дневник впечатляет своей дотошливостью: «Лежит на острове того же имени и обнесен довольно знатною крепостию, которая требует по крайней мере 5000 человек для защиты. В нем жительство имеет губернатор Малабарского берега и с советом вместе составляет третье правление английской компании в Индии. Внутри крепости жительство имеют европейцы, армяне и богатые персияне, бедный же народ живет в загородных местах, как то: в Манагале, Донгори, где также обитают женту и христиане, происшедшие от индейского поколения.
В Бомбее, как и во всех прочих местах Индии, есть род, называемый паярской (речь о низшей касте париев. – В. О). Оный составлен из тех, которые, принадлежавши особливым своим сектам, не выполняли их уложения, а потому были изгнаны. В таковом положении никто даже из родных их и не только из знакомых не должны с ними иметь дела. Паяры здесь обыкновенно занимаются торговлею, нередко составляют порядочные капитальцы».
Забота о гостях России в Индии. В дневниках четкие сведения навигационного характера. Излагает как нужно ориентироваться в индийских прибрежьях: мели, скалы, буруны и теченья…
И к тому же предупреждает, что индийский народ находится пол властью Британии: «Теперь и весь Майсур пал в руки англичан… Целая Индия склавствует ноне под оными» (уточню: «склавствовать» забытое слово из разряда властовать, господствовать).
И ещё о колонизаторах: «Европейские здешние жители, кажется, более расположены к нажитию».
Выделю: ни строчки в восхваление колонизаторов и их «цивилизионной миссии».
Замечу: Лисянский был отозван из Индии после разрыва дипломатических отношений меж Россией и Англией.
Глава 9. О трех предотвращённых экспедициях
Он новую в мечтах Европе цепь ковал
И к дальныи берегам возведши взор угрюмый…
Из А. С. Пушкина («Наполеон на Эльбе»)Три раздела:
1. Приказ атаману Платову спасать Индию от Британии;
2. Как Кутузов перекрыл Наполеону дорогу в Индию;
3. Сорванный план Гитлера похода в Индию;
Действующие лица, кроме уже названных:

