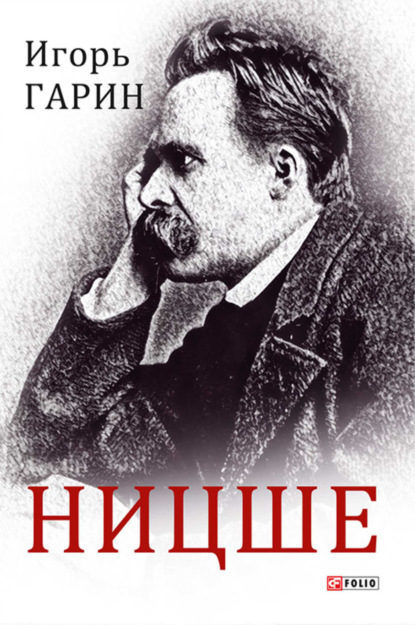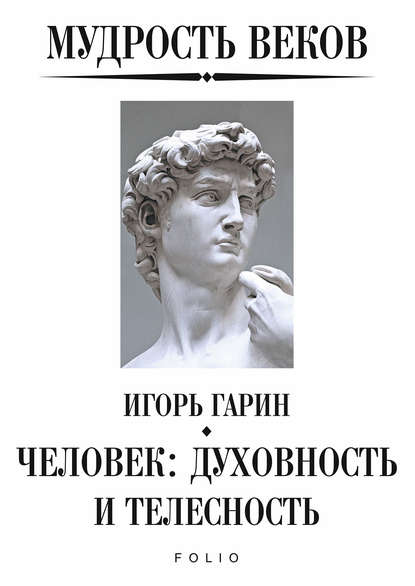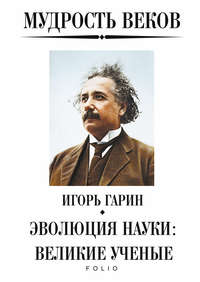Полная версия
Проклятые поэты
Все это создавало почву для взаимной борьбы между символистами и декадентами, но также и для их взаимного влияния друг на друга. Действительно, с одной стороны, многие поэты, начинавшие как декаденты, довольно легко (в некоторых случаях на время, а в некоторых – навсегда) переходили в символистский лагерь или подпадали под его влияние (Ренье, Самен и др.); и это понятно, поскольку декаденты, в сущности, томились той же «тоской по идеалу», что и символисты, хотя и искали его, как правило, на путях самоуглубления, возведенного в абсолют, где обрести идеал весьма затруднительно. Символизм же как будто подсказывал выход из тупика.
Мне представляется, что не следует отсчитывать историю французского символизма с маллармистских «вторников» на рю де Ром, собиравших юные дарования (Рене Гиль, Гюстав Кан, Пьер Кийар, Эфраим Микаэль, Анри де Ренье, Франсис Вьеле-Гриффен и др.) – литературный салон стал только актом оформления поэтического направления, самоопределением всего того, что так долго с начала XIX века зрело в художественной культуре. Здесь речь идет не о рождении самого символизма, без которого невозможно никакое искусство, но об эволюции от романтизма к Парнасу, прóклятым и, наконец, собственно к суггестивному искусству, способному вызвать не только «целостную эмоцию» или «душевную музыку», но – при всех попытках Малларме избегать «метафизических» проблем – к бытийному, онтологическому искусству, позволяющему поэту и читателю устремиться к точке Омега, Божественному Ничто, абсолютному углублению, слиянию с иными мирами.
…Тайный смысл высшего, метафизического искусства – в замене жертвенной, золотой короны монарха (короны, изливающей свет, во внешнее), темной короной посвящения, короной абсолютного углубления.
Писателю-метафизику не стоит, я думаю, уклоняться от встреч с любыми силами, из какой бы бездны они ни исходили. Он должен вмещать всё, не отождествляя себя целиком ни с чем. Каково же тогда отношение всех этих действий к личному высшему «я» писателя?
…В основе всего должна лежать несгибаемая, чудовищная воля к трансцендентному; писатель-метафизик должен стремиться быть трансцендентнее своих самых трансцендентных образов. Проходя через ад, он должен быть Вергилием, а не отождествлять себя полностью с грешником. В небе он должен сохранить отблеск противоположной реальности. В идеале его высшее «я» должно быть неким аналогом Божественного Ничто, неким вечным холодом, трансцендентным по отношению ко всякой движущейся реальности.
Что же касается искусства, то для писателя-метафизика его искусство должно стать его личным путем. Таким образом, не метафизика становится сферой искусства, а само искусство, по крайней мере, в отношении к его творцу становится формой метафизики.
Сказанное позволяет полностью солидаризироваться с Т. С. Элиотом, полагавшим, что французские символисты, особенно Жюль Лафорг и Тристан Корбьер, были наследниками английских поэтов-метафизиков, Донна и Драйдена. Еще – Уильяма Блейка, гения поэзии Лоса, чьи «Ворота Стоунхенджа» – высокий символизм и чья максима: «Я не хочу рассуждать или сравнивать: мое дело творить» – эпиграф к символизму.
Философия французского символизма, производная от немецкого, берет свое начало в лекциях по эстетике Теодора Жуффруа и эссеистике Александра Гиро.
Т. Жуффруа:
Любой предмет, любая мысль в определенной мере являются символами… Всё, что мы непосредственно воспринимаем, символично, ибо вызывает в нас представление о чем-то ином, чего мы не воспринимаем… Романтик… стремится одухотворить материальную природу… Поэзия есть не что иное, как чреда символов, предстающих уму, дабы он смог постигнуть незримое.
А. Гиро:
В глазах поэта всё символично; в нескончаемой смене образов и сравнений он пытается доискаться до следов того изначального языка, который был дан человеку Богом и слабым отражением которого являются наши современные языки… Если поэзия ищет символы в природных предметах, то, стало быть, она разыскивает в явлениях этого мира всевластную причину, их породившую; ведь любое явление, как и любое существо, таит в себе скрытый смысл, который и надобно обнаружить!
Хотя французские поэты начала XIX века еще глухи к «голосу бытия» («музыке мира», по словам Шарля Сент-Бёва), романтический нарциссизм и самовлюбленный индивидуализм мало-помалу начинают сдавать позиции смыслообретению, постижению существования, «ужасу перед жизнью и восторгу жизни», как потрясающе точно определил свои поэтические искания Шарль Бодлер.
Стефан Малларме считал, что случайность не может породить стих – он должен быть тщательно выверен и призван – так или иначе – отразить тайный смысл бытия. Эволюция поэзии – движение от непосредственно-данного к сущностному: «Глагол, будучи прежде всего грезой и песнью, обретает в устах поэта – благодаря властной потребности, заложенной в любом искусстве, связанном с воображением, – всю свою потенциальную мощь». Но движение к сущностному неотделимо от таинства, поэтому тайна всегда присутствует в стихах:
Вероятно, решительно во всем заложено нечто сокровенное, и я твердо верю в существование чего-то потаенного, некоего скрытого и недоступного значения, заключенного в самых обыденных вещах; и стоит этой стихии устремиться по тому или иному руслу, как она становится реальностью – но уже не реальностью в себе, а реальностью, представленной, к примеру, на бумаге, в словесном воплощении, – вот где царит мрак; словно жадный смерч, она захватывает все, что ни встретится на пути, все обволакивает густой, непроницаемой пеленой.
Поэзия есть то, что позволяет выразить – с помощью человеческого языка, обретшего свой исконный ритм, – потаенный смысл разноликого бытия: тем самым она дарует нашей бренной жизни подлинность, и поэтому идеал всякой духовной деятельности заключен именно в ней.
Поэзия – не прибавление к природе и не отражение ее, цель поэзии – установить связи между явлениями, то, что ускользает от нас. Поэзия – движение к таинству Идеи, к чистой Гармонии:
Однако и здесь можно удовольствоваться тем же – сопоставлять разные грани, отыскивать новые, насколько хватит нашего усердия, вызывать к жизни порой прекрасные в своей многосмысленности образы, украшающие вершины, где эти грани сходятся. Все переплетения образуют гигантскую арабеску, где можно разглядеть то самые причудливые, головокружительные извивы, то будоражащие сочетания красок. Каждым таким зигзагом арабеска не сбивает с толку, но озаряет, а ее тождество самой себе, умерщвляя ее, одновременно приносит ей освобождение. Все мотивы складываются в безмолвную мелодию, созвучную нашим чувствам и образующую некий логический ряд. И как бы ни билась в агонии Химера, пораженная золотыми стрелами, как бы ни сочились ее раны кровью самоочевидного, однообразного бытия – никакие корчи не способны ни искривить, ни уничтожить той вездесущей Линии, которая соединяет всякую точку с другой такой же точкой, ради того чтобы возникла Идея, не всегда являющаяся в человеческом обличье и тем более таинственная, чем больше в ней чистой Гармонии.
В. Брюсов:
Пойми, пойми, все тайны в нас,В нас сумрак и рассвет…Ф. Сологуб:
Я – бог таинственного мира,Весь мир – в одних моих мечтах.В свое время Борхес говорил о поэзии, что она, по определению, таинственна, ибо никто не знает до конца, что удалось написать. То есть поэзия содержит нечто в принципе не до конца знаемое и самим автором. Откуда и появляется феномен многих вариаций одного и того же. Вариации есть форма проявления символичности. Символ (не знак!) всегда есть то, что мы не до конца понимаем, но что есть мы сами как понимающие, как существующие. И наши философские произведения, и их чтение есть форма существования этого не до конца понимаемого, его бесконечной длительности и родственной самосогласованности. Бытие произведений и есть попытка интерпретировать их и понять, подставляя в виде вариаций текста наши же собственные состояния, которые есть тогда форма жизни произведения. Например, можно сказать так: то, что я думаю о Гамлете, есть способ существования Гамлета.
Философские проблемы становятся таковыми, если они ставятся под луч одной проблемы – конечного смысла. Для чего вообще все это? Для чего мироздание? Для чего «я» и мои переживания? А эти вопросы задаются именно потому, что в этом мироздании живет существо, которое не создано, а создается. Непрерывно, снова и снова. Да и мир не завершен, не готов.
Интеллектуальная привлекательность символизма определяется метафоричностью, смелыми поворотами мысли, плюралистическим богатством содержания, той головокружительной зыбкостью, которая определяет его антидогматизм и открытость миру. «Прекрасная трудность» символизма – в богатстве идей и духовной палитры художника, в его вечном стремлении двигаться дальше, дальше, дальше…
«Темнота» символа связана с таинством обозначаемой им вещи. Как семя определяет формы и качество будущего плода, так в символе уже заключены, скрыты, интимно присутствуют грядущие смыслы, неведомые самому поэту качества, зачатки того, чтó явится лишь другим временам. «Темнота» символа – это его многозначность, мифологичность, плодотворность, метафоричность, скрытая в нем обильность.
Поэты часто черпают символы из мифов именно по причине бессознательной глубины человеческих чаяний.
Анри де Ренье:
Легенды и Мифы всегда были в чести у поэтов, как в прошлом, так и ныне. Оно и понятно: ведь они показывают в преображенном и возвеличенном виде Человека и его Жизнь. Они создают идеализированную реальность, где человечество представляется таким, каким оно хотело бы себя видеть.
К Легендам и Мифам прибегали всегда, не углубляясь в даль времен, хотя сделать это было бы нетрудно; напомним лишь романтиков и парнасцев, охотно к ним обращавшихся. Достаточно привести в пример Гюго и Леконта де Лиля. Но, что весьма существенно, их обоих прельщала в Мифах и Легендах пластическая красота и высокий строй. Они описывают, пересказывают это мифическое прошлое. Превращают себя как бы в его современников. Для них это освященные веками предания. Боги и Герои – чуть ли не исторические персонажи, принадлежащие волшебной истории, миру, который в силу своей удаленности представляется более прекрасным, благородным, колоритным, чем наш.
Современные же поэты относятся к Мифам и Легендам иначе. Они ищут их непреходящий идеальный смысл, видят символы там, где их предшественники видели лишь сказки да басни. Миф подобен раковине на берегу времени, в которой слышен шум моря, и это море – человечество. Это раковина Тритона, поднесенная к устам идеи.
Но мифы тоже бывают разные: первобытные, закабаляющие, высокодуховные, делающие человека деятельным и свободным.
В. П. Зинченко:
У нас, выросших в условиях рабства, атрофирована установка к выбору, к самостоятельному действию. Воспитанные на коллективных первобытных мифах, мы не имеем опыта в создании своих собственных, индивидуальных мифов. Когда первые разрушаются или разрушены, мы ожидаем, что кто-то предложит нам новые.
Символ – не только язык мифа, но и знак искусства вообще. Символизм присущ любой литературной школе. Символизм как самостоятельное направление отличается лишь осознанием пронизанности искусства символикой, поиском символа «на дне бытия».
Современное искусство определяет себя как искусство символическое. Символизм в искусстве есть утверждение живой цельности переживания, как начала группировки образов. В выражении образами переживания сила искусства, а не в системе образов, использованных переживанием. Символизм – это метод выражения переживаний в образах.
Символизм подчеркивает динамику творчества. Вот почему он против школьного педантизма как начала статического в искусстве.
Символизм есть соединение двух порядков последовательностей: последовательности образов и последовательности переживаний, вызывающих образ. Здесь вся сила в последовательности переживаний. Образы – это эмблематическая роспись переживаний, не более. Переживание зацветает образами. В символизме реальная связь за пределами видимости.
Гносеология освобождает субъект познания от времен и сроков теоретически. Задача человечества практически осуществить эту свободу, и задача осуществима в принципе творчества ценностей. Но теория ценностей есть теория творчества. Это и есть теория символизма.
Еще одна причина «темноты» символа в том, что поэт всегда повествует об истории чьей-то души и всегда жаждет созерцать тайну. Но вместе с тем эта «темнота» светоносна: «Она лучится той же простотой и ясностью, какой лучится любое человеческое чувство, какой лучится сама жизнь».
М. Метерлинк делил символизм на умозрительный (преднамеренный) и бессознательный. Первый связан с сознательным намерением облечь в плоть и кровь мыслительную абстракцию – его примером является вторая часть «Фауста». Второй возникает помимо воли творца или даже вопреки ей, превосходя замыслы и намерения – он присущ гениальным творениям человеческого духа – произведениям Эсхила, Данте, Шекспира.
Символ – одна из сил природы, и не человеческому разуму сопротивляться его законам. Единственное, что может сделать поэт, – это последовать примеру плотника, о котором пишет Эмерсон. Ведь плотник, не правда ли? – намереваясь обтесать бревно, не поднимает его над головой, а кладет на землю, чтобы каждому удару его топора помогала земля, потому что его физические силы не так уж и велики; найдя верное положение, он призывает себе на помощь силу тяготения планеты, и вселенная благоволит ему и усиливает малейшее движение его мускулов.
То же самое и с поэтом: его мощь или слабость не в том, что делает он сам, а в том, насколько удается ему привести в действие внешнюю силу, тайную и вечную гармонию, сокровенную энергию вещей. Он должен найти такое положение, чтобы его слова опирались на Вечность, чтобы каждое биение его мысли поддерживалось и усиливалось силой тяготения единой и вечной мысли. Мне кажется, что поэт должен ввериться символу, истинный символ проникает в произведение без ведома и иногда даже вопреки намерениям автора; истинный символ рождается в стихах, как цветок от избытка жизненных сил, и он позволяет убедиться, насколько жизнеспособна и плодотворна поэзия. Если символ необыкновенно высок, значит, произведение необыкновенно человечно. Без символа нет произведения искусства, об этом я уже говорил раньше.
Если мне удалось создать живых людей и они зажили в моей душе так же естественно, как жили бы в Божьем мире, то пусть они даже поступают вопреки моему скудному разумению, из которого, как я полагал, они и родились, я все равно убежден, что правда на стороне моих героев, хоть они и не приняли моих относительных истин и не согласны со мной самим; ибо это противоречие родилось из не постижимой для меня, более глубинной и сущностной истины. Поэтому мой долг, смиренно склонившись, молчать и вслушиваться в то, о чем говорят посланники пока еще непонятной мне жизни.
В общем, то же самое можно сказать и о поэтическом образе, он – коралловое ложе, на котором вырастает остров-символ. Образ может сбить меня с толку, но если он органичен и точен, то, значит, подчинен вселенскому закону строже, чем мой разум, а потому я склонен признать его превосходство над моим отвлеченным мышлением; и когда я послушен ему, за меня думает все мироздание и извечный порядок вещей, и я могу без устали двигаться вперед, перешагнув собственные свои пределы; бороться же с ним все равно, что бороться с Богом.
Символ как внутренний отзвук, как сублимация ощущений и эмоций, как духовное проявление искусства, движение от конкретного к абстрактному.
Э. Верхарн:
Оттолкнувшись от виденного, слышанного, ощущаемого, осязаемого, поэт стремится найти его внутренний отзвук, а затем от него подняться к идее. Вот перед поэтом ночной Париж – мириады светящихся точек в безбрежном море тьмы. Он может передать этот образ непосредственно, как сделал бы Золя: описать улицы, площади, памятники, газовые рожки, чернильные потемки, лихорадочное оживление под взглядом неподвижных звезд – художественного эффекта он, безусловно, добьется, но символизма не будет и в помине. Но он может исподволь внедрить тот же образ в воображение читателя, сказав, например: «Это гигантская криптограмма, к которой потерян ключ», – и тогда без всяких описаний и перечислений он вместит в одной фразе весь Париж – его свет, мрак и великолепие.
Вместо копирования символизм занят поиском сущностного в изображаемой вещи. Символ пробуждает эстетическую эмоцию, но в еще большей мере – ассоциации, связи, ценности.
Э. Рейно:
Любая тема (всегда относящаяся к духовной сфере бытия) как бы просвечивает сквозь вызванные к жизни эстетические формы.
Они выражают тему при помощи соответствий. Запахи, цвета, звуки перекликаются между собой. Если принять спинозовское учение о единстве субстанции, то следует сказать, что модусы этой субстанции развиваются параллельно друг другу. Любой психический или физиологический феномен имеет соответствие в потенциальном или воплощенном небесном прообразе. Течение реки соответствует течению чьей-то судьбы, заходящее солнце – чьей-то меркнущей славе…
Эстетические формы стихотворения суть символы. Символ же определяется как изображение или образ, выражающий некое сугубо духовное явление. Стихотворение, призванное пробудить эстетическую эмоцию, символично.
Символическое стихотворение – это такое стихотворение, которое, вызывая к жизни (с помощью стихотворных строк) эстетические формы, логически сопряженные между собой в рамках тематического единства произведения, имеет целью явить Красоту.
Символ – это соединение внешнего и внутреннего, явного и сокровенного, быта и бытия. Как писал Андрей Белый: «Везде стремление соединить в символе случайность обыденного явления с его вечным, мировым, не случайным смыслом. И чем случайней поверхность явления, тем величественнее сквозящая в нем Вечность».
Закон «универсальных аналогий» Артюра Рембо – не просто основополагающий принцип поэтической выразительности, но инструмент символического постижения мира. Гласные – не просто попытка синтеза звука и цвета, но – в гораздо большей степени – мистический акт познания: от «альфы», наличествующего, реального, приземленного, примитивного до «омеги», постижения в низменном, наличном благородной квинтэссенции, скрытой сущности («О» – лучезарнейшей Омеги вечный взгляд!).
В великом искусстве парадоксальным образом сочетаются новации и традиции, бунт и согласие, переоценка ценностей и благоговение. Искусство не боится ни давления, ни консерватизма, ни устаревших форм, ни остановок времени. Не менявшееся веками искусство древнего Египта или русской иконы столь же «современно», как и авангардные поиски или эпатирующие изыски. В искусстве всегда важнее, ктó и как, чем чтó и почему.
Уже Эсхил, Данте, Шекспир, Мильтон оперировали грандиозными, обобщающими символами бытия. Провидение послало этих четырех поэтов, дабы сказать большую часть того, что не могли сказать остальные.
Подводя итоги поэтической «переоценки всех ценностей», Поль Клодель в знаменитом эссе «Поэтическое искусство» (1904 г.) трактует символизм не как одномоментный акт, но как эволюционный процесс, в котором поэту отведена роль сотворца, партнера Бога, наблюдателя и соучастника творческой эволюции, описанной А. Бергсоном.
Можно без преувеличения констатировать, что бóльшая часть новаций XX века коренилась в движении, начатом «прóклятыми». Можно говорить не об угасании, потере напора, но о жизнепорождающей мощи, преодолении «камерности», «пены вещей», дальнейшем проникновении в «бытийные тайны»…
…Мощная метафорика Сен-Поль-Ру буквально взрывала поэтику позднего символизма и во многом предвосхищала сюрреалистические опыты («сюрреалистом в символе» назвал автора «Внутренних феерий» Андре Бретон); чувство вселенского всеединства, почти языческого «космизма», в сочетании с отточенной логикой Фомы Аквинского и с ощущением большого, исторического времени – это чувство, одушевлявшее Клоделя, превращало его не столько в продолжателя, сколько в антипода Малларме с его завороженностью Красотой-Небытием…
Возникновение символа как поэтической категории, определявшей и характеризовавшей контекст не только отдельного произведения, но и творчества художника в целом и всего литературного направления и даже системы мышления составляющих это направление художников, привело к тому, что между поэтом и его творчеством установились какие-то новые отношения, каких не знал рационалистический XIX век. Символ оказался и преградой, и связующим звеном между поэтом и миром, в котором протекало его эмпирическое существование. Символ и отторгал поэта от мира, и приковывал к нему, но приковывал какими-то сложными путями, причем мир круто видоизменялся, поскольку подвергался переосмыслению с точки зрения той многозначной семантики, которую неизбежно несет с собой символическое мышление.
Символизм – это художественное выражение плюрализма и одновременно способ выражения личности художника во всем многообразии ее проявлении. Язык – коллективен, символ – персонален, язык – упорядочен, символ – многозначен. Логика требует точности, строгости языка, поэзия пользуется его полифонией. Символ необходим для выражения сложности чувств, трепета души, передать который обычными словами невозможно.
Вяч. Иванов:
Символ только тогда истинный символ, когда он неисчерпаем и беспределен в своем значении, когда он изрекает на своем сокровенном [иератическом и магическом] языке намека и внушения нечто неизглаголемое, неадекватное внешнему слову. Он многолик, многосмыслен и всегда темен в последней глубине.
И. Анненский:
Мне вовсе не надо обязательности одного и общего понимания. Напротив, я считаю достоинством лирической пьесы, если ее можно понять двумя или более способами или, недопоняв, лишь почувствовать ее и потом доделывать мысленно самому.
Вообще говоря, великие стихи, как и великая музыка, не требуют дешифровки: поэтический и музыкальный язык либо понимают, либо нет – если нет, дешифровка не поможет. Соблазн истолкования сложных поэтических текстов внятными прозаическими отрывками, «рационализирующими» смысл, понятен при ученичестве, но противопоказан при чтении: либо стихи, либо интерпретации. Но это своего рода художественный экстремизм, лишающий музыку и поэзию критики. Нет, критика вправе существовать, но на уровне, по крайней мере соответствующем рангу поэзии. Таковы законы жанра: запрет на профессию вполне оправдан, если о Мандельштаме пишут шариковы от литературы или искусствоведы в штатском.
В. Брюсов:
Разбор создания искусства есть новое творчество: надо, постигнув душу художника, воссоздать ее, но уже не в мимолетных настроениях, а в тех основах, какими определены эти настроения.
Символизм – это духовный плюрализм, отказ от абсолютизации «истины», от «несомненно». Брюсов писал: «Самое ценное в новом искусстве – вечная жажда, тревожное искание. Неужели их обменяют на самодовольную уверенность, что истина найдена, что дальше идти некуда, что новая истина уже не может оказаться ложью… Истина во всем и везде – ее нет только в неподвижности».
Символизм – это антидогматизм, неприемлющий гордыню «учителей человечества». Да, идеи важны, неважно даже какие, лишь бы – жизнеспособные, внутренне готовые к развитию. Но страшны идеи – неприступные крепости, не оставляющие альтернатив, не допускающие возражений.
Когда И. Анненский рисует портрет Толстого как обуянного гордыней ересиарха, заменившего церковные догматы собственной непогрешимой истиной «упрощения» или «непротивления», когда он отвергает «благословенный труд» по чистке выгребных ям или тачанию сапог, поэт противопоставляет вечное творчество обретенной истине, развитие – стагнации, эволюцию – остановке.
У самого Анненского есть вполне толстовские мысли и стихи, но не закованные в броню «учения» или «догмата»: «Я должен любить людей, т. е. я должен бороться с их зверством и подлостью всеми силами моего искусства и всеми фибрами существа. Это не должно быть доказываемо отдельными пьесами, это должно быть определителем моей жизни».
Дед идет с сумой и бос,Нищета заводит повесть:О, мучительный вопрос!Наша совесть… Наша совесть…Символ выражает способность многовидения, это такое устройство зрения, когда поэт видит «с двух сторон». Когда идет война, поэт не может, как Маяковский, с присущей ему некрофилией требовать десять их жизней за одну нашу. Поэт – обязательно «человек мира», обитатель небесных башен, открывающих все перспективы. Позиция «над схваткой» – вот перспектива поэта. Многообразие символа – отсюда.
Вяч. Иванов:
Символ есть знак, или ознаменование. То, что он означает, или знаменует, не есть какая-либо определенная идея. Нельзя сказать, что змея, как символ, значит только «мудрость», а крест, как символ, только «жертва искупительного страдания». Иначе символ – простой иероглиф, и сочетание нескольких символов – образное иносказание, шифрованное сообщение, подлежащее прочтению при помощи найденного ключа. Если символ – иероглиф, то иероглиф таинственный, ибо многозначащий, многосмысленный. В разных сферах сознания один и тот же символ приобретает разное значение. Так, змея имеет ознаменовательное отношение одновременно к земле и воплощению, полу и смерти, зрению и познанию, соблазну и освящению.