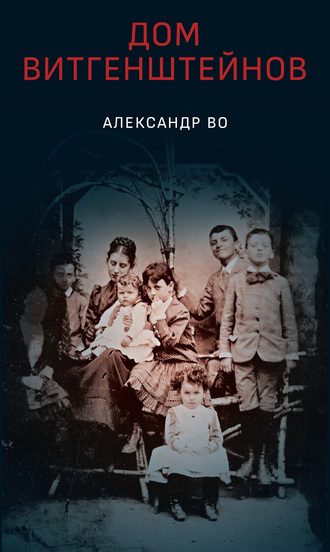
Полная версия
Дом Витгенштейнов. Семья в состоянии войны
Герман Витгенштейн никогда не осыпал детей деньгами, он был уверен, что они сами должны пробить себе путь в жизни. Он считал Карла самым бестолковым из трех сыновей, но строгая экономия вместе с непрерывным осуждением и пренебрежением к способностям Карла привели только к тому, что в ожесточенном сердце мальчика разгоралось непреклонное желание доказать, что отец ошибается.
Под конец карьеры Карлу нравилось, что его называют «человеком, который сделал себя сам», хотя это определение верно лишь отчасти. Огромное состояние он заработал, конечно, при помощи своей энергии и деловой хватки, но, как и многим soi-disant[15] «селф-мейд» людям, Карлу следовало бы принять во внимание, что он женился на весьма обеспеченной леди, без чьей щедрой поддержки на начальном этапе пути от наемного работника до владельца капитала он мог никогда не добиться успеха.
Историю роста Карла Витгенштейна от американского бармена-бунтаря до австрийского «стального магната-мультимиллионера» проследить несложно. Проведя год на ферме в Дойчкройце, он поступил в Высшую техническую школу в Вене, усваивая только те знания, которые, как Карлу казалось, пригодятся ему впоследствии, пропуская вечерние лекции и работая за гроши, чтобы набраться опыта, на фабрике Staatsbahn (Национальной железнодорожной компании). В 1869 году он ушел из университета, так и не получив диплом, и следующие три года работал в разных местах: помощником инженера-конструктора на морской верфи в Триесте; в турбиностроительной компании в Вене; на венгерской северо-восточной железной дороге в Сатмаре и Будапеште; на сталелитейном заводе Neufelch Schoeller в Тернице и, наконец, в курортном городе Теплице, где его сначала взяли на неполный рабочий день – помогать разрабатывать проект нового железопрокатного завода. Управляющий взял Карла из уважения к фамилии и не ждал от него многого, но вскоре, благодаря энергичности, оригинальности мышления и способности быстро решать любые деловые вопросы и инженерные проблемы, Карл получил на заводе полную ставку.
Наконец-то почувствовав себя в безопасности, с годовым окладом в 1200 гульденов, он решился просить руки своей возлюбленной. Леопольдина Кальмус была сестрой женщины, которая снимала крыло дворца в Лаксенбурге. Мать Карла прохладно приняла весть о помолвке сына, сомневаясь, что из него выйдет хороший муж. Будущей невестке она написала: «У Карла доброе сердце, но он слишком рано покинул родительский дом. Что касается финальных штрихов его воспитания, надежности, последовательности, самообладания – всему этому, я надеюсь, он научится рядом с вами»[16].
Герман, которому еще только предстояло встретиться с мисс Кальмус, выказывал меньше одобрения. Покойный отец невесты был виноторговцем. Она была наполовину еврейка и к тому же католичка, разом оскорбив и его протестантскую мораль, и антисемитский настрой. На самом деле Леопольдина была дальней родственницей жены Германа, миссис Витгенштейн – обе вели свое происхождение от раввина Исаака Брилина, жившего в XVII веке, но Герман тогда мог этого и не знать. В любом случае он давно наказал детям не вступать в брак с евреями. Из одиннадцати детей не послушался только Карл. Герман имел законное право запретить свадьбу, и Карлу надлежало попросить разрешения отца на брак. Он последовал правилам, но так небрежно и бесцеремонно, что привел отца в ярость.
Герман лежал в постели, жалуясь на боль в пояснице, когда сын в хорошем настроении приехал из Теплице. Карл предложил сделать массаж, чтобы унять боль, и едва отец принял горизонтальное положение, издавая стоны в подушку, Карл как бы невзначай обмолвился, что он проездом в Аусзе, где хочет сделать мисс Кальмус предложение. Поднимался ли в тот момент вопрос о ее вероисповедании, история умалчивает, но когда Карл стал превозносить красоту и добродетели будущей невесты, Герман резко оборвал его. «Все они поначалу такие, – сказал он, – пока не сбросят овечью шкуру!»[17]Лишь когда о помолвке объявили официально, старик написал невестке:
Дорогая мисс,
мой сын Карл, в отличие от его братьев и сестер, всегда, с самого раннего детства, следовал собственному пути. В конце концов, может быть, это не такой уж и серьезный недостаток. Он даже попросил моего согласия на помолвку – правда, когда уже ехал просить вашей руки. Раз он вас так хвалит, и раз его сестры горячо его поддерживают, я не чувствую себя вправе чинить вам препятствия, и могу только желать, чтобы ваши мечты и надежды на счастливое будущее сбылись. Примите пока такое выражение моего искреннего расположения к вам, по крайней мере пока не представится возможность встречи.
Искренне ваш
Г. Витгенштейн[18]Карл и Леопольдина поженились в день Святого Валентина, 14 февраля 1874 года, в капелле знаменитого венского католического Собора Святого Стефана. День был ветреный. На крыше собора сияла, как чешуя экзотической рыбы, разноцветная полированная черепица, а высоко на фронтальном портале среди резных фигур, олицетворяющих уродство и зло, лик еврея в pileum cornutum[19]будто бы искоса поглядывал на входящих Германа и гостей. Когда обряд был завершен, все собрались поприветствовать жениха и невесту – но Карл, придя в ярость от нерасторопности кучера, двинул кулаком в окно экипажа, с криком: «Какого черта! Ты вообще собираешься ехать?»[20]От удара разбилось стекло, и он порезал руку; кровь капала на чистый пол экипажа.
Молодожены уехали жить в Айхвальд, недалеко от Теплице, но проработать с хорошим окладом Карлу удалось не так долго, как он ожидал. Вскоре он оказался в эпицентре внутреннего конфликта, на пике которого уволился, протестуя против грубого отношения председателя правления к его другу, управляющему директору. Год он оставался без работы (как раз в это время родилась Гермина), а летом 1875 года подрабатывал инженером в одной венской организации. Когда Карл год провел в столице, враг-председатель сам уволился из Теплице, и Карла восстановили в прежней компании, на этот раз с местом в правлении. Завод находился в бедственном положении, но Карл смог переломить ситуацию, в острой конкуренции отвоевав крупный заказ на железнодорожные рельсы у Круппа. Для этого он преследовал русского финансиста, строителя железных дорог Самуила Полякова, который как раз был в поездке по Европе, и убедил его купить более легкие и дешевые рельсы, чем у конкурентов. Для войны с турками русским нужны были рельсы для проведения военной кампании на Балканах. По условиям сделки Карл должен был производить рельсы до тех пор, пока Поляков не телеграфирует, что пора остановиться. Когда это указание наконец-то поступило, Карл сообщил русским, что во дворе завода сложено несколько тысяч готовых к отправке рельсов – ложь, конечно, но она гарантировала, что и финальный платеж будет гораздо больше.
В бизнесе Карл был игроком: размерами своего огромного состояния он был равно обязан как тяжелой работе и живой интуиции, так и успеху рискованных предприятий. Он давал обещания, не зная, сможет ли он их исполнить, соглашался покупать компании и акции на деньги, которых у него не было; выставлял на продажу то, что уже обещано другим клиентам. В конечном счете он всегда полагался на свой ум, помогавший ему выпутываться из проблем, которые сам же себе и создал. «Промышленник должен рисковать, – писал он. – Нужно быть готовым поставить на карту все, если потребуется, даже рискуя не получить желаемых результатов, потерять все и начать с нуля»[21].
В 1898 году, в 51 год он вернулся в Вену после долгого отпуска за границей и объявил, что уходит из бизнеса. Тут же он сложил все свои директорские полномочия и ушел со всех управляющих позиций, и в последующие годы внимательно следил за тем, что происходит в промышленности, из своего кабинета на Крюгерштрассе, двери которого были постоянно открыты, «чтобы министр торговли всегда мог заскочить за советом». На момент отставки он находился на пике карьеры. За все время он успел побывать владельцем и главным акционером Богемской горнодобывающей компании, Пражской железоделательной компании, сталелитейного завода в Теплице, Альпийской горнодобывающей компании, хозяином фабрик поменьше, металлопрокатных предприятий, шахт и рудников по всей империи. Он занимал места в правлениях минимум трех крупных банков и компании, производящей боеприпасы, владел великолепными и ценными коллекциями мебели, произведений искусства, фарфора и подлинных музыкальных рукописей-автографов, которые хранил в трех своих главных австрийских резиденциях.
До тех пор пока позволяло здоровье, Карл посвящал часть освободившегося времени личным увлечениям – охоте, стрельбе, фехтованию, верховой езде, оценке и коллекционированию произведений искусства, писал статьи о бизнесе и экономических вопросах, играл на скрипке, летом долго гулял по альпийским лугам. Бессмысленно строить предположения, сколько у него было денег. Карл Менгер, его двоюродный брат, писал, что состояние Витгенштейна до Первой мировой войны «оценивалось в 200 миллионов крон, что сопоставимо по меньшей мере с тем же количеством долларов после Второй мировой войны»[22]. Но эти цифры бессмысленны. Он был колоссально богат.
5
Брак с наследницей
Джером Стейнбергер был сыном обанкротившегося импортера лайковых перчаток из Нью-Йорка[23]. Его отец, Герман, совершил самоубийство в Рождество 1900 года. Одна из теток со стороны Стейнбергеров бросилась в реку Гудзон. Считается, что его дядя, Якоб Стейнбергер, тоже покончил с собой в мае 1900 года. Джером предпринимал отчаянные попытки спасти семейное дело, но потерпел поражение, сменил фамилию на Стонборо и пошел на гуманитарный факультет чикагского колледжа. Его отец, иммигрант из Нассау в Саксонии, по слухам, застраховал свою жизнь на сто тысяч долларов. Сестра Айме вышла замуж за Уильяма, белую ворону в могущественном клане Гуггенхаймов[24].
В 1901 году, называя себя «доктор Стонборо», Джером впервые съездил в Вену, а через год вернулся изучать медицину. Неизвестно, где и как он обратился из иудаизма в христианство (и так ли это), но 7 января 1905 года, через три месяца после еврейской свадьбы его сестры в Нью-Йорке, он снова был в Вене, и в один из самых холодных дней в истории Австрии дрожал перед алтарем протестантской церкви на мощенной булыжником Доротеергассе рядом с высокой, нервной 22-летней венской невестой.
Друзья звали ее Гретль, хотя при крещении ей дали имя Маргарита, и на самом деле ее должны были звать на английский манер – Маргарет. Она была младшей дочерью Карла и Леопольдины Витгенштейн. Среди ее родственников были судьи, военные, врачи, ученые, покровители искусств и государственные чиновники – и все выдающиеся. К стенам церкви над тем местом, где они с Джеромом обменялись клятвами, были прикреплены три полированные дощечки: «Да приидет Царствие твое», «Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его» и «Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!»
Почему у Джерома и Гретль возник романтический интерес друг к другу, непонятно. Она была из музыкальной семьи, он – нет; она искала общения, он по возможности избегал его. Впрочем, оба питали стойкий интерес к наукам и медицине: она в подростковом возрасте вышила подушку для своей спальни, изобразив на ней человеческое сердце с коронарными сосудами и артериями. После банкротства отца, должно быть, Джерома вдохновляла перспектива получить доступ к ее огромному наследству – в конце концов, она была дочерью одного из самых богатых людей империи Габсбургов. Возможно, ее, в свою очередь, привлекли в нем нетерпеливость, властность, волевой характер, непредсказуемое настроение – что очень напоминало ей отца. Такие предположения по поводу Гретль и Джерома, возможно, не очень справедливы, но между Джеромом Стонборо и Карлом Витгенштейном существовало явное сходство, и даже если Джером намеревался жениться на Гретль не из-за состояния, он явно оценил роскошный, переполненный сокровищами дворец ее отца в Вене.
Гретль была на девять лет младше и на несколько дюймов выше американского мужа, тщедушного темноглазого брюнета. Глядя на сохранившиеся фотографии, ее не назовешь красавицей, по крайней мере в обычном значении этого слова, но фотоискусство могло быть к ней несправедливо: многие, знавшие ее лично, считали ее весьма и весьма привлекательной. «Она обладала „необычной“ красотой, – говорит один, – и была элегантной на экзотический лад. Арки волос надо лбом делают ее внешность неповторимой»[25]. Густав Климт попытался ухватить эти неуловимые нюансы в полноростовом портрете, заказанном миссис Витгенштейн незадолго до свадьбы дочери.
Гретль возненавидела картину, она ругала Клим-та за то, что он «неточно» изобразил ее рот, что она позже исправила при помощи другого, менее известного художника. Но и тогда картина ей не понравилась, поэтому она бросила ее пылиться на чердаке. Посетители Новой Пинакотеки в Мюнхене, где картина находится сейчас, могут сами поразмышлять, почему натурщица была так разочарована. Они могут указать на темные круги под глазами Гретль, которые выдают ее усталость, сомнения, возможно, испуг. Можно отметить, что она стоит напряженная, расстроенная, в пышном, не слишком ей идущем белом шелковом платье с открытыми плечами, указать на бледность ее рук, нервно сплетенные на животе пальцы. Внимательно изучив ее портрет, посетитель никогда не узнает причин всего этого – причин, не связанных с опасениями по поводу ее замужества или даже со стеснительностью, с которой она позирует перед сексуальным хищником Климтом. В мае 1904 года, когда Климт начал работу над картиной, брат Гретль, самый близкий ей по возрасту, добрый товарищ детства, неожиданно театрально, напоказ принял яд.
6
Смерть Рудольфа Витгенштейна
На момент смерти Рудольфу Витгенштейну, которого в семье звали «Руди», исполнилось 22 года, он был студентом-химиком в Берлинской академии. По общему мнению, он был интеллигентным, образованным, привлекательным молодым человеком, страстно увлекался музыкой, фотографией и театром. Летом 1903 года, обеспокоенный одной из особенностей своей личности, которую он сам назвал «мои извращенные пристрастия»[26], он искал помощи у Научно-гуманитарного комитета, благотворительной организации, которая боролась за отмену 175-й статьи уголовного кодекса Германии – драконовского закона против die widernatürliche Unzucht (неестественных сексуальных актов). Комитет публиковал ежегодный отчет о своей деятельности под витиеватым названием Jahrbuchfür sexuelle Zwischenstufen unter besonderer Berüchsichtigung der Homosexualität («Ежегодник транссексуальности и особых вопросов гомосексуальности»), и в одном из выпусков известный сексолог, доктор Магнус Хиршфельд детально описывает конкретные проблемы неназванного студента-гомосексуала в Берлине. Руди, боясь, что по этой статье его узнают, немедленно устремился к фатальному исходу. Такова, по крайней мере, одна из версий. Нижеописанные факты менее спорны.
2 мая 1904 года в 21:45 Руди зашел в бар-ресторан на Браденбургштрассе в Берлине, заказал два стакана молока и поесть. Ел он, заметно волнуясь. Поужинав, он попросил официанта передать пианисту бутылку минералки с просьбой сыграть популярные куплеты Томаса Кошата Verlassen, verlassen, verlassen bin ich:
Покинут, покинут, покинутый я!Как камешек брошенный я без тебя,В слезах на коленях в часовне моейЯ буду молиться при свете свечей.В лесу есть полянка, где много цветов,Там спит моя радость, вот только любовьНе в силах ее никогда оживить,И век без нее мне покинутым быть.Как только раздалась музыка, Рудольф достал из кармана мешочек с бесцветными кристалликами и растворил их в стакане молока. Если проглотить цианистый калий, он моментально вызывает агонию: в груди все сжимается, в горле ужасно жжет, кожа бледнеет, начинаются рвота, кашель и конвульсии. Через две минуты Рудольф откинулся на стуле без сознания. Хозяин послал посетителей привести врачей. Пришли трое, но было уже слишком поздно.
На следующий день в новостной заметке в газете говорилось, что на месте происшествия нашли несколько предсмертных записок. В одной из них, адресованной родителям, Руди признавался, что убивает себя от горя из-за смерти друга. Два дня спустя его останки забрали из берлинского морга в Вену, и там без почестей похоронили. Боль и унижение его отца, Карла, трудно передать. Не успели похороны закончиться, как он погнал все семейство с кладбища, запретив жене даже оглядываться на могилу. В дальнейшем ни жене, ни другим членам семьи не разрешалось упоминать имя Рудольфа в его присутствии.
Через восемь месяцев после похорон, когда Гретль с новоиспеченным мужем выходили из церкви, в которой только что обвенчались, невеста передала замерзший свадебный букет надежному другу с просьбой отнести туда, где похоронен ее брат, и рассыпать цветы в память о нем на его могиле.
7
Трагедия Ганса
Решение Карла запретить говорить о Рудольфе было продиктовано не отсутствием чувств по этому поводу, а их избытком: если дать им волю, они окажутся разрушительными. Присутствовали и практические соображения: он хотел, чтобы семья сплотилась и не горевала, чего можно было достичь только жестким запретом. Но если он собирался объединить домочадцев, трудно было придумать что-то хуже цензуры. В доме из-за запрета повисло невыносимое напряжение, дети отстранились от родителей, и исправить это уже не удастся никогда. Карла за глаза обвиняли в том, что он чрезмерно давит на сыновей, заставляя их выбрать профессию, куда обязательно входили бы две дисциплины, которые помогли ему сколотить состояние – инженерное дело и бизнес. Фрау Витгенштейн, Леопольдину (или Польди, как ее звали в кругу семьи) дети обвиняли в том, что она не могла противостоять мужу-тирану, что она нерешительна и пуглива, как мышка. Больше чем через сорок лет после смерти брата Гермина с горечью писала:
Когда мой семилетний брат Руди сдавал вступительные экзамены в школу, он расстроился и испугался, когда экзаменатор сказал матери: «Он очень нервный ребенок, вам нужно быть к нему повнимательней». Я часто слышала, как это высказывание повторялось с иронией, словно какой-то абсурд. Мать не могла всерьез предположить, что ее ребенок может быть слишком нервным, для нее это было немыслимо[27].
Разговоры о самоубийстве Рудольфа в семье из-за отцовского запрета превратились в тайные совещания, отчего факты со временем исказились по принципу испорченного телефона. Например, ходили слухи, что он покончил с собой из-за того, что изнеженное венское воспитание не подготовило его к сложностям студенческой жизни в Берлине; или что отец запретил ему учиться на актера, или что он подхватил венерическую болезнь, от которой тронулся умом. Среди множества предположений ходило немало нелепиц, и все же это ничто по сравнению со сплетнями, связанными с исчезновением еще одного брата, Иоганнеса (его называли Ганс).
Как сказал бы Оскар Уайльд: «Потерю одного сына еще можно рассматривать как несчастье, но потерять двоих похоже на небрежность». Как ни странно, самоубийство Руди не первая трагедия в доме Витгенштейнов: двумя годами ранее старший сын Карла, Ганс, исчез без следа. Это тоже запрещалось обсуждать.
На детских фотографиях у Ганса угловатая голова и заметное косоглазие, по всей видимости, он был немного слабоумным. Сегодня сказали бы, что у него «синдром саванта»: это отсталый ребенок с необычайным даром в одной области, например, обладающий поразительной памятью или умеющий быстро считать в уме. Ганс был болезненно застенчив, с богатым внутренним миром. Крупный и неуклюжий, упрямый и с трудом поддающийся воспитанию, он был, по мнению старшей из сестер, «очень особенным ребенком». Первое сказанное им слово было «Эдип».
С раннего детства он испытывал странное влечение переводить внешний мир в математические формулы. Однажды вечером, когда он еще был ребенком, они с сестрой гуляли по Городскому парку Вены. Увидев красивую беседку, он спросил, может ли она представить, что беседка сделана из алмазов. «Да, – ответила Гермина. – Как было бы здорово!»
«Позволь-ка», – сказал он и уселся на траве, пытаясь сопоставить годовой доход южноафриканских алмазных шахт со всеми богатствами Ротшильдов и американских миллиардеров, мысленно измерить всю беседку целиком, включая орнамент и чугунные кружева, и медленно и последовательно построить изображение, пока – внезапно – не остановился. «Я не могу продолжать, – признался он, – поскольку не могу представить алмазный павильон выше вот такого», – он поднял руку на высоту около метра над землей. – «А ты можешь?»
«Конечно, – ответила Гермина. – А что не так?»
«Ну, нет таких денег, чтобы купить еще больше алмазов».
При всей своей математической смекалке Ганс питал неизменный интерес к музыке, и здесь он был феноменально талантлив. В четыре года он мог определить эффект Доплера в падении на четверть тона высоты звука проносящейся мимо сирены; в пять он бросился на землю в слезах с криками: «Не так! Не так!» – когда два духовых оркестра на разных концах длинной карнавальной процессии одновременно играли два марша в разных тональностях. Когда семья отправилась на концерт знаменитого Joachim Quartet в Kleiner Musikvereinssaal, Ганс отказался идти. Его не интересовали музыкальные интерпретации, вместо этого он лежал дома на полу, разложив перед собой партитуру концерта. И хотя он ни разу не слышал произведения, он смог, просто изучив партии по отдельности, создать в уме ясное представление о том, как будут звучать вместе четыре музыкальные линии, и благодаря этому сыграть все произведение по памяти на фортепиано родителям, когда они вернулись.
Несмотря на то что Ганс был левшой, он достойно играл на скрипке, органе и фортепиано. Юлиус Эпштейн, учитель Малера и известный преподаватель фортепиано в Венской консерватории, однажды назвал его «гением», но всю искусность и проблески тепла в исполнении Ганса портили чрезмерная порывистость и непроизвольные всплески напряжения, типичные для его характера с ранних лет. Гермина, объясняя их напряженной, закипающей атмосферой дома Витгенштейнов, заключила:
Это трагедия, что наши родители, несмотря на их высокую нравственность и чувство долга, так и не смогли добиться гармонии в отношениях друг с другом и с детьми; это трагедия, что сыновья так отличались от отца, будто он взял их в сиротском доме! Он испытал, по-видимому, горькое разочарование, что никто не последовал его примеру и не продолжил работу всей его жизни. Одно из самых больших отличий – и самое трагичное – заключалось в том, что сыновьям с детства не хватало его энергии и воли к жизни[28].
Так что же на самом деле случилось с Гансом? Короткая заметка в Neues Wiener Tagblatt от 6 мая 1902 года гласит: «Промышленника Карла Витгенштейна постигло ужасное несчастье. С его старшим сыном Гансом (24 лет), находившемся на учебе в Америке около трех недель, произошел несчастный случай при катании на каноэ»[29]. По дате этой короткой заметки можно предположить, что Руди выбрал вторую годовщину «ужасного несчастья» с братом в качестве знаменательной даты, подходящей, чтобы покончить с собственной жизнью в Берлине. Но если Ганс действительно убил себя 2 мая 1902 года, Витгенштейны еще долго открыто этого не признавали, и эту краткую заметку, в которой ничего не говорится о дальнейшей судьбе Ганса, ни в коей мере нельзя считать последним словом на эту тему. С тех пор в семье ходило множество домыслов. Одни говорили, что он бежал в Америку, другие – что в Южную Америку; кто-то сообщает, что в последний раз его видели в Гаване на Кубе. Его имени нет ни в одном из сохранившихся списков пассажиров. Возможно, Ганс уехал по фальшивому паспорту. Известно, что когда ему было двадцать с небольшим, отец отправлял его поработать на заводы в Богемии, Германии и Англии, где он должен был взять на себя обязанности и ответственность, которым отчаянно противился, и из такой работы он не сумел извлечь никакой пользы для себя. Вместо того чтобы работать, он предпочитал заниматься музыкой.
Когда Ганс возвращался домой, раздоры с отцом разгорались с новой силой. Карл был страшен даже в хорошем настроении. Гретль писала в дневнике: «Частые шутки отца кажутся мне не веселыми, а только опасными»[30]. Карл, плохо разбиравшийся в людях, страстно желал, чтобы старший сын преуспел в бизнесе, стал блистательным предпринимателем и промышленником, напоминал высокими достижениями его самого; но когда высоко воспаряешь, кажешься крошечной точкой тем, кто не может летать. Карл, хотя сам любил музыку, не выносил болезненной одержимости сына и в конце концов позволил ему играть на музыкальных инструментах только в строго обозначенные часы. Юношеский мятеж Карла против отца привел его к большому успеху в делах, но неосмотрительно было ожидать от Ганса того же пыла, и недальновидно считать, что неослабевающее отцовское давление на такого юного, беспечного и незрелого парня может привести к каким-либо иным результатам, кроме катастрофичных.



