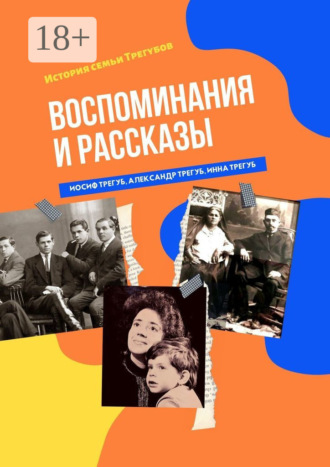
Полная версия
Воспоминания и рассказы. История семьи Трегубов
Томочка (Тамара)
Томочка родилась 22 апреля 1942 года в Сталинграде. Окончила школу в 1959 г. и поступила на физмат Николаевского пединститута. После окончания института 2 года преподавала физику в сельской школе, затем вернулась в Николаев и преподавала физику в городской школе. В 1966г. вышла замуж за киевлянина и переехала в Киев. 8 ноября 1967г. родилась дочь Лидочка. Однако, семейная жизнь не сложилась. Приехала Сарра, посмотрела и тут же приняла решение увезти Томочку с дочкой к себе в Николаев. Я это хорошо помню, т. к. Сарра этот вопрос обсуждали со мной. Я был не сторонник таких резких решений, но Сарра была настроена очень решительно и она оказалась права. Первое время Томочка с дочерью жила у родителей, но в 1970 году произошло событие, о котором я хочу рассказать. На ЧСЗ было закончено строительство первого судна для слежения за космическими станциями, знаменитого «Академик Сергей Королев». Для приема судна прибыла большая комиссия конструкторов и космонавтов, а руководителем комиссии был назначен мой старший брат Яня.
Можно представить, как в городе восприняли новость о том, что заместителем Главного конструктора космических кораблей является их земляк, Николаевец! По этому поводу, по просьбе брата была выделена однокомнатная квартира, в которой и поселилась Тома с Лидочкой. В 1971г. Тома вышла замуж за очень хорошего и надежного человека – Юрия Гросмана, который стал для всех нас близким родственником. 6 февраля 1974 г. Томочка родила сына – Мишу. После рождения Миши Томочка снова пошла работать в школу, преподавателем физики. Она была прекрасным преподавателем. Родители упрашивали директора школы, чтобы их дети попали в Томин класс. Она устраивала специальные дополнительные занятия для выпускников, за которые категорически отказывалась брать деньги. Она любила своих учеников и дети тоже ее любили. Что говорить, если в момент ее смерти у нее была ее бывшая ученица, которая пришла ее навестить. К сожалению, последнее время Томочка сильно болела, перенесла очень тяжелую операцию на сердце. Но она никогда не теряла бодрости духа. Мы с ней часто общались по Скайпу, и она никогда не жаловалась. К великому сожалению, в 2014г. она тяжело заболела и 13 августа 2014 года скончалась О детях Тамары: Лида родилась в 1967г в Киеве, потом с Томой переехали в Николаев. В 1990г. вышла замуж за Сергея Барсукова. Оба закончили Кораблестроительный техникум. В 1991г. у них родился сын Саша. Лида и Сергей живут и работают в Николаеве. Саша окончил факультет международных отношений Николаевского факультета Киево-Могилянской Академии, живет и работает в Николаеве. В 1974г у Томочки и Юры родился сын Миша, который тоже закончил Николаевский Кораблестроительный институт. Долго он не мог найти свой путь в Николаеве и решил уехать в Израиль. Сейчас живет в г. Беер-Шеве, работает на заводе. В 2005 г. женился на Ирине Алехиной (теперь Гросман). Живут хорошо, довольны. В 2006 г. у них родился сын Витя, очень энергичный и веселый мальчик. Скоро, видимо, будет пополнение. Так что жизнь и история Трегубов продолжается.
Виталик
Теперь о сыне Саррочки и Изи. Виталик родился 17 декабря 1948г. В Николаеве. Очень хорошо учился, много занимался спортом (мамины гены!) Бегал, играл в ганбол, увлекался академической греблей, серьезно занимался волейболом в ДСШ (детской спортивной школе) В 1966 г. поступил в КВИРТУ (Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО имени маршала авиации А. И. Покрышкина), где я работал преподавателем. Но мне не пришлось за него просить – он сдал вступительные экзамены блестяще. Учился очень хорошо. В 1971г. окончил КВИРТУ с золотой медалью и был направлен в батальон обеспечения при НИИ-2 ПВО в г. Калинин. Однако уже через год его перевели в НИИ инженером лаборатории. Там он, благодаря своим способностям, сделал блестящую карьеру: младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, начальник лаборатории, зам. начальника отдела. В 1976 году заочно поступил в Харьковскую Военную инженерную радиотехническую академию, которую окончил в 1979 году. В 1985г. защитил кандидатскую диссертацию, к.т. н. В 1986г. получил диплом старшего научного сотрудника. В 1971г. Виталик женился на Валентине Андреевне Пастуховой (теперь Катковой). В 1975 г. у них родились двойняшки, замечательные девочки – Леночка и Танечка. В 1992г. Виталик демобилизовался в звании подполковника и переехал в Москву, т. к. Валя была москвичкой и у нее была в Москве квартира. Сейчас Виталик занимает солидную должность Начальника отдела крупной телекоммуникационной компании. Валя окончила Московский энергетический институт, долго работала в проектных организациях, сейчас на пенсии. Лена окончила Московский энергетический институт. В 1997 году вышла замуж за Василия Фунтикова и 25 августа 2003г. у них родилась дочь Настенька. Таня окончила РЭУ им. Г. В. Плеханова с 1999 года была замужем за Олегом Ярыгиным, в 2010 году развелась. Пока не замужем.
Дядя Шура-Трегуб. Александр Михаилович
Дядя Шура родился в 1906 г. Он был самый младший из братьев Трегуб, 5 ребенком в большой семье. Дядя Шура был удивительным человеком, очень отличался от своих братьев. Он был коренастый, невысокого роста, но физически довольно сильный парень. Но главное, он был очень веселый, находчивый, коммуникабельный, с,я бы сказал, несколько авантюрным характером. Он прожил удивительную, в чем-то для меня, загадочную жизнь. Мой папа, как, думаю, и все братья, его очень любил. Он часто с удовольствием рассказывал какие-то невероятные истори о своем брате Шуре. Я запомнил такую, очень характерную для моего дяди Шуры. В 20-х -30-х годах представления в цирке Шапито, который каждый год призжал на лето в город, делились на 2 части. В первой было обычное цирковое представление-акробаты, жонглеры и. т. д., а во-втором- так называема французкая борьба. С цирком приезжали 6 -7 борцов, которые разыгрывали «соревнования». У борцов были, конечно, звучные» заграничные» фамилии или клички-Черная маска, Красная маска, Рыжий Дьявол и. т.д Хотя, конечно, все схватки были постановочными, но выполнялись очень профессионально и выглядели, как острая схватка. Все мужчины города болели за своих любимцев. переживали, спорили, ругали «нечестного"судью. В общем, как в настоящих соревнованиях. Я бывал с папой на таких соревнованиях и это было действительно захватывающее зрелище. И вот однажды папа был на этих соревновниях, на арену вызывают борцов и в одном из них папа узнает… своего брата Шуру, который выступает и неплохо борется, но, конечно, под какой-то «красивой» иностранной фамилией. Папа часто рассказывал с восхищением эту историю, по которой можно судить о характере дяди Шуры. У папы где-то была фотография дяди Шуры этого периода с обнаженным торсом. Действительно, мощные мышцы, настоящий Шварценеггер! В 30-х годах дядя Шура как то исчез из моей памяти. Впрочем, родители, конечно, знали, но я был в это время слишком юн, так что мне не много рассказывали. В моей памяти дядя Шура появился уже в 1936 или 1937 в какой-то невроятно высокой должности коммерческого директора Черноморского судостроительного завода, т.е. заместителя директора ЧСЗ по снабжению! Это была невероятно высокая и ответственная должность. Николаевцы, конечно, знают, а для тех, кто не знает, хочу объяснить, что ЧСЗ был гигантским судостроительным заводом, на котором строились как большие военные корабли (крейсеры, эсминцыи. т.д),так и огромные суда для мирных целей (как, например, вся китобойная флотилия «Слава»). Перед войной было начато строительство огромного сверхдредноута, который таки и не был достроен к началу войны. Снабжение такого огромного и технологически сложного предприятия было делом очень трудным, особенно в существовавшей в советские времена планово- распределительной жесткой системы снабжения, наличия в стране печально -известного Госснаба. И в этой системе дяде Шуре каким-то образом удавалось обеспечивать бесперебойное снабжение огромного завода. О его способностях в городе ходили самые невероятные легенды, которые мой папа очень любил рассказывать. Я запомнил, например, такую. Заводу срочно нужны были материалы, которые Госснаб выделил другому предприятию. Дядя Шура узнал, на какой станции находится вагоны с этими матриалами, поехал туда, хорошо напоил начальника станции и сам вагонах мелом написал» В Николаев». Я думаю, что это легенда, т.к. за такие дела можно было хорошо поплатиться, но само наличие таких легенд свидетельствует о мнении на заводе про способностях моего замечательного дяди Шуры. В это время он был очень знаменитым и влиятельным человеком в городе. В конце 20-х- начале 30-х дядя Шура женился на девушке по имени Галя. Тетя Галя оказалась добрым, отзывчивым человеком хорошей женой и родственницей. В начале 30-х у них родился сын Борис, мой двоюродный брат. К сожалению, Борю я знал очень плохо-они жили далеко от нас, да и разница в возрасте для тех лет была значительной. Встречались мы только тогда, когда навещали дядю (к нам они приходили редко, я даже не помню таких случаев). Зато посещения дяди Шуры я помню хорошо, т.к. это было всегда интересно. Дядя жил на окраине города, но не очень далеко от центра. Зато рядом была река Буг, так что место было неплохое. Жил дядя в малогабаритной 2-х комнатной квартире в многоэтажном доме. Наверно, тогда это было неплохо. В квартире, кроме семьи, жил большой пес, кажется, овчарка. В квартире было много интересных, в то время необычных вещей. В углу стоял огромный, очень красивый радиоприемник, с большим, мне казалось, количеством лампочек и подсветкой шкалы. Впрочем, он былне очень мощный, и кроме Москвы, Киева и Бухареста (это было очень близко) ничего не"ловил». Гордостью дяди был бар, в котором было множество заграничных красивых бутылок спиртного с экзотическими названиями-подарки от иностранных гостей завода. Думаю, наши коньяки и вина были не хуже, а, вероятно, значительно лучше, но они были в простых, одинаковых бутылках и с простыми наклейками. В общем, бар производил впечатление! У дяди Шуры былмикрофон и звукоусилитель (тоже, по тем временам, редкость). Дядя обычно по микрофону вел «конферанс», а потом ставил пластинки, в первую очередь своего любимого Утесова. В общем, у него было всегда интересно и весело. Я уже писал, что дядя Шура был веселым, остроумным человеком. Его шутки часто повторялись в городе (конечно, как анонимные).Но мой папа их знал и часто мне рассказывал» шутки Шуры», но я их забыл. В то-же время дядя Шура был сильным, требовательным руководителем. Я один раз слышал его деловой разговорпо телефону. Он кого-то распекал, давал четкие указания и распоряжения. У него при этом даже выражение лица и голос изменился, таким свого дядю я раньше никогда не видел. Для меня всегда было загадкой, как в такомраннем возрасте (ему тогда было 31—32 года) дядя Шура занял такую большуюи ответственную должность. Я даже не знаю, где он учился, но если даже он бы закончил ВУЗ, в чем я сильно сомневаюсь, все равно он был слишком молод для такого поста. Единственное объяснение, которое напрашивается, это то, что он был"выдвиженец». Т.к. это был печально знаменитый 1937г., то, возможно, руководство ЧСЗ было репрессированно (никакого подтверждения, правда, яне нашел),нужны были новые кадры и способности дяди Шуры были замечены. Во всяком случае, он хорошо справлялся с этой серьезной работой и работал вплоть до начала войны и эвакуации завода. В июле 1941г. стало ясно, что немцы оккупируют город и началась огромная по своим масштабам работа по эвакуации громадного завода. Была проведена эвакуция всех кораблей, находящихся на плаву, уникального технологического оборудования, инструментов, ценных материалов и, конечно, высококвалифицированных рабочих и инженеров. В начале августа 1941г. наша семья и семья дяди Ильюши сели в вагоны ЧСЗ и эвакуировались из города Я не знаю, кто разрешил нам эвакуироваться с ЧСЗ, возможно, было какое-то централизованное решение по эвакуации еврейского населения, но, вероятнее всего, нам помог дядя Шура, т.к. он был один из организаторов эвакуации завода. Если это так, то он просто спас нам жизнь. Т.к. завод на время оккупации прекратил работу, то руководство завода получило другие назначения. Дядя Шура был направлен на работу в Министерство судостроительнойпромышленности, но там что-то у него не получилось. Не знаю, что именно. Может быть его способности для Министерства просто не подошли. Во всяком случае, после освобождения Николаева он приехал в город. Не знаю, кем он работал, но это было явно не та высокая должность, которую он занимал до войны. Последний раз дядю Шуру я видел в декабре 1946-январе 1947 г.,когда я на Новый 1947г. приезжал в отпуск из Германии. Мы с родителями были у него в гостях. Он старался быть веселым и уверенным, но, конечно, был сильно морально подавлен. Ему очень хотелось показать, что у него есть сильные связи, но, наверно, как всегда в таких случаях, это было не так. Например, когда я случайно упомянул, что мне скоро уезжать ипора позаботиться о билете, дядя сказал, что это не проблема и через пару дней билет будет у меня в кармане. Однако, прошла неделя, билета не было и я достал билет обычным путем, т.е. через военного коменданта вокзала. В начале или середине 50-х семья дяди Шуры неожиданно переехала в Алма -Ату. Возможно, это было связано с тем, что Боря, получил работу в Алма-Ате. Я активно переписывался с т. Галей. Она мне сообщила, что Боря женился (жену, кажется, звали Тамара) и у них родился ребенок. В начале 60-х дядя Шура очень тяжело заболел (рак) и он переносил сильные боли. Т. Галя просила достать наркотики для обезболивания. Я обратился к Клаве, моей будущей жене. Она каким- то образомдоставала и я отправлял по почте. Видимо, тогда это еще было проще. В 1963г. дядя Шура скончался. Мы еще некоторое время переписывались с т. Галей, но где-то в конце 60-х она скончалась. Об этом мне сообщил Боря. Но это было единственное письмо от него. Сколько я не писал ему, он не отвечал и теперь связь с ними окончательно потеряна.
Фронт и застава
(Из личных воспоминаний)

Иосиф Трегуб в юности
Война, а потом и служба в Группе советских оккупационных войск в Германии, сохранилась в моей памяти как мозаичная картина. Хорошо, что я выписал из своего личного дела некоторые данные и по ним могу восстановить хронологию событий.
Я оказался на фронте в период окончания войны, когда наша армия победоносно наступала. Но это была не игрушечная, а самая настоящая война, где смерть и ранения солдат и офицеров были частью нашей повседневной жизни. И потери были немалые. Так, в моем взводе автоматчиков, которым я командовал уже в боях на территории Германии, из двадцати солдат к концу войны осталось шестеро. Остальные были ранены, и я не уверен, что все выжили. Это казалось особенно горьким – не дожить до конца войны: как мы все понимали, он был уже очень близок.
Меня направили в 277-й полк на должность командира пулеметного взвода, но в полку назначили командиром стрелкового взвода. Полк проводил учения и подготовку к началу наступления на Польшу на правом берегу Вислы. Техника и обозы переправлялись через переправы, а мы, пехота, переходили Вислу по льду. Так как в это время уже шли бои за Варшаву, немцы на нашем, северном участке сильного сопротивления не оказывали, а начали быстро отступать. Я припоминаю только один случай, когда немцы нас пытались контратаковать, а мы заняли оборону и отстреливались.
Где-то в конце февраля – начале марта мы пересекли границу Германии (теперь это территория отдана Польше). Границу обозначали плакаты – указательный палец и надпись: «Вот она, проклятая Германия!» Интересно, что после этого мы вступали уже в немецкие городки, где не оказалось не только войск, но и вообще никакого населения. Видимо, мирные жители боялись, что наши солдаты будут мстить. К концу марта 1945 года наш полк вышел на правый берег Одера. На этом польская компания для него закончилась. Насколько я помню, это было в районе города Штеттина. Разбили лагерь, и началось боевая учеба, пополнение людьми и техникой и подготовка к боям в Германии.
В начале апреля 1945 года приказом по 47-й Армии меня неожиданно направили в 216-й стрелковый полк этого же корпуса и армии на должность командира боевого взвода автоматчиков; под моим началом находились приблизительно двадцать бойцов – в общем, это была немалая боевая сила. У меня сохранилась карта наступления нашего полка в Германии, поэтому я точно знаю, что наш полк перед переправой через Одер находился севернее города Целлина. 12—13 апреля началась подготовка к переправе на плацдарм на левом берегу Одера. В ночь на 14 апреля (эти даты я запомнил, так как они связаны с началом Берлинской операции) наш полк вместе с другими полками дивизии переправился через Одер.
16 апреля в 5 часов утра началась знаменитая артподготовка Берлинской операции. Гул от артиллерийских залпов и стрельбы сотен «Катюш» был настолько сильным, что в наших окопах начала осыпаться земля. Артподготовка длилась около часа, после чего мы пошли в наступление, причем в начале операции наша дивизия наступала во втором эшелоне корпуса.
Было это, по-моему, за Бернау. Одна из стрелковых рот получила приказ прочесать лес, находившийся на пути движения полка. Рота благополучно вошла в лес, не встречая никакого сопротивления. Однако колонна полковой батареи, проходя вдоль опушки, подверглась сильному пулеметному огню, направленному из леса, и понесла огромные потери. Стало очевидно, что в лес вошла группа немецких войск, причем неизвестной численности, и рота оказалась отрезанной. Командир полка решил направить ей на помощь мой взвод.
Первой задачей было зайти в лес, так как теперь место, куда вошла рота, простреливалось довольно плотным пулеметным огнем. По совету командира было принято такое решение: широкой цепью подползти как можно ближе к опушке, а затем по одному, с разных флангов, как можно быстрее вбежать в лес. Лес был достаточно густой, так что те, кто успел в него вбежать, уже оказались бы недоступны для поражения. В лесу взвод должен был соединиться и отправиться на поиски роты. Мы подползли к опушке как можно ближе (дальше подползать уже мешал подлесок, кусты). До леса еще оставалось метров 20—30, и этот участок нужно было пробежать во весь рост под плотным пулеметным и автоматным огнем немцев. Расчет был на неожиданность и быстроту бега. Я помню, что время бега до леса составляло 5—6 секунд. Когда я скомандовал (фамилия условная): «Иванов, вперед!», боец левого фланга взвода побежал в лес. Боец успел добежать. Тогда я дал такую же команду солдату правого фланга. И он тоже смог добежать, потому что немцы не успевали открыть прицельный огонь. Так последовательно солдаты бежали с разных флангов; и всё же двое были ранены, не смогли добежать. Когда весь взвод перебежал в лес, настала моя очередь. Я сам себе скомандовал: «Вперед!» и успел добежать до леса. Не попали.
В лесу взвод собрался, и мы пошли вперед, на поиски роты. Роту мы нашли довольно быстро. Но что делать дальше? Мы совершенно не знали, где немцы. Они – конечно, к счастью – тоже не знали, где мы: лес был очень густой. Мы с командиром роты решили, что надо сделать разведку. Уж не знаю почему, но в разведку я решил пойти сам со своим помкомвзвода, уже довольно опытным старшим сержантом по известной фамилии – Матросов. Мы осторожно пошли на левый фланг и через некоторое время увидели колонну немцев. В колонне было 10—15 солдат с автоматами, и находились они довольно близко – мне кажется, не более чем в двадцати метрах. Однако нас они не видели, так как мы легли на землю. Надо было дождаться, чтобы они прошли, вернуться в роту и обсудить ситуацию.
И здесь я сделал глупость: не выдержал. Перед нами были враги, немцы, которые принесли столько горя моему народу. Я почти автоматически взвел автомат и нажал на спусковой курок. Но автомат произвел только один выстрел: следующая пуля перекосилась. Частая неисправность у нашего ППШ. Услышав выстрел, офицер что-то прокричал, колонна остановилась, немцы повернулись в нашу сторону, сдернули автоматы и открыли сильный огонь, хотя нас они не видели. Матросов закричал: «Лейтенант, бежим!» Мы вскочили и побежали. Лес, к счастью, был очень густой, так что все пули попали в деревья, а мы успели убежать. Если бы мы не убежали, немцы могли бы, стреляя, пойти в нашу сторону, и тогда мы бы не спаслись. Хорошо, что я всегда уважительно относился к своим уже достаточно опытным солдатам и сержантам и учитывал их советы. Мы прибежали к своим и рассказали обо всем. Мы с командиром роты, посовещавшись с младшими командирами, решили потихоньку, осторожно, пойти вперед и через некоторое время вышли на противоположную опушку леса. Вдоль этой стороны леса мы увидели широкую асфальтовую дорогу, по которой довольно часто на большой скорости проезжали немецкие мотоциклисты и машины с солдатами.
Надо сказать, что у нас не было никакой связи с полком. Правда, мы знали, что занятие этого леса входило в задачу полка, так что через какое-то время ожидали подхода его основных сил. Через некоторое время мы увидели, как со стороны дороги в сторону фронта движется довольно большая группа немецких солдат, вооруженных автоматами и фаустпатронами. Группа была намного больше нашей большей и значительно лучше вооружена. В нашей группе автоматы были только у солдат моего взвода – бойцы роты были вооружены винтовками. Правда, в роте имелся пулемет «Максим», довольно сильное оружие. Конечно, мы не собирались вступать в бой – немцы были явно сильнее. Кроме того, они могли получить подкрепление, а мы были отрезаны от полка. Но здесь у одного из бойцов сдали нервы, и он произвел одиночный выстрел в сторону немцев. Немцы сразу начали передвигаться по направлению к нам. Мы отползли, рассредоточились и заняли позиции для обороны. Большую надежду мы возлагали на пулемет, который поставили на правом фланге. Когда немцы поднялись в атаку и, стреляя из автоматов и фаустпатронов с криками: Иосиф Трегуб 163 «Рус, болшевик, здавайс!«пошли на нас, мы открыли огонь из автоматов и винтовок. Хотя мы лежали, а немцы шли в полный рост, эффективность нашего огня в густом лесу тоже была не очень высокой. А главное, наша основная надежда – пулемет – молчал. Как потом выяснилось, произошел перекос патрона, частая неисправность «Максима» – его лента с патронами мягкая. Неисправность не очень серьезная, просто необходимо перезарядить пулемет, но на это нужно время, хотя и небольшое. А немцы успели подойти довольно близко: уже хорошо были видны их лица. Еще пара минут – и они бы достигли наших позиций. Помощи ждать было неоткуда, основные силы полка были далеко, связи с ними не было. А так как немцев у немцев было численное превосходство и хорошее вооружение, на этом бы наши биографии и закончились. Стало довольно страшно, ничего предпринять мы уже не могли.
И в это время пулемет открыл непрерывный огонь. Может быть, в густом лесу и пулеметный огонь тоже не был очень эффективен, но он создавал впечатление, что немцам противостоит большая и мощная группировка. Да и опасность поражения при непрерывном пулеметном огне была высокой. Как бы то ни было, после начала пулеметного огня немцы побежали назад и залегли. Воспользовавшись передышкой, мы быстро отошли, на пути увидели овраг и заняли в нем круговую оборону
Я рассказывал долго, а в действительности все эти события произошли в течении нескольких часов: начались утром, часов в 8, а закончились часа в 2—3 дня. Не знаю почему, но этот эпизод мне вспоминается очень ясно, как будто это было вчера, хотя с тех пор прошло более 70 лет и очень многое забылось.
Конечно, тот бой нельзя сравнить с боями на Зееловских высотах, штурмом Берлина, и тем более с боями в начале войны, но и в таком бою несколько раз мне грозила опасность быть раненым или убитым. Это и была повседневная жизнь на фронте, на войне. Если в обычной жизни насильственная смерть – значительное событие и горе, то на фронте – будни, к которым все привыкли: сообщение о том, что кто-то убит, никакого удивления не вызывает.
Когда мы обошли Берлин с севера, наша дивизия резко повернула на юг с целью окружения Берлинской группировки немецких войск. На этом пути нам встретился сильно укрепленный город Гросс-Глиннеке, где мы встретили упорное сопротивление немцев. Начались довольно напряженные бои. На пути нашего полка в районе Гросс-Глиннике находился военный городок, который мы должны были взять. Он состоял из нескольких крепких зданий; немцы организовали очень сильную оборону и отчаянно сопротивлялись. Наверное, одной из причин было то, что в городке находились семьи офицеров. Наш полк попытался взять городок штурмом, но это не удалось; немцы отбили все атаки, и полк понес большие потери. Стало очевидно, что ему эта задача не по силам. Даже если бы полк получил подкрепление, без больших потерь городок взять было невозможно. Тогда было принято решение направить к немцам парламентариев с гарантиями безопасности семьям и жизни тем, кто сдастся в плен. И немцы приняли эти условия. В плен сдались более 1000 человек. После этого нам нужно было прочесать все помещения. Это было небезопасно: в комнатах могли скрываться немцы, которые были несогласны с капитуляцией. Утром мы передали всех пленных специальным частям, в этот же день встретились с бойцами 1-ого Украинского фронта и вошли в Шпандау, западный пригород Берлина.

