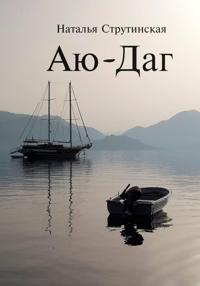Полная версия
Не нарушая тишины

Наталья Струтинская
Не нарушая тишины
Люди вообще никогда не жили без объяснения смысла проживаемой ими жизни. Всегда и везде являлись передовые, высокоодаренные люди, пророки, как их называют, которые объясняли людям этот смысл и значение их жизни, и всегда люди рядовые, средние люди, не имеющие сил для того, чтобы самим уяснить себе этот смысл, следовали тому объяснению жизни, которое открывали им их пророки.
Смысл этот 1800 лет тому назад объяснен христианством просто, ясно, несомненно и радостно, как то доказывает жизнь всех тех, которые признали этот смысл и следуют тому руководству жизни, которое вытекает из этого смысла.
Но вот явились люди, перетолковавшие этот смысл так, что он стал бессмыслицей. И люди поставлены в дилемму: или признать христианство, как его толкует католицизм, Папа, догмат бессеменного зачатия, или оставаться жить, руководясь поучениями Ренана и ему подобных, то есть жить без всякого руководства и понимания жизни, предаваясь только своим похотям, покуда они сильны, и привычкам, когда ослабли похоти.
И люди, рядовые люди, избирают то или другое, иногда и то и другое, сначала распущенность, потом католицизм. И люди живут так поколениями, прикрываясь различными теориями, сочиненными не для того, чтобы узнать истину, а для того, чтобы скрыть ее. И рядовым, в особенности тупым людям, хорошо.
Лев Николаевич Толстой, «Предисловие к сочинениям Ги де Мопассана»
Не нарушая тишины,
Скользит душа вдоль жерла мира;
Страстьми гонимая Фемида,
Касаясь лба смиренных сил,
Зерно бросает правосудья.
Судьи взыскательный указ
Покровом правды укрывает
Стремленья пламенных сердец.
Но кто судья? Защитник веры
В мятежность мстительного долга:
Законом правды он карает
отступников и дикарей.
Безмолвна исповедь сужденных,
Раскатист крик немых судей;
Покорный взгляд приговоренных
Пронзает ткань грядущих дней…
Наталья Струтинская
Пролог
Мне всегда казалось, что я буду жить вечно. Несчетное количество раз я заглядывала в жерло тьмы жизни сей, и все же мысль о смерти была мне чужда – она всегда казалась мне излишне философской. Что есть смерть, думалось мне, как не фатальное исчезновение. Всех когда-то не будет, не будет и меня, так надо жить сейчас, здесь, как увещают возложившие на себя роль гуру многие рационалисты. И я оплетала себя нитями дней, временами путаясь в самолично сотканном сплетении, и так я была увлечена этим своим занятием, что все иное – то, что обременяло мой ум размышлениями о чем-то слишком горьком, трудном для понимания и как будто таком далеком, – я отталкивала от себя, отрицала, безотчетно уверяя саму себя, что размышляй или нет, а конец всему наступит, и будет затем пустота, и не будет ни памяти, ни жизни.
Теперь же, когда смерть настигла меня, я больше уже не могла оттолкнуть ее, отказаться от мысли о ней. Смерть тянула за сотканные прежде нити, и делалось мне душно, истошный крик вырывался из моей груди, но был он нем. Густая, звенящая тишина была кругом, и не было сил, духу не было испустить этот крик.
Была метель. Сумерки делали снег серым, а ветер, подхватывая снежную крупу, взметал к небу столбы, что пронзали человеческие фигуры. Их было много. Фигуры толпились на краю железнодорожной платформы, темные, безликие, а спины их покрывал серый снег. Казалось, совсем скоро они сольются с общим вихрем, ветер подхватит их, и их не станет: они сделаются тем миллиардом крупинок, которые клубились, застилая взор.
Вечность в мгновение растянулась, сделавшись упругой емкостью, в которой бились века, сражаясь со временем. Я не могла ни размышлять о чем-то, ни представлять себе что-то, потому как не стало вдруг ни сейчас, ни здесь, а была безвременная яма, в которую я сорвалась.
Смерть, эта хищница, вечно жаждущая, льстивая, предстала внезапно, в один из тех дней, которые не должны были запомниться. И в ее исполненных тьмы глазах горел фитиль – старый дом, сожженный дьяволом…
1
Я прожила короткую жизнь. Яркую, несомненно. Интересную.
И бестолковую.
События теперь помнятся мне обрывками; летят они в бездну памяти, будто драные лоскутки. Моя жизнь похожа на сотканную неумелой рукой дорожку, которая привела меня сюда, на эту железнодорожную платформу. Здесь моя жизнь и оборвалась.
Мне было шестнадцать лет, когда я уехала из дома. У меня была старшая сестра. Воспитывал нас отец; мама умерла, когда мне было четыре года. Отец оставил этот мир четырнадцатью годами позднее. К тому времени и моя сестра Ирина, и я уже были устроены и каждый жил своею жизнью. Отец умер один в доме, который он построил собственными руками.
В последние годы дом стоял с разбитыми окнами, не осталось и внутренней отделки, двери перекосились и уже не закрывались больше, а стены, штукатурка на которых давно треснула и облупилась, стали постепенно рушиться. Дом, внушавший когда-то чувство трепетного восхищения, становился пристанищем сов и летучих мышей. Среди соседей он был известен как дом Кедриных, а проще – Кедрин дом.
Наш отец Дмитрий Кедрин был когда-то главным экономистом этого небольшого провинциального города. Будучи человеком практичным и даже едва ли не скупым, отец не стал прибегать к помощи наемных работников, а строил дом сам – вместе с женой. Дом строился долго: лепнина на стенах, массивные двери, перекрытия и внутренняя отделка – все делалось собственноручно, кропотливо, с намерением построить дом большой, крепкий, внушающий восхищение, потому как занимаемое отцом в то время положение отчего-то нашептывало ему того необходимость.
На момент моего появления на свет отцу было пятьдесят шесть лет. Наша мать была на двенадцать лет младше него. На своих дочерей отец возлагал большие надежды – он уповал на внуков, которых от двух дочерей должно было быть определенно больше трех. По причине и этих своих бесплотных надежд он строил дом большим и просторным.
Но внуков не увидел ни наш отец, ни мама, занемогшая от нагрузок во время строительства этого дома и умершая, когда мне было четыре года. После смерти отца мы с Ириной в доме не жили: к тому времени мы уже устроились, а продать дом сразу не решились – по причине ли излишней сентиментальности или же ложной скромности в части предлагаемой за него цены. Так, дом, воздвигавшийся с таким упованием и напором, был заперт и отдан в распоряжение мышам и ворам, постепенно разграбившим его.
Я боялась ехать сюда, хотя по природе своей не была робка. Страх этот порождал во мне стыд, глубокий, угнетающий. Я стыдилась себя, всей своей жизни стыдилась, и не могла исправить того, что зародило во мне этот стыд, и не находила возможным избавиться от него, но хотела, всем сердцем желала этого.
Таким я нашла родительский дом, вернувшись в него спустя семнадцать лет, – разграбленным и гнилым. В доме этом толком никто никогда не жил. Я прошла по комнатам, в которые можно было зайти, не страшась того, что пол может провалиться, поднялась по бетонной лестнице на второй этаж, обнаружила в одной из комнат табурет, оставленный здесь кем-то вместе с картоном и тряпицей, похожей на плед, присела на него и устремила свой взор на зиявшее в стене отверстие, бывшее когда-то проходом на балкон. Было темно, мартовская ночь бесстрастно глядела на маленький провинциальный город, а я смотрела на нее, на эту черневшую за стенами дома тьму, и вспоминала образ матери, совсем слабый, представляла отца, видела в далеких закромах своей памяти лик сестры и тень самой себя. Я отнюдь не предавалась лиричным размышлениям об ушедших днях – я только видела обрывки воспоминаний, которые не могли не посетить моего воображения. А спустя несколько минут я услышала лязг открывшейся двери в нижнем этаже, и этот звук мгновенно развеял все воспоминания.
Я поднялась с табурета и прошла к лестнице. Я слышала шаги внизу, шелест которых был отчетлив и даже резок в тишине позднего вечера. Шаги эти были сначала смелыми, но затем вдруг сделались осторожными, а потом и вовсе стихли.
– Эй! – крикнула я, и мой голос мгновенно отлетел от стен и больно ударил по слуху. – Это частная собственность, а ну марш отсюда! – добавила я жестко.
За этими словами последовала торопливая поступь, скрип и отдаленный шелест. А затем все стихло. Я еще недолго прислушивалась, а затем вернулась в комнату с табуретом, подошла к широкому отверстию в стене и, прислонившись плечом к холодному бетону, скрестила на груди руки и окинула взором тускло освещенную улицу, голые кривые яблони и горизонт, дремавший на темном холме.
2
Меня нарекли в честь праматери Христа – Анной. Моя мать была религиозна, а отец был атеистом, однако с предложенным матерью именем он согласился, – с иврита мое имя переводится как «храбрость». Имя же сестре дал отец – Ириной звали его собственную мать. Однако данные нам имена, в значения которых родители вкладывали какой-то свой смысл, не сыграли никакой роли в наших судьбах – наша будущность была лишена и моей храбрости, и мирности моей сестры.
Итак, в шестнадцать лет я покинула дом. По окончании медицинского училища я стала работать фельдшером в составе бригады скорой помощи. К тому времени моя сестра уже вышла замуж и родила первого ребенка, а я, не допуская мысли вернуться к отцу, с самого момента зарождения мысли о поступлении в медицинское училище стала искать возможность счастливого устройства своей жизни вне стен отчего дома.
Ирина была старше меня на три года, и если она успела познать и запомнить хотя бы каплю материнского воспитания, то я не знала матери совсем. Все, что я знала о ней, все, что помнила, было большей частью плодом моего воображения – что-то рассказывал о ней отец, что-то Ирина, и все эти рассказы стали той былью, которой никогда не было. Образ матери был списан с фотографий, собран из обрывков фраз и сочинен моей фантазией. Нас воспитал отец, никогда не дававший наставлений, но предлагавший нам сухие рекомендации, не требовавшие отчетов. Мы росли и воспитывались, опираясь на то время, в котором мы жили, и те интересы, которые внедряло в наши разумы время.
Ирина вышла замуж сразу после школы. После семи лет скитания по казармам вместе с мужем они вернулись в родной город. У Ирины было двое детей. Пожалуй, это все, что я знала о том, как сложилась жизнь моей сестры.
Ирине был присущ характер, бывший во многом полярно противоположным моему.
Тихая, скромная, едва ли не скрупулезная, она неожиданно рано для всех выпорхнула из гнезда, а через полтора года родила сына. Ирине не была присуща ни моя бойкость, ни смелость; не была она склонна к импульсивным действиям, всегда была верна своему слову, преимущественно молчалива и правильна. Так, по крайней мере, позиционировала она себя сама, тем самым внушая другим подобное мнение о себе.
Будучи подростком, я часто возвращалась домой поздно – уже под утро. Отец корил меня за это, нестрого, нетребовательно; я ласково обнимала отца, и тем наш разговор кончался. Ирина же осуждала меня, осуждала открыто и решительно. Про себя. Вслух же она не высказывала ни одного своего упрека, но я знала о том, что Ирина осуждает меня, – в дни, когда я поздно возвращалась домой, Ирина почти не смотрела на меня, говорила со мной сухо, глядела холодно. Сильны были в Ирине принципы морали, устанавливавшие в ней преграды в чувствах по отношению ко мне.
Я не была беспорядочна в ведении своей жизни, но была я непостоянна, легкомысленна в том, жила преимущественно вещественным, мало рассуждала о том, что полезно, а что вредно для меня. Я собирала в ящики своей жизни все, что встречала на своем пути, что привлекало мое внимание своим блеском, своею актуальностью, тем, что было просто и доступно для понимания. И не могла я, пытливая, живая, характерная, не имевшая в себе той морали, которой была полна моя сестра, лишенная живого примера матери и выросшая на ласковых и почти безучастных советах отца, в зените своего пылкого перехода из отрочества в юность не прикоснуться к тому, что слишком рано сделало мой ум жадно-страстным, лукаво-насмешливым, прелюбодейным. За то и укоряла меня Ирина, устройству мысли которой было противно устроение моего исполненного плутовства начала.
Но, несмотря на различия, мы всегда были дружны между собой, не возникало между нами конфликтов, не было открытых споров. Было так потому, что была Ирина умна и кротка, а я – необидчива и незлопамятна. Было так на протяжении всей нашей недолгой жизни в отчем доме до того самого дня, в который этот дом опустел.
3
Пожар случился через год после моего возвращения домой. Дом вспыхнул около двух часов ночи и к рассвету превратился в пепелище. Произошло это событие в мае, когда ночи уже были не так холодны, а рассветы не так темны.
Дом горел долго, пламя исступленно подбрасывало к небу свою пышную юбку, задевая бурыми ступнями облака, что выделялись на небе, скользя по масляному лунному свету. Когда пожарная сирена слилась с треском пламени, очертаний двухэтажного дома уже не было видно за яростным жаром огня. Тьма ночи была озарена светом стихии, бушевавшей до самого рассвета. Робкая же серость утра, окинув взором холм, обнаружила только не бывшую здесь ранее прогалину – темный след, в спешке оставленный отступившей ночью, тревожной и сбежавшей слишком рано даже для весны. Тихим было то утро, безмолвным, как безмолвен был и вечер, не предвещавший бури. И даже пожар, так внезапно и стихийно поразивший дом, как будто не нарушил этой устоявшейся здесь тишины.
Причина пожара была установлена сразу: это был поджог – кто-то изнутри облил дом бензином и бросил зажженную спичку. Меня в момент возгорания в доме не было; о случившемся я сообщила сестре утром, позвонив ей на мобильный. По факту поджога было возбуждено уголовное дело.
Ирина смотрела на развернувшееся перед ней пепелище, и я видела, что ей горько – так горько, что она не могла сдержать слез, а грудь ее лихорадочно вздрагивала. Она смотрела такими же голубыми, как у меня, глазами на обугленные руины отчего дома и тяжело и часто вздыхала, хотя и сам воздух был горек. Волосы у нее были короткие, темные, крашенные, но все же с медным отливом, как у меня. На лице не было макияжа – оно было бледным, не было на нем веснушек, подобных моим, но были эти веснушки на руках Ирины, которыми она время от времени закрывала свое лицо.
В моих глазах слезы застыли, отчего глаза мои сделались как будто стеклянными. Лицо мое было исполнено тревоги, печали и сокрушения, – лицо мое не было бледно, на щеках виднелись умело наложенные румяна, глаза имели миндалевидную форму благодаря искусно примененным теням, и только губы мои были как будто припудрены – сухи и белы. Застывшие слезы не покидали моих глаз, слова не слетали с моих губ – тогда я едва ли не впервые в жизни смолкла, затихла, будто впервые в жизни обратила свое лицо к тишине.
Многоголоса серенада дней, суетливо ее исполнение, вертляво оно и лицемерно. Но каким сладостным является это пение, каким пленяющим! И как трудно оторвать слух свой от него, взгляд свой от его исполнения, мысль свою от слов его! Все в песне той влечет к себе, все в ней привлекательно и нарядно, но только плод ее – глухота – не насыщает души, и плоть остается алчущей. И вновь взор тянется к той серенаде, вновь слух ищет ее, а мысль пленяется ею, потому как тяжела эта глухота, ничем боле не насыщаемая.
О той глухоте знают все, – она случается в минуты уныния, печали, в минуты, когда глаза, обращенные на в спешке, с болью в боку и с тяжелой отдышкой мчащиеся дни, вдруг закрываются. Это мгновение, когда человек отрывает взор свой от суеты и обращает его на себя. Тут-то и обнаруживается она – тотальная глухота.
Я знала о ней, знала о тягости ее, о скуке пребывания в ней, а потому старательно избегала ее. В продолжение своих тридцати трех лет я ни дня не проводила одна – я всегда была с кем-то, всегда мысль моя была чем-то занята, всегда взор мой был чем-то пленен, а слух обращен к чему-то. Несколько раз я закрывала глаза и натыкалась на глухоту, и делалось мне чудовищно тоскливо, так тоскливо, что жизнь тут же меркла, даже как будто исчезала совсем, делалась она безликой и бессмысленной, и вновь я стремилась занять чувства свои, заполнить пустоты, закрыть их, отвернуться от них, будто вовсе нет их. И скоро я забывала о них, скоро мысль моя вновь бежала галопом по страстям и соблазнам, находя в них единственно живительный сок, вновь жизнь делалась небессмысленной, а как будто даже появлялись какие-то цели и планы, и даже как будто они находили свою реализацию, а я – свой интерес, вкус этой жизни. И вновь громко шипело и повизгивало разноголосье дней, а тоска отступала.
Но теперь взор больше не искал ярких картин, слух не искал искаженных романсов, а мысль моя была всецело обращена к сожженным в огне упованиям и расчетам.
4
Прозвенел школьный звонок – почти сразу из дверей школы высыпала ребятня. Преимущественно это были 5-6 классы. Крепкий морозец тут же схватил бледные щеки ребят, зимний воздух тут же наполнился звонкими криками. Гул нарастал – теперь уже была слышна перемена в коридорах школы.
Мне было двенадцать. Я вышла из школы вместе с подружкой, окинула взглядом площадь перед школой, взглянув колко на бросившихся к сугробам одноклассников-мальчишек. У меня были голубые глаза, цвет которых в свете зимнего дня был особенно ярким, конопатый, маленький, заостренный носик и медная коса, доходившая мне до поясницы. Тонкие губы мои покойно алели на белом лице, которое почти не знало румянца. В отрочестве я не была красива, но была характерна, а потому привлекала внимание ребят.
Миновав школьный двор, мы с подружкой остановились у ворот и долго прощались, болтая о ком-то и что-то пытливо обсуждая. К тому времени, когда мы, наконец, разошлись, на площади перед школой не осталось никого. Я свернула на тропинку, что была коротким путем наверх, к дому. Тропинка шла вдоль школьного забора, между рейками которого просматривался задний двор.
Мое внимание привлекла возня у школьной стены. Мельком обернувшись, я увидела своих одноклассников – их было трое. Двое, задиристо что-то высказывая, прижимали к стене третьего. Я остановилась. Недолго размышляя, я развернулась и побежала обратно к школьным воротам.
Я торопилась. От бега и холодного воздуха у меня жгло гортань. Когда я завернула за угол школы и приблизилась к ребятам, все трое уставились на меня.
– Отстаньте от него! – бросила я, с вызовом взглянув на ребят, на лица которых почти сразу вернулось прежнее выражение жестокого довольства. Третий парнишка, прижатый к стене, худощавый, темноволосый, круглыми глазами растерянно смотрел то на своих обидчиков, то на меня. – Чего привязались?
– Иди отсюда, – шепнул один из хулиганов, отвернувшись от меня. Губы его при этом расплылись в ухмылке, исполненной замешательства. Он коротко взглянул на своего приятеля.
Тот сделал шаг в сторону, и я увидела в его руках перочинный нож.
– Так вы любовнички, да? – театрально расхохотался он. – Анька влюби-и-илась!!!
– Дурак же ты! – поморщилась я.
– Вали-ка, – повторил первый хулиган, – а то тоже получишь!..
– А давай, – сказала я, подошла к хулигану, отпихнула его и заслонила собой худощавого мальчика. – Давай! – с вызовом повторила я, впившись холодным, твердым взглядом в глаза парня.
Тот растерянно уставился на меня.
Второй же мешкал недолго. Вернувшись на свою прежнюю позицию, он направил лезвие ножа к моей правой руке и зацепился его острым кончиком за ткань моей куртки. Я бесстрастно следила за его действиями, не шелохнувшись от этого прикосновения. Кончик ножа двинулся вниз, сделав небольшой разрез на рукаве.
– Еще хочешь? – лезвие ножа вдруг оказалось у самого моего лица.
– Давай, – не изменила своей бесстрастности я, прямо глядя в серые глаза парня.
– Да ну их, – выплюнул второй. – Пойдем отсюда. Пойде-ем! – повторил он, заметив, что его приятель медлит.
Небрежно и неумело сплюнув, парень убрал от моего лица нож и отступил.
– Никому ни слова, поняли? – угрожающе проговорил он.
Ни я, ни парнишка за моей спиной ничего не ответили. Хулиганы ушли. Я обернулась к мальчику.
– Идем домой? – обратилась я к нему.
– Спасибо… – сказал он мне едва слышно.
Я кивнула, принимая благодарность. Парнишку звали Володей Мещерским. В классе он был одним из тех, кто подвергался насмешкам и даже насилию. Тихий, молчаливый, сообразительный, он был слабо развит физически, никогда ни с кем не вступал в спор и никогда не отвечал на выпады. Мне всегда было жаль его: этот мальчик пробуждал во мне какое-то материнское стремление защитить. И я защищала его, защищала открыто, с вызовом, не страшась риска впасть в опалу.
В шестнадцать лет Мещерский признался мне в любви – так чисто и искренне, что это его признание даже зацепилось за мою память и стало подобием примера того, как звучат слова настоящей любви. Признание это сделалось шаблоном, на который наложились многие и многие другие. С того дня прошло семнадцать лет. О Мещерском я почти не вспоминала.
5
Он стал мне сниться в последние пару лет. Почти каждую ночь я видела во сне его: ему шестнадцать, темноволосый, длиннорукий, худощавый. Он говорил со мной, смотрел на меня; я слушала, касалась его невзначай. Событий снов я не запоминала, а только помнила его – Володю Мещерского и его любовь, бывшую фантомом.
Я любила многих мужчин. Любила с той животной страстью, которую только может пробудить в женщине горячее мужское тело, уверенные прикосновения, губы и жесткая щетина, которая обрамляет их. Я любила со всей самоотдачей, которую могла найти в себе. И я упивалась тем ответом, который встречала, – таким же страстным, пылким, лишенным всякой застенчивости, цинично откровенным.
Я не была моралисткой, – я была из тех женщин, которые ищут, увлеченно и самозабвенно ищут путь к устройству своей жизни, успешному, счастливому устройству, благополучному и обеспеченному. Я не была меркантильна – я была влюбчива, но любила я только тех мужчин, которые были сильны духом, смелы, красивы. Я любила в них то, что могла видеть, а о том, чего видеть я не могла, я не размышляла, а потому жизнь моя пестрила встречами и разлуками, а моя сестра была полна неодобрения – я, по ее мнению, была распутна. Но я долгое время не знала об этом своем определении, данном мне сестрой. И обществом.
В юности я составила негласный список целей, которые я непременно должна была воплотить в жизнь: я хотела уехать из этого провинциального городка, я хотела быть желанной и я хотела иметь все то, что я могла желать.
С главврачом военного госпиталя Алексеем Климовым я познакомилась накануне нового года. Ему было почти сорок лет. Широкоплечий, темноволосый, с крупными скулами, тонкими губами и высоким лбом, он не был красив красотой классической, но был красив красотой мужской, грубой, статной. Сердце мое забилось в первое же мгновение нашей встречи и больше уже биения своего не унимало.
Климов был старым другом главврача нашей районной больницы и, приехав на несколько дней в родной город, зашел в нашу больницу, чтобы навестить приятеля. Я закончила дежурство и задержалась, разговорившись с одной медсестричкой. Проходя мимо нас, Климов поздоровался и уточнил у нас номер кабинета главврача.
Климов обратил свой взгляд на меня, и мне страстно захотелось завоевать этот взгляд – прямой, притягательный, острый.
Разговор между нами завязался не сразу, а только спустя почти полтора часа, которые я провела в ожидании Климова. Вновь встретились мы у зеркал в холле первого этажа, разговор наш был непродолжителен и краток, но плодом его был номер телефона на клочке бумаги, который я дала Климову.
Климов позвонил мне в обед следующего дня и предложил встретиться – я ответила согласием. Случилось наше свидание в небольшом местном ресторанчике. Я была обаятельна в своем кремовом атласном платье, Климов – серьезен и лаконичен в речах. После ужина мы съездили к реке, причал на которой был тускло освещен, совершили недолгий променад, а после Климов отвез меня в общежитие, в котором я в то время жила.
Мне не пришлось долго прокручивать в памяти сцену нашего страстного прощания, исполненного упоительных прикосновений и сладостных вздохов. Сцена эта повторилась уже через несколько дней, но кончилась она не прощальным автомобильным гудком, а рассветом, который был наполнен ароматом хорошего мужского парфюма. Наша первая ночь случилась быстро, она была прекрасна, она утвердила меня в той мысли, что Алексей Климов должен стать моим.