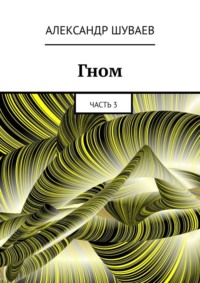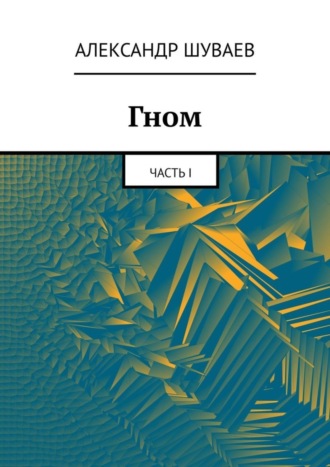
Полная версия
Гном. Часть I
– А триста комплектов можете?
– Не знаю. Наверное, можно, если придумать – как.
Больше всего начальству, – не приезжему, для которого Саня был безымянным шпынем в спецовке, а местному, насквозь родному, – нравилось то, что Саня никогда ничего не требовал под предлогом особой важности очередного почина или же собственной незаменимости. Он просто-напросто никогда не воспринимал новую работу, как что-то особенное. Была, есть и будет. Работа есть работа. Принципу «сделать» отдавалось явное предпочтение перед принципом «заказать, подать заявку, выбить, дождаться». Поэтому он брал, что ему требуется, не больше, и не меньше, привлекал к работе тех, кого нужно, по мере необходимости, основную работу делал сам, благо оснастки у него теперь хватало, а начальство воспринимало это, как нечто само собой разумеющееся. Вроде того известного факта, что из зернышек естественным образом вырастают колоски и прочие полезные злаки, вне зависимости от точного знания, как они это делают.
Это было не очень хорошо, потому что руководство так и не выучилось считаться с ним, как считаются с человеком и личностью. Никто не позаботился о том, чтобы дать ему оклад побольше, отдельную комнатку в общежитии или профсоюзную путевку в заводской дом отдыха.
Это оказалось очень хорошо и весьма кстати потом, потому что, когда началось, и хватали уже всех встречных и поперечных, как бы желая выполнить какой-то свой, зловещий Встречный План, никому и в голову не пришло арестовать Саню Беровича, как не пришло бы в голову арестовать, к примеру, распределительный щит, карусельный станок или сварочный аппарат. Так, – возится в темном углу что-то такое невзрачное и почти бессловесное, какое-то серое чмо в спецовке, «тыбик» за все… громкое дело из него никак не выжмешь. Но это было потом, аж несколько лет спустя. А пока у него была новая заковыка.
– Кто еще имэет, что сказать? Товарищ Ворошилов?
Вопрос был задан больше для проформы, теперь, когда миновало без малого полтора года войны, Клим был, казалось, надежно отучен лезть со своим мнением, когда серьезные люди обсуждают серьезные вещи, но этикет должен быть соблюден. Его должен соблюдать даже тот, кто выше любого этикета, и как бы ни в первую очередь. Маршал, сидишь здесь, значит – одно из последних слов твое по праву. Другое дело, что товарищи вправе ожидать, что ты все понимаешь и поэтому от слова откажешься, дабы не отнимать времени у занятых людей. Но он, пожевав губами, вдруг поднял на собравшихся привычно опущенные глаза и набрал воздуху:
– Вот я тут, товарищи, хочу обрисовать обстановку и спросить, правильно ли я ее понял? Это что ж значит, – он неожиданно хихикнул, – немцы теперь не могут быть уверены ни в какой своей обороне? Будут бояться, что мы прорвем ее в любом месте? – Паузы он не сделал, и, может быть, именно поэтому никто ему не возразил, а он продолжил. – Немцы под Сталинградом влипли крепко, сами не вырвутся. Так? Манштейн дернул было 4-ю танковую армию на выручку, но следом же дал отбой, потому что Калининский фронт в шестидесяти верстах от Смоленска, а разгромить его им не удалось. Георгий Константинович, – говорят, вы там этой самой хваленой «Великой Германии» крепко всыпали*, а?
– Поймали на марше фузилерный полк. Не уцелел, практически, никто. Второй случай за всю компанию. В прошлый раз был танковый полк из того же 41-го танкового корпуса немцев, только из дивизии попроще.
– Вот и я говорю: не придет шестой армии серьезная помощь. Сдохнут они в котле. Казалось бы – всем хорошо, можно войска снимать, направлять в другие места, шутка сказать, шесть армий. Так? Так, да не так! Вот товарищ Сталин…
Желтые глаза вышеупомянутого пристально уперлись в старого друга и соратника. Ба, Валаамова ослица заговорила! Что это с ним?
– … учит нас не допускать самоуверенности и верхоглядства. Этим летом германцу удалось крепко наказать нас за эти грехи. Я так понимаю, что нам после этого требуется, чтоб немец сложил оружие, чтоб никаких поводов для брехни не осталось бы. Если их не штурмовать, то сдыхать они могут слишком долго. Кроме того, а ну как, кинься они, к примеру, на прорыв, это что ж выйдет-то? Четыреста километров по степи, без еды, без горючего, под бомбежками, они, понятно, не пройдут. К своим выйдет много, если один из десяти, или того меньше, зато шуму-то, шуму будет, особливо если часть штаба и штандарт вывезут! Опять русские обо… обмишулились, косорукие, упустили Паулюса, а тот сидел, как кот под чугуном, это ж надо быть такими тупицами? Нам сейчас нужна победа, которая не вызывала бы вопросов, потому что на нас союзники смотрят. Так? Так, да не так! Слишком бояться-то тоже вредно…
– Харошё, – раздраженно прервал его Сталин, – и что ти прэдлагаешь?
– Предлагаю, поскольку на деблокаду немцы не решились, действовать по первоначальному плану товарища Василевского, то есть окружить в излучине Дона 8-ю итальянскую и 3-ю румынскую армии. Это, кстати, сделает положение Паулюса вовсе безнадежным, а войска все-таки будут поблизости. А вот прорыв на Ростов, – его-то, как раз, и обозначить. Мы боимся, – так и они боятся! После Сталинграда-то! Так пусть и бегут с Кавказа бегом, зимой, заместо правильного отступления. Если их подогнать хорошенько маневром на Ростов, – побегут, никуда не денутся. Послать абы кого, можно даже без вооружения, лишь бы с воздуха выглядели колонной на марше. Побегут уже после окружения итальянцев с румынами, а уж если сделать этакий выпад на Ростов и дальше к Азову, то начнется настоящий драп. Такой, что останется от них в конце треть, да еще без тылов и тяжелого вооружения. Будет у нас и знак, – сдались немцы под Сталинградом, тридцать три дивизии! – и дело, потому как весь южный фланг у них – рухнет разом, они даже не успеют прикрыться Днепром. Ну, а уж если их удастся прищучить на Кавказе…
Он как-то по-женски развел руками и сел без особых церемоний. Ему не сделали замечания. Похоже, его невежливости вообще никто не заметил. В помещении воцарилось тяжелое молчание.
– Так. Больше никто не желает высказаться? Нэт? Тогда я скажу. Ми могли бы поддержать предложение товарища Ворошилова, если он скажет, кто может организовать эту его дэмонстрацию? Или он предложит… свою кандыдатуру?
– А я, – с достоинством сказал старый маршал, – человек военный. И о партийной дисциплине тоже не забываю. Скажут, – так пойду в степь. Только полагаю, что здесь нужен военачальник с особым опытом и складом, умеющий быстро мобилизовывать гражданское и прочее население и превращать его в войска. Поэтому лучшей кандидатурой считаю, конечно, генерала армии Апанасенко.
– Кто еще? Иосиф Родионович нужен нам… на своем месте.
– Боюсь встретить непонимание, товарищ Верховный Главнокомандующий, а только я считаю, что в этом сложном, требующем незаурядных организаторских способностей деле обязательно должен участвовать товарищ Хрущев.
– Хорошо. Ми тут посоветуемся и примем решение. Все свободны. Товарищ Жюков – задержитесь нэнадолго.
*«Великая Германия», вопреки довольно широко распространенному мнению не относилась к СС. Элитная часть вермахта. Является своего рода индикатором того, чем на самом деле, в ТР, была операция «Марс». В СССР о ней помалкивали, т.к. победой это назвать невозможно. В раннем постсоветском периоде был распространен черный миф о том, как Жуков гнал людей на убой, по снегу на пулеметы толпами, а немцы только постреливали, не неся никаких потерь. Так вот, в ходе «Марса» эта элитная дивизия играла роль пожарной команды, затыкала бреши около десяти раз, и потеряла почти половину списочного состава: немцы тоже не слишком-то хвастают ходом той битвы, во время которой не раз находились на грани катастрофы.
– Когда прикажете приступать… к подготовке операции?
– А ти еще нэ приступил? Тогда вчера, Никита. Вчера.
Для того, чтобы добиться цели демарша, нужно было, чтобы немцы, как бы они ни были напуганы катастрофой под Сталинградом и не имеющим конца, затянувшимся ужасом, кризисом на грани катастрофы на центральном участке фронта, все-таки поверили в грандиозную мистификацию. Даже если допустить, что разведка немцев в таких условиях будет неизбежно поверхностной, это обозначало, что колонна должна быть достаточно масштабной. Она должна двигаться со скоростью, которая создавала бы по крайней мере видимость потенциальной угрозы. Там должна быть какая-никакая техника, поскольку без этого толпу попросту не воспримут всерьез, а уж это сверху было проверить легче всего. В отличие от всего прочего. Машин – не дадут, на это был сделан более, чем прозрачный намек. И это слишком понятно, потому что грузовики были нужны позарез везде, а на центральном участке фронта – этот самый «позарез» был тройным.
Вошедшие в раж войска двух фронтов, кажется, поняли смысл жизни: «чем быстрее рвешься вперед, тем меньшее сопротивление тебе оказывают, тем больше шансов остаться в живых Лично У Тебя» – и поэтому спешили, чтобы как можно дольше сохранить состояние «чистого» прорыва. Но при этом их было явно маловато, для того, чтобы воевать «по науке», местность не способствовала быстрому продвижению, тылы неизбежно отставали, а люди – уставали сверх человеческих возможностей. Засыпали за рулем или рычагами, просыпаясь от того, что въехали во впереди идущую машину или в ствол дерева. Засыпали на ходу, убредая в сторону, и замерзали, если их не успевали заметить такие же бедолаги, бредущие рядом. Случалось, правда, нечасто, и совсем страшное: боец молча падал и умирал, как будто в него попала пуля.
Единственным выходом тут было то, что составляет самый принцип фехтования: острие шпаги – всего лишь сияющая точка, но застилает непроницаемой завесой все пространство, ее не обойти и от нее не загородиться, в ней сфокусирована вся жизнь и вся смерть, что разлиты в мире. От этой точки уходят, уворачиваются, отступают всем, таким громоздким и инертным, телом, ее отбивают, используя всю силу рук. Поэтому из основных сил формировали подвижные соединения смешанного состава, отдавали им все, потребное для боя, и они неслись вперед со стремительностью того самого острия шпаги, чтобы не нарваться на лезвие такого же боевого соединения, а пронзить мягкую плоть спешащих в походном порядке к прорыву резервов, штабных колонн, тыловых частей, обозов, ремонтных баз. Основные силы спешили вдогонку, заполняя захваченные плацдармы, поспешно, но все-таки недостаточно быстро накапливая материалы и силы на то, чтобы либо – пополнить и снабдить ударные части, либо – выделить новые вдогонку – или взамен предыдущим. Царство, конечно, небесное. Такой способ боя вообще очень хорошо выражает русское: «Пан или пропал». Либо – успех, либо полная гибель. За эти страшные недели и генералы, и солдаты научились не то, что понимать, а прямо-таки чувствовать: остановишься – и через четыре-пять часов упрешься в оборону, которой не было еще вот только что, остановишься еще дольше, – и оборона уплотнится, сделавшись непробиваемой, остановишься намертво, – и не выживешь, потому что уже на тебя обрушится удар с той стороны, с какой будет угодно Вражине. У которого, кстати сказать, здесь и сил-то, в общем, побольше. И не столько разум даже, сколько это самое чутье порождало тактику, как нечто насущно-необходимое и вполне естественное, очевидное. И все чувствовали, и почти все понимали, что долго такое продолжаться не может, и поэтому оттягивали миг неизбежной неудачи особенно отчаянно. Справедливости ради надо сказать, – практически с первых дней отчаянные выпады подвижных конно-механизированных групп оказывались подозрительно успешными, как будто командование действовало по-настоящему навзрячь. То обстоятельство, что за облаками днем и ночью, изредка сменяя друг друга, кружили огромные, медлительные, почти бесшумные «Т – 6», которых теперь в распоряжении двух фронтов было теперь аж восемь штук вместо прежних двух, было известно только фронтовому командованию…
Кто-то изрек некогда: танковые части, – не острие, пробивающее панцирь. Они яд, который впрыскивают в открытую рану. В этом есть своя мудрость, но так бывает редко и совсем, совсем недолго, потому что на самом деле танковые части без артиллерии и, главное, хорошей (и хорошо «осаперенной») пехоты долго не живут.
Поэтому все, что было способно мало-мальски поспевать за танками, ценилось на центральном участке фронта не то, что на вес золота, а прямо-таки на вес жизни.
Так что взять их неоткуда, и не дадут. В той коллекции сложностей, что сложилась в голове прямо сейчас, навскидку, присутствовала также проблема «накормить», – а то попросту не дойдут. Зато не было проблемы «вооружить», поскольку оружия этой большой Непервомайской демонстрации не полагалось прямо-таки по статусу. Ай, Климушка, сукин сын! Нечего сказать – удружил, мерзавец! Ну не может быть, чтоб он это все сам! Молчал-молчал, сопел себе в две дырки, ни во что не вникая, – да и высказался вдруг? Так не бывает! Провалиться на этом месте, если дело обошлось без негодяя Берия… А что, если и его замазать в это дело? А чего терять? Либо – не откажет, и все будет в порядке, либо – откажет, и тогда окажется виноват. Ничего, Лавруша, не мне одному прыгать, ты у меня тоже попрыгаешь, запомнишь, каково подлянки-то кидать! Но это с людьми. А со всем остальным как?
Прототип IV: образца 36 года.
Теперь он привлекал к делу Карину и в тех случаях, когда приходилось делать что-то новое. Она неизменно справлялась, если только полученное от него задание было более-менее определенным. Сейчас, получив вроде бы нереальное задание удвоить производство, он, на самом деле, мог бы пойти простым путем: набрать еще девчонок-закладчиц и увеличить количество емкостей. Это, кстати, было вполне реально, первые его подручные, те, что исподволь становились Старой Гвардией, неоднократно докладывали: просятся, – но он неизменно отмалчивался. Чутье, отчасти данное ему подросшей Инструкцией, или Инструкция, подросшая за счет невыразимого словами опыта, не позволили ему идти по пути наименьшего сопротивления, как будто намекая: главное – это чтобы как можно меньше зависело от наличия квалифицированных рабочих. Наступит время, придет пора и для призыва, уже по-настоящему массового, вот тогда-то и скажется по-настоящему то, что он придумает и сделает сейчас.
Так что пока он решил сделать оснастку, которая умела бы точно отмерять, чтоб вот этого – столько, а этого (тогда) столько, а вот этого – полстолько. Поначалу задача показалась ему несложной, он даже представил себе, – хотя и знал наперед, что это глупость, и на самом деле все будет по-другому, – как сразу множество автоматических пипеток одновременно ныряют во все нужные емкости сразу, и забирают ровно столько, сколько нужно, в зависимости от конкретной закладки, да… Вот только соотношение веществ в зависимости от объема менялось. То, что по-научному называлось зависимость, носило нелинейный характер. По сложившейся привычке Саня, когда головы не хватало, привлек к решению задачи руки. А еще – грешный свой язык, и гондобил что-то, бормоча себе под нос бессвязные, бессмысленные речи. Тот, кто плохо его знал, мог бы решить, что Саня, наконец, рехнулся на почве исполнительской дисциплины, но те, кому надо, знали его неплохо.
– Херней страдаешь, – вежливо обратился к нему Владимир Яковлевич, которому донесли о происходящем в подробностях и красках, чуть только не повизгивая от радостного возбуждения, – Саня? Чей-то тут у тебя?
Берович, как мог, попытался самыми простыми словами довести до патрона суть проблемы и характер затруднений, заранее ожидая, что объяснить не получится. И увидел вдруг, что конструктор, поначалу напрягшийся, постепенно расслабился, и лицо его при этом выразило нечто вроде легкого пренебрежения. Владимир Яковлевич был на самом деле и талантливым, и хорошо образованным инженером. О тех самых «тепловых двигателях» он знал если и не все, то очень, очень многое.
– А! – Сказал он. – Кулачковый вычислитель. Им еще, помнится, уже при царе Горохе паровозники пользовались…
Слово «паровозники» он произнес с непередаваемым выражением, передающим всю меру его презрения.
– А где прочитать?
Прочитанное воодушевило и вызвало неподдельное уважение, но Саня не был бы самим собой, если б не нашел в конструкции механизма множества недостатков. Излишней сложности, лишних деталей, той странной зашоренности мысли явно же умнейших создателей вычислителя, что так и не позволила им прямо следовать сути задачи. То, что он сам собирался сделать что-то вроде, только хуже, равно как и то, что отказался от этой идеи, познакомившись с тем, как это делалось до него, не смутило его нисколько. В то время он вообще меньше был склонен к рефлексии и не задумывался над подобными проблемами. Ему хватало своих. А тут все стало на свои места: воображать надо было в шестеренках и стерженьках, а вот делать, – непременно в токе. «В токе» он воображать пока что не умел, но сразу же стал прикидывать, как бы подобное могло выглядеть в Похоронке. Со временем и это умение тоже стало неотъемлемой частью Инструкции.
Надо сказать, что историю аналоговых вычислителей на 17-м, а затем на 63-м заводе можно считать чем-то совершенно уникальным. Особой главой в истории техники. Ничего не зная о первых опытах с цифровыми ЭВМ в США, о концептуальной идее перехода на двоичный код, на заводе-комбинате-комплексе развивали себе и развивали аналоговые устройства. Их усложняли. Совершенствовали. Сумели придать значительный универсализм за счет ряда оригинальных технических решений. Довели до высокой степени миниатюризации за счет совершенствования элементной базы. Ряд устройств стал настолько совершенным, что уже к пятидесятым годам позволил внедрить в практику строительства крупных самолетов т.н. «счетно-плазовый метод» и, буквально, революционизировал проектирование вообще. Потом, с триумфальным шествием Цифры, достижения в этой области были как-то забыты техническим сообществом. Они могли бы так остаться достоянием историков техники, но потом выяснилось, что многие, многие задачи, которые не удавалось решить на цифровой технике с «классической» архитектурой, на самом деле решены более десяти лет тому назад. Нашлись люди, бывшие выше любых предрассудков, которые предприняли вроде бы безнадежную попытку объединения двух подходов. Было создано несколько вполне практичных устройств «химерного» типа для решения узких задач. А потом возникла концепция «обобщенного числа"*. Такого, у которого разряды имеют право иметь разную «емкость». Авторы утверждали, что любые проблемы, связанные, например, с реализацией полноценного искусственного интеллекта можно свести к элементарным действиям с такими экзотическими «числами», но проверить это было практически невозможно. И тогда оказалось, что чуть-чуть измененные «химеры» подходят для этого как нельзя лучше. Так произошел Великий Синтез, значительно изменивший наши представления о природе информации.
А пока Сане казалось, что уже второй год подряд он делает одно и то же, в сущности, вовсе несложное дело: для того, чтобы выполнить возросшее в десять, в сто раз задание, выдумывает и делает «на коленке» оснастку. Та оказывается очень даже пригодной, и его заставляют делать еще. Постепенно оказывается, что он занят этим делом постоянно и почти круглосуточно, работа становится все более успешной и все более рутинной. Он придумывает, как поставить на поток и «это дело», и просит под него еще людей. Тех самых, которые благодаря его плодотворной деятельности освободились на других производствах. Таких оказывалось, порой, очень немало. И не все его любили из-за хлопот, которые он доставлял таким манером доставлял достаточно регулярно. Но бить все-таки так и не решались. В результате зачастую как-то само собой возникало новое производство.
Чахлый инструментальный цех, одно название, что цех, становился чуть ли ни самостоятельным заводом, а Яков Израилевич теперь дирежировал, по сути, целым училищем, за глаза именуемым «клумбой» за то, что обучались там почти исключительно девушки во-первых, и за их манеру держаться этакой тесной стайкой, прижавшись друг к другу, во-вторых. По мере расширения производства неизбежно возникали новые нужды, Беровича неизбежно привлекали для ликвидации «узких мест» производства или же поставок, он – налаживал выпуск недостающего, постепенно на вспомогательный источник тех или иных деталей и техники начинали смотреть, как на основной, производство из «кустарного» становилось полномасштабным, иногда более, чем солидным, и цикл повторялся. Хотя в те времена этот принцип, эта схема его воздействия на мир еще только складывалась, находились в процессе становления, не стали явной закономерностью.
Саблер, одетый по летнему времени в чесучевый костюм, в шляпе цвета яичной скорлупы на голове, с палочкой в руках и неизменной улыбкой на круглом лице приходил к Сане каждый раз, как только намечался выпуск нового изделия, – узнать, чему теперь придется учить «этих шкиц». Выслушивал, молчал около минуты, прикрыв глаза и набирая побольше воздуху, после чего начинал скандал. Беровичу оставалось только удивляться, каким образом этот старый человек, зачастую ничего не понимая в сути технологического процесса, почти всегда оказывался прав. Он требовал, чтобы все сводилось к простейшей инструкции, «которую может выполнить любой болван». Говорил, что ничего и не хочет понимать, потому что мир состоит из дураков, и то, чего нельзя делать без понимания, не годится для массового производства прямо-таки по определению. И он добивался своего, инструкция приобретала формулировку, ни в одном пункте, ни на одной стадии не подлежащую двоякому толкованию. Он воспитанниц своих он требовал просто-напросто безукоризненности, и поэтому изгонялись не только откровенно неаккуратные, но и те, кто хотя бы раз позволил себе схалтурить, сделать хуже, чем мог. Зато те, кто выбивался из общего строя в другую сторону, показывая умение действовать в неоднозначных ситуациях, «выводились за скобки» в качестве зеленого сырья будущих руководящих кадров, к ним начинали присматриваться. Ни Беровичу, ни тем более Саблеру и в голову не приходило показывать свое особое к ним отношение, потому что такого рода качества были и опасными, и перспективными одновременно. Потому что в армии нет ничего нужнее, чем хороший сержант, и нет ничего опаснее, чем держать в рядовых готового сержанта. Нет и не может быть никаких бунтов и беспорядков там, где все неформальные лидеры становятся по совместительству формальными. К сожалению, такого рода возможность не всегда присутствует, и поэтому империи время от времени с грохотом рушатся. Других причин, в конечном итоге, нет.
*Примером может служить иерархическая классификация любых природных объектов: «тип» может содержать шесть «классов», а «класс» – двадцать отрядов. С этой точки зрения системы исчисления, в которых разрядная единица содержит фиксированное количество «младших», – тысяча – сотен, сотня – десятков, – есть только частность.
– Сергевна – выручай. Все понимаю, знаю, что не можете, верю, что как на фронте, – а надо.
– Товарищ член Военного Совета, мы, кажется, и так никогда не отказывали ни в чем. Все, что в наших силах. К чему просьбы-то?
– А, – с непобедимым простодушием ответил Хрущов, – к тому, что приказать-то я тебе никак не могу… Это теперь, с прошлого июля только Верховный и может, а всем остальным – ни-ни. Потому и прошу, что больше помочь некому.
– Товарищ Хрущев, вы меня пугаете. Скажите, что за беда, и все, что зависит лично от меня…
Он вкратце объяснил суть чудовищного мероприятия, возложенного на него высшим руководством и добавил:
– И что за люди-то? Одни ноги, да и те слабые. Все полягут, и дела не сделаем, и не отмолим никогда! Ну ты же комсомолка!
– Н-нет, – она потрясла головой, не думая, что собеседник никак не может увидеть ее жеста, – парторганизация запретила давать рекомендацию. Да я с тех пор и не настаиваю. Некогда, по правде говоря.
– Что? А-а-а… Я сам потом дам рекомендацию, лично. Выручишь?
Она задумалась. Этот – был, вроде как, один из всех прочих среди приближенных товарища Сталина. Не менее подл, чем кто угодно, и поподлее многих. Такой же душегуб, и в крови по макушку лысой головы. Но присутствовал тут и нюансик, особенность. Будучи негодяем, и, по негодяйству своему, душегубом, он не был злодеем. Приспособленец, как все в сталинском окружении, он мог пролить реки крови ради карьеры, места и уж, тем более, ради того, чтобы обезопасить собственную шкуру. Но ему это не нравилось. Будь его воля, он, пожалуй, не убивал бы. Будучи, пожалуй, не менее подл и аморален, нежели те же Ежов, Мехлис, он не был, в отличие от них, посланцем абсолютного зла. С другой стороны, он был хуже их тем, что убивал, ведая, что творит, ни на минуту про то не забывая. Ближний круг Беровича разбирался в людях хоть и своеобразно, но точно, не валя в одну кучу даже негодяев, не забывая о тонких отличиях между ними. Этот – мог сделать доброе дело просто так, по убеждению и без выгоды, если оно, понятно, никак не мешало ему лично.