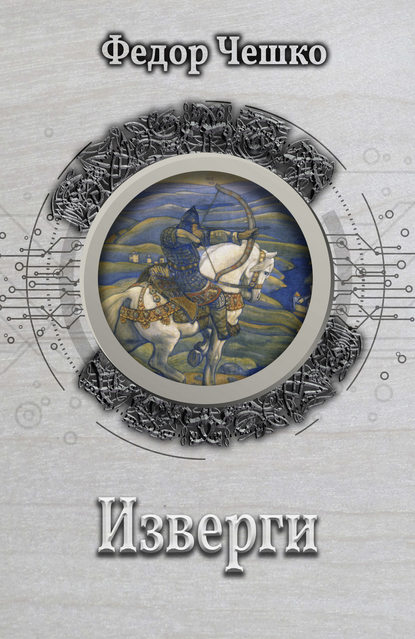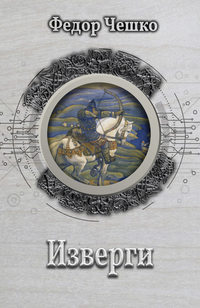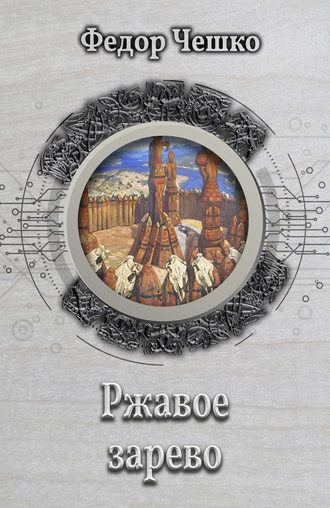
Полная версия
Ржавое зарево
Горюта засучил пятками, отодвигаясь от озверелого зятя; торопливо и не без опаски ощупал подбородок – и так росло на нем редковато, а тут еще проклятый вятской ведмедь кажись выдрал изрядный клок… совсем лишил мужской красы… сволочуга…
Кудеслав же, морщась, рассматривал то место на кровле, которое успел "починить" Векшин родитель.
– И ты же еще смеешь других неумехами обзывать! – Мечник попрежнему говорил вполголоса, лишь для тестевых ушей. – А сам ты на что годен? Хозяйство твое в запустении, избенка того и гляди обрушится, семейство кормится не твоею заботой – трудами сынов-рыболовов да вот еще с недавней поры Векшиным наузничеством… От тебя-то какой прок на этом подворье?! – Казалось, будто Мечник не слова произносит, а плюется. – Да ежели ты, к примеру, завтра подохнешь, домочадцам твоим от того немалое облегчение выйдет…
Горюта (которого, кстати, это "завтра подохнешь" пробрало нешуточной дрожью), попытался что-то сказать, но Кудеслав отмахнулся от него, словно от докучливой мухи.
Отмахнулся, а потом оборотил лицо к терпеливо мокнущим под стеною Векшиным братьям. Ох же и заклевал отщепенец сынов! Ведь работящие, дюжие, сноровистые, а глянешь иной раз на эти угрюмые лица да пустые глаза… Полудурки какие-то, а не мужики. И не женаты оба, хоть старшему, поди, уж под три десятка…
Впрочем, Кудеславу вон крепко ЗА три десятка, а давно ли он сам?..
Ладно, все это мысли вздорные; нынче они не к месту.
Мечник улыбнулся и сказал по-обычному:
– Слышьте, мужики, вы еще чуток поскучайте. Я тут кой-чего подправлю, а потом снова будете вязанки подавать – мне.
– А я что буду?.. – начал было Горюта, но Кудеслав его перебил:
– Ты, тестюшка почтенный, отдохни покуда. А то все сам да сам – намаялся, поди, утруждаючись для нашего блага!
Это было сказано громко и услышано всеми. А вот то, что Мечник добавил после, слышал один Горюта:
– Пшел вон! И чтоб я тебя хоть до завтрашнего утра не видел!
3
Дождь шел девять дней. Он то притихал, то крепнул; то прикидывался оседающим туманом, то злобно хлестал прутьями ливневых струй тусклую муть реки, раскисшую землю и все, что только можно найти на земной и речной поверхности.
Утро десятого дня выдалось неожиданно тихим. Ветер, бывший неразлучным спутником дождя, угомонился, и сам дождь тоже угомонился. А тяжкие плотные тучи словно бы изветшали; их бесконечная угрюмость расселась прорехами ослепительной выполосканной синевы.
Жеженю удалось выбраться с хозяйского подворья лишь когда заметно утомившийся Хорс миновал уже две трети своего дневного пути. Как-то так получилось, что Чаруса вдруг решил вспомнить о существовании своего закупа и прямо спозаранку принялся вымучивать его бесконечным множеством всяческих мелких поручений. Словно бы и впрямь Жежень всего-навсего неумеха-подручный, пригодный лишь на тасканье воды и вздувание горна!
И вот ведь обидно: Чаруса же впрямь будто напрочь позабыл о Жежневом существовании с того самого дня, когда парень окончил работать заказанный ямьским головою серебряный светоч, перепил браги у клеевара Гостюхи, обозвал Чарусиху сукой, уснул почему-то в кузне и почему-то зарывшись в кучу всякой всячины, а снилась ему тогда такая жуть, что нет ни малейшего желания даже пытаться вспомнить подробности.
Вот с того-то дня до самого нынешнего утра Чаруса Жеженю слова единого не сказал. Что там слова – при случайных встречах он на своего закупа глядел так, будто тот не человек, а пустое прозрачное место.
А встречи впрямь бывали только случайными.
И нечастыми.
Старик взял за обыкновение уединяться в кузне. Временами из-за плотно притворенной двери раздавались частые удары металла о металл – так могло продолжаться с утра до вечера (а иногда и с вечера до утра); временами через дыру в кровле и сквозь всевозможные щели сочился тяжелый сизый дым – Жежень только диву давался, как старик управляется водиночку, и как исхитряется не удушить себя, вздувая горн при накрепко затворенных оконницах.
Чаруса обходился без помощи, злобно гнал прочь жену, пытавшуюся носить ему в кузню съестное, а когда изредка выбирался из затворничества, домочадцы шарахались от его мрачного закопченного лица и не по-людски пустого взгляда.
Жежень решил, будто хозяин пытается самолично, даже без намека на чью-либо помощь, сработать что-нибудь ЭТАКОЕ: чтоб, значит, самому себе доказать, что он умелистее своего не по сопливым летам нахального закупа. Только, судя по Чарусиной мрачности, ничего из этой затеи не получалось.
Парень даже не злорадствовал.
Тягаться умелостью с Жеженем для старика безнадежнее, чем моститься присесть к самому себе на колени. И если он – старик – до сей поры безнадежность эту не осознал, то что ж, пускай его тужится. Помогите, боги, змеюке протянуть ноги…
Негаданному своему безделию Жежень сперва обрадовался. Златоумелец Чаруса сделался очень уж славен трудами своего подручного закупа, а потому у этого самого подручного в нынешнем году было работы… Миг коротенький, чтобы пот со лба утереть – и то не вдруг улучишь.
Но прошел день, другой; парень вроде бы отоспался и за былое бессонье, и за еще одно такое же – впрок… На третий день ничегонеделание перестало казаться даром богов, а на четвертый вконец опостылело. Еще и погода такая, что нос из-под кровли не выткнешь… Впору было хоть к Чарусихе набиться помогать по хозяйству, чтобы чем-то руки занять. Но после давешней ругни Жежень старался как можно реже попадаться на хозяйкины очи, для чего насовсем перебрался в стайню.
Что ж, в конце концов занять руки – это не главное. Куда важней придумать занятие для дуреющей от безделья головы. Да-да, очень трудно УСПЕТЬ выдумать занятие для дуреющей от безделья головы до того, как она сама найдет, чем заняться.
Жежень не успел.
Интересно, почему шустрее всего на ум лезут самые тоскливые, безрадостные и безысходные раздумья да вспоминания? Хоть прошено, хоть непрошено; хоть даже остатки сил надрываешь, припоминая лучшее из пережитого (припоминая же, не выдумывая!), а вместо этого из каких-то пакостных глубин души поднимается муть, копившаяся там с самых ранних, полузабывшихся уже лет.
Может, въевшаяся в привычку Жеженева тоска давным-давно перегорела бы до легкого пепла, и развеялся б тот пепел по ветру без следа и остатка… не будь у парня возможности постоянно бередить-растравливать память. А возможность имелась – та самая златая немцовская водяница, из-за которой Жежень угодил в закупы.
Кой прок шарахаться да прятаться от нынешней Вятичихи, если прежняя Векша, которую так хочется позабыть, хранится в увесистой замшевой лядунке у тебя на груди?
Ведь именно с Векши лепил Жежень восковую заготовку, по которой потом сработал отливку, заказанную немцом.
…Они забились в густой ракитник над самой водой, и Векша никак не могла усидеть спокойно – то комары да муравьи ее донимали, то вдруг мерещилось, будто кто-то подкрался, подглядывает… Жеженю работалось легко и стремительно, как никогда – почему-то не мешали ему ни Векшина непоседливость, ни предвечерний меркнущий свет, ни мельтешащая по девичьей коже прихотливая путаница теней от тревожимых ветром ракитных листьев. А когда парень окончил разглаживать воск и попробовал огладить нечто более упругое, теплое да желанное, Векша расквасила ему скулу и пустила кровь из носу…
А потом он лежал на спине, блаженно глядел в подпаленное закатом бездонье; забывшая одеться Горютина дочь, низко склоняясь, деловито прикладывала к ссадинам на его лице какие-то разжеванные в кашицу листья, и твердые девичьи соски раз за разом касались его расхистанной груди, еще не успевшей толком просохнуть после запойной работы…
А потом почти случилось то, что по сию пору продолжает грезиться в мучительных снах о несбыточной небыли… Наверняка уже должно было это случиться, но тут…
Жежень еще ничего не успел сообразить, как Векша вдруг с писком выбарахталась из-под него и схватила первую подвернувшуюся одежку, торопясь прикрыть ею… нет, не наготу свою, а то, по чему легче всего было бы опознать дочку отщепенца Горюты – лицо да огненно-рыжую расплетенную гриву. И в тот же миг закачались-раздвинулись ветви, выткнулась меж них мрачноватая чернобородая рожа и унылый голос вопросил:
– Слышьте, ребяты, тута телушки не пробредали? Пегие они такие, числом их три; у одной еще роги книзу повывернуты, а у другой рогов вовсе нетути…
Зашлый мужичонка долго бы вспоминал всякие-разные приметы пропавшей скотины (морща лоб, для уточнений то и дело окликая своего покуда невидимого сотоварища), но Жежень, наконец, опамятовал и, зверски оскалясь, вскочил на ноги. А потом… Да, уж те-то двое, небось, не смеют болтать, будто бы сын кузнеца Жеженя Старого не умеет драться! Без малого полверсты гнал он мужиков, ошалелых от внезапной свирепости голого тощеватого парня. А когда вернулся – гордый, запыхавшийся – Векши уж след простыл…
И после всего этого нужно было отдать водяницу толстобрюхому немцу?! Да хвост поперек хари ему, свиноглазому!
Только все чаще и чаще Жежень распоследними словами клял себя за то, что решил сохранить Векшино подобье. Оно б еще и нынче не поздно. Отдать, продать, переплавить, выкинуть в омут… Что угодно сотворить с трижды по трижды проклятой блескушкой, лишь бы освободиться от власти злобного, душу выпивающего ведовства под названием память.
Но вот беда: недоставало Жеженю для такого освобождения ни сил, ни решимости.
Корочун когда-то сказал: "Есть на свете такие люди, для которых счастье – быть безысходно несчастными". Неужели дряхлый хранильник Велесова капища прав? Наверное, да.
…А та, последняя… то есть первая встреча с нынешней, вернувшейся Векшей; встреча, которой так желал и боялся – когда она случилась-таки? Четыре дня назад? Пять?
Жежень сидел тогда в стайне, на куче недоеденной скотиной травы – сидел съежившись, уткнувшись подбородком в согнутые колени. К телу противно липло измызганное полотно каждодневных штанов да рубахи; нечесаные волосы свешивались на глаза, только он и сквозь эту спутанную темно-русую занавесь видел облитую теплым сиянием крохотную де́вицу, дразнящую тугим выгибом золотого обнаженного тела, насмешливой полуулыбкой, вольным разворотом округлых плеч. Вроде бы сильны они не по-девичьи, и вместе с тем прямо-таки умоляют о крепком защищающем объятии мужеской надежной руки… Не немцовскую водяницу с рыбьей холодной кровью – свою судьбу, собственную недоброй власти богиню сработал Жежень в черный проклятый день.
И когда вдруг с тягучим скрипом распахнулась крепкая дубовая створка (дверь – не дверь, ворота – не ворота), и в полутемную стайню хлынул замешанный на сырости свет безрадостного тусклого дня; когда в открывшийся проем осторожно вступила ОНА – живая, настоящая, из упругой горячей плоти…
Прав, прав был старый волхв с Идолова Холма.
Осознав, кто именно замер в нерешительности на пороге, Жежень обрадовался. Не тому, что это она, настоящая, а тому, что застала она его перед проклятым золотым идольцем.
Застала.
И конечно же с единого взгляда все поняла.
И наверняка пожалела.
Не о выборе своем, как мечталось прежде, как виделось в недавних сладостных снах – нет, она его, Жеженя пожалела. А ведь раньше казалось, будто бы чем такое, то лучше б уж во вздутый плавильный горн головою… и самому, и ее…
Векша изо всех сил старалась не глядеть на золотую себя (хоть парень чувствовал, что Горютиной дочери очень-очень хочется взять в руки и как следует рассмотреть, какою она была почти три года тому назад).
Она говорила с ним так, словно не было ничего из того, что было; словно бы сейчас ей удалось не заметить или хоть не понять.
И Жежень почему-то сразу согласился делать рукоять для меча (а ведь и гораздо более глупый дурак вмиг бы догадался, чей это меч).
Согласился, хоть до тех пор даже на ум не пускал соблазн трудиться для кого-нибудь без хозяйского ведома. Чаруса – он, конечно, именно чаруса бездонная, но Жеженева родителя от последствий сыновьей глупости спас… И все-таки Жежень не более чем подручный закуп. Пускай и дана ему воля, о какой прочие помыслить не смеют, но ведь есть той воле и край-предел…
Но вот как-то вдруг позабылось все-все – в том числе и любые края-пределы.
Пока парень обмерял мечевой железный опеньок да прикидывал, сгодится ли для работы принесенный Векшей кусок оленьего рога, та безумолчно разглагольствовала о какой-то совершеннейшей ерунде. А когда Жежень, прокашлявшись, сказал наконец, что он все обмерял и что рог годится, Векша сразу забрала меч и ушла. Сказала только, чтоб Жежень не вздумал отказываться от платы, если не хочет их с Кудеславом смертно обидеть. Да, ушла-то она быстро, но, может, успела все-таки расслышать торопливое Жеженево: "Чарусе заплатишь!"
Работать без хозяйского ведома еще полбеды, но вдобавок еще и самому принять плату… За такое даже Чаруса даже Жеженя не помилует. Вот ведь как была Векша дурешкой, так и в Вятичихах не поумнела: и, вроде, как лучше хочет, а все едино будто нарочно старается подвести бывшего дружка своего под какое-нибудь несчастье… Впрочем, будто ли?..
Парень возился с рукоятью четыре дня – благо, никто не мешал. Это было именно то дело, какого ему хотелось: оно заняло и руки, и голову.
И за делом этим парень твердо решил непременно сходить на Идолов Холм, к Корочуну. Ежели волхв этак мудро понимает человечью душу, то пускай присоветует что-нибудь дурному сопливому закупу, который по скудоумию и по чрезмерной умелости рук (одно при другом страшней Велесова проклятья) сам себе наделал беды…
И вот именно в тот день, который Жежень выбрал для похода на Идолов Холм, Чаруса вдруг прицепился со своими никчемными порученьями!
Ну да ничего.
Путь к Навьему Гаду недальний, до темна поспеть вполне возможное дело. Заночевать можно будет у Корочуна (что, кстати, Жеженю не впервой), а грядущим утром – назад.
Эти виды на тогдашний вечер Жежень строил, просеивая сквозь дерюжное сито каленый в горне речной песок (не по собственной воле, конечно – по Чарусину велению). Занятие было нудное, а главное – до нельзя пыльное, и потому парень устроился со своей работой во дворе, под стеною кузни.
Он сидел на корточках, опершись спиною о насосавшиеся дождевой влаги старые трещиноватые бревна, тряс сито над объемистой глиняной мисой и от нечего делать раздумывал, зачем Чарусе понадобилось аж столько сеяного песка.
Зачем вообще нужен мелкий каленый песок – это понятно: таким начищают до ярого блеска готовые отливки. Но столько… Однако же немалое что-то сработал хозяин кузни! Чтобы измерить любую из прежних его (да и Жеженевых) работ с лихвою хватило бы одной пяди. А тут…
От внезапного пронзительного писка, раздавшегося над самым ухом, парень выронил сито и чуть не перевернул мису с сеянкой. Испуганно втянув голову в плечи, Жежень оглянулся и тут же, не озаботившись даже понизить голос, в сердцах помянул старого безалаберного дурня, у которого в кузне дверь верещит ошпареной крысой и который почем зря да не ко времени через эту самую дверь шныряет.
А выскочивший из кузни Чаруса будто и не слыхал дерзостей наглого закупа.
Он сыпанул прямо под стену целую груду чего-то вроде мелко дробленного камня, буркнул Жеженю: "Не спи, поторапливайся!" – и сразу же ушмыгнул обратно.
Жежень, впрочем, о просеивании песка на время забыл – его заинтересовало выброшенное стариком.
Был это, конечно же, никакой не дробленый камень, а были это осколки литейной формы-вытворницы. Небось, Чаруса в спешке сделал ее неразъемной, цельнокусковой, а из такой готовое изделие не выдостанешь иначе, как расколотив спекшуюся до каменной твердости глину… да только ж не в такие мелкие дребезги! Что же это выходит? Выходит, старик опасается, как бы по вытворнице не распозналась изготовленная отливка? Заметает следы неудачи? А тогда зачем ему сеянка?
Конечно, едва лишь за Чарусой успела захлопнуться дверь, Жежень оказался возле битых остатков. Присев на корточки, он осторожно, кончиками пальцев пошевелил гремучие сероватые осколки – звук получился таким, будто засмеялся кто-то сухо и неприятно… или будто стронули кучу ветхих костей.
И сразу, толчком как-то осозналось Жеженю, что рубаха, с которой срубные бревна щедро поделились припрятанной ими дождевой сыростью, знобко холодит спину; что выстуженные мокрым бурьяном да склизким суглинком Чарусиного подворья босые ноги зашлись мучительной ломотой; что Хорс, весь этот суетный день бывший не очень-то щедрым на тепло, теперь и на свет начинает скупиться…
А тучи на западе уже вымарал грязнобурый закат, и вроде бы вновь затевался ветер – исподволь этак, вкрадчиво, раз за разом прохватывая парня муторной дрожью… Или дрожь – это не из-за ветра?
Крепко стиснув в кулаке выхваченный чуть ли не наугад осколок битой Чарусиной вытворницы, Жежень поднялся с корточек. Он уже знал, что сегодня не будет больше подручничать для хозяина, а сей же миг все бросит и пойдет к Корочуну. Пойдет, даже если ради того, чтобы вырваться с хозяйского двора, предстоит насмерть биться со стариком и всеми его домочадцами.
Только у парня теперь не было ни малейшей охоты беседовать с волхвом-хранильником Идолова Холма о своей тоске по Векше Вятичихе – позабыл Жежень про эту беду, еще мгновенье-другое назад казавшуюся смертным мучением.
* * *Вечер падал на мир весомо и плотно – будто чьи-то невидимые непомерные руки складка за складкой роняли с небес мутнопрозрачное покрывало, сотканное из сумерек, брюзгливого моросного дождя и ветра – скучного, отяжелевшего от сырости.
Сызнова дождь. Лишь ночь да неполный день передышки пожаловал он людям от скудных своих щедрот. Ну и хвост ему поперек… поперек… Эко сказанул – разве у дождя харя имеется?
Жежень зло досадовал на поспешность, с которой покинул хозяйский двор. Надо же, совсем обезумел от страха…
Мало ли какая жуть может явиться во хмельном сне! Мало ли какую отливку мог затеять Чаруса! Кто способен перечесть, сколько имеется на свете всячины, похожей на лошадиные зубы?
Да если б хоть зубы – а то же только один-единственный и можно распознать на том осколке, что ты в кулаке тискаешь. Один отпечаток чего-то похожего на зуб, да от двух соседних по краешку. И то как следует не рассмотрел – лишь случайным взглядом укололся об эту похожесть, и сразу же ударился в бега.
Вот, стало быть, и конец тебе, отважный человек да редкостный златых и прочих дел умелец Жежень-меньшой. Пропил ты отвагу свою, во хмелю утопил, а без отваги и подлинное умельчество невозможно.
Ишь ведь, кинулся на дождливую холодную ночь глядя – как был, босой, в тонких портах да знобливой рубахе… Взмок, вымерз; из носу льет как бы не хлеще, чем с ненастного неба; в горле будто ежи чехарду затеяли… Непременно ты нынешним вечером застудишься насмерть (это коли еще не уже).
Насмерть… Ну и славно. Туда тебе и путь скобленой столешницей.
Заплачет ли Векша, когда дознается? А ежели заплачет, то от чего? От жалости к былому дружку своему Жеженю, или по мечевой рукояти, которую ты сделать-то сделал, но не успел отдать?
А рукоять, право слово, ладная получилась. Лежит себе она, в стайне припрятанная, часа своего дожидается… Увидит Векша – поймет, небось, каков умелец Жежень Молодший… зауважает прежнего пуще… а там, глядишь… Может, все-таки рано еще помирать?
Но тогда валяй, дурень, грейся тем, чем только и можешь теперь: родимым паром.
Жежень припустил бегом.
К Идолову Холму вел не один прямой торный путь, но от Чарусина подворья к любому из этих прямых надо было бы дать преизряднейшего крюка. Так что Жежень, выгадывая время, кинулся петлять дорожками-тропками, налипшими на Междуградье огромным подобием безалаберной паутины. Но выгадывание как-то не получалось. Глянешь – вроде бы вон он, Холм, рукой подать до него; а на деле… Кажется, уж не одну версту отмесил задубелыми своими ногами, а каменное медведище если и надвинулось, то лишь самую чуточку. Ну вроде бы сила какая пакостная так и норовит вести куда угодно, кроме нужного направленья!
Плохо. Вот-вот совсем смеркнет, а при тебе из оружия одни кулаки, и даже путный дрын выломать неоткуда. Старики говорят, раньше безопасно было бродить Междуградьем хоть днем, хоть ночью, хоть по общим езженым дорогам, хоть как. А теперь… Какая может быть безопасность, ежели во всех трех родах, взятых вместе, крепких общинников осталось меньше, чем живет в округе самочинцев? А самочинцы – они самочинцы и есть. Одно слово – изверги. Недаром Корочун зовет нынешние времена междувременьем: старый обычай, дескать, себя изжил, а новый еще лишь проклевывается. А однажды премудрый волхв назвал такое вовсе уж заковыристо: перекатом времен (в иноразье падок он, старый, на пустопорожнюю выспренность).
Очередная явно много и часто хоженая лента расквашенной грязи, тянувшаяся вначале прямиком к Холму, пошла все круче забирать в сторону, а потом уперлась в какой-то кустистый взгорбок и вообще исчезла. Нехорошо поминая бестолковых протаптывателей, Жежень заозирался, соображая, как бы скорее выбраться из внезапного тупика, да и остолбенел, углядев неподалеку две едва различимые в сумерках приметные тесовые крыши.
Он узнал это место, хоть был здесь единственный раз и давным-предавным давно.
…Тот давний вечер выдался таким же хмурым да моросным. Разве что теплее было тогда, куда как теплее…
Путейка, сын Буса-хлебопашца, привел с собою какого-то вовсе уж недоростика, щуплость которого казалась еще потешнее из-за нелепой одежи. В его штанах да рубахе уместились бы трое-четверо таких мозгляков; зимний мохнатый треух (это в теплынь-то!) тоже был чересчур велик и постоянно сваливался на облупленный шмыгающий нос… До того никчемным казался незнакомый малец, что даже высмеивать его сочли делом скучным.
Высмеять попытались Путейку. Откуда, мол, выгреб такого; и не оттого ли припоздал, что раздобывал ему штаны – он же еще, поди, не дорос иметь собственные, а эти вот, что на нем, явно с чужого плеча, гы-гы-гы!
Путейка вытерпел все это молча, нарочито позевывая. Когда же поток шуток иссяк, Бусов сынок сообщил, что, во-первых, малец мальцом только кажется (просто удался щуплым). А во-вторых, он сумеет заговорить охоронных псов.
Последний довод выставил мальца совсем в ином свете. Для набега на одно из самых богатых подворий Междуградья умышленно выбрали дождливую ночь – тот же Путейка, наиопытнейший в подобных делах, объяснял, будто дождь собакам не только нюх отбивает, но и тупит слух. Прочие этим объяснениям верили, однако собак все равно боялись.
До межи владений Шульги (старого ямьца, подлинное имя которого поди упомни, а упомнишь – попробуй выговори!) добрались, когда совсем уже смеркло. Впрочем, летние ночи, даже ненастные, редко бывают по-взаправдошнему темны.
На меже Путейка велел всем залечь и ждать, а сам со своим недомерком канул в дождливые сумерки: отправился, стало быть, заборматывать песьи памороки.
Оставшиеся залегли у подошвы довольно высокого взгорбка, густо обросшего кустами да бурьяном.
Дождь усиливался, размокшая земля быстро теряла припасенное за день тепло, и набегщиков вскорости начал пробирать озноб. Мгновенья тянулись невыносимо медленно. Где-то вяло и редко взлаивали собаки, но от смутно виднеющихся невдалеке строений ямьского подворья не доносилось ни звука – вроде бы и хорошо, что там тишина да покой, а только чего же этак надолго запропастились ушедшие? Мало ли… Ну, как дошлый ямец со своими сынами-обломами втихаря изловили Путейку да неведомого задохлика, и уж крадутся сюда – вылавливать прочих злоумыслителей?
Тревога "прочих злоумыслителей" все крепла да крепла. А тут еще кто-то слазил к вершине бугра (чего только вздумалось непоседливому дурню елозить по мокрым зарослям?!) и напугал остальных хрустким шорохом неподатливых жестких стеблей. А потом, вернувшись да снеся ливень еле слышной, однако весьма завзятой брани, этот самый непоседливый дурень напугал всех еще страшнее.
По его словам, на вершине бугра обнаружился невысокий срубик вроде колодезного – место для подношений Чуру.
Так же тихо, как только что брань, затеялся спор: выйдет ли удача в набеге, если перед ним столько времени пролежать близ зачуранного места? Небось, хранитель границ, межей да оград уж успел и приметить залегших скрадников, и до самых мелочей вызнать их умышления. И теперь…
Так и осталось неузнанным, что за кровожадные беды уже принялись точить на бесталанных набегщиков свои клыки да когти "теперь". Потому что проклятый непоседливый дурень вдруг удумал ляпнуть такое, от чего те, прошлые, недопридуманные напасти мгновенно сделались… ну, вроде как новорожденный лисенок против матерущего волчины-одинца.
Хуже нет, чем непоседливость при загребущих лапах да языке без костей… Впрочем, нет, бывает и хуже: когда все перечисленное добавлено к беспросветному скудоумию.
Ну, заглянул сдуру внутрь чурного сруба; ну, увидал внутри жертвенный камень с одной-единственной обомшелою требой на нем… Так и отпрянь себе да помалкивай, ежели умный; или растрепись об увиденном и без того встревоженным приятелям – это ежели ты дурак… Но надо ж быть не дураком, а просто напрочь пустоголовым каким-то, чтоб вдруг, ни с того, ни с сего сунуть этим самым приятелям прямо под их шмыгающие носы желтую костяную бляху да спросить: "А че это я там, в срубе, на жертвеннике нашел такое странное?"