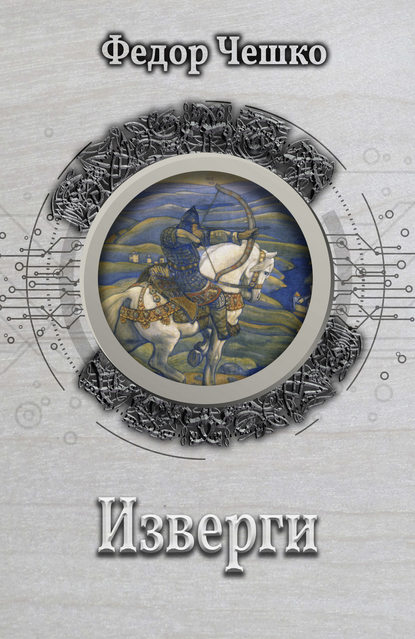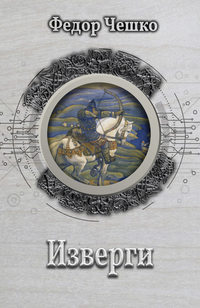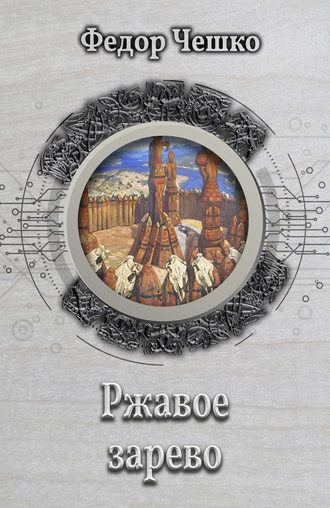
Полная версия
Ржавое зарево
Так и есть: занести не занесли, однако же крюка дали изрядного.
Эвон всего лишь в полуверсте виднеется сквозь мутное дождевое марево Навий Град – кладовище вкруг подножия огромного, будто бы непомерной тяжестью своею прилюснутого Идолова Холма. Вон и курганы-могилы ясно видать… Разные они там – и круглые, и длинные, и такие, что лишь оплывшим горбочком кажут себя над землею… И смертные избы… И этак с любой стороны от подошвы почти до четверти высоты холма, с плосковатой лысой вершины которого глядится в небо прадавнее идолище бога Велеса – огромное, едва ли не достающее каменной мордой тяжкие злые тучи… Или достающее-таки? Далековато, не разобрать отсель… Ближе, что ль подойти? Ай, да пес с ним, с медведищем!
И-эх, то не буйный ветер в чаще гудет! Не зверина в бур-р… ур-р… Тьфу!
Ан куда же это все-таки тебя, дурня, несет? Тебе бы вниз, к берегу Гостинца-кормильца, да берегом-то и добираться. Дорога там легче, чище – все больше колодами да горбыльем мощена. А отдохнуть, к примеру… Под чью-нибудь лодью влез – вот тебе и отдых. А пожелаешь, так и ночлег.
Может, это ты на Холм волокся, к Корочуну-хранильнику? Может, и так, а только лучше б не надо: в этаком, с позволенья сказать, состояньице до Святилища ни в жисть не докарабкаться.
Домой бы… Мокро же, холодно, и сил уже нет дергать ноги из трижды клятой грязищи. Если бы спьяну не понесла нелегкая окольной верхней дорогой, уже бы две трети пути миновал. Поди, в этот самый миг мимо подворья самочинца Горюты шел бы, а это от твоего теперешнего дома рукой дотянуться.
Во, вот оно. Горютино подворье…
И прежде-то мимо него ходить опасался – а ну как хозяин на глаза попадется?! Уж небось руки своею бы волей голову его недоумкуватую отвертели, сполна бы воздали старому псу, в расплату за чью вздорную гневливость община отсудила Векшу иноземным гостям – купленницей, двуногой скотиной, на позор да поталу…
То-то – прежде. А уж теперь, когда Векша воротилась… Да не одна, а с этим своим… Иной раз аж во сне привидится, как входишь на этот двор, да в глаза ей заглядываешь… Небось не отведет взгляда – даром что сызмальства у нее такая повадка: чуть не по ней, тут же вбок глядеть начинает, аж шея скрипит, выворачиваючись… А шея-то дивная, высокая, ровно лебяжья…
Да, вот так бы и наяву: глаза в глаза, чтоб без единого слова припомнила, как шепот ласковый слушала, какие слова шептала в ответ… Давно ли было? Всего лишь чуть больше двух лет тому…
И чтоб муж ее, зверина лесной, в этакий миг рядом случился – а ты бы его за бороду, да об стену, да оземь… Вот тогда-то поняла бы глупая Векша, кого на кого променяла. И – в слезы, в ноги тебе: прости, мол… А ты бы пальцы ее от рук своих оторвал, отворотился бы гордо, да прочь, через этого ее Вятича переступивши…
Ох-хо-хо… Во снах да в мечтах оно все ладно выходит, достойно, а вот на деле…
На деле ты, мил-друг, давеча как повстречал ненароком ее в проулочке, Векшу-то, так будто сила неведомая тебя через чужой плетень перенесла, за поленницу вмяла. Пес сторожевой заливается, штаны да то, что под ними, рвет-угрызает, а ты знай кулак в рот и сам же себя до крови: только бы прошла, только бы не заметила… Хорошо хоть псина попалась мелковатая – ночи три на брюхе поспал, на том и минулось. А ежели по правде праведной рассудить, кто перед кем виноват? Не Векше ли Горютиной от тебя за поленницами хорониться?
Да, вот те и сны-мечтания. Была Векша Горютина, а теперь она Вятичиха – на том тебе и вся праведная правда.
Стал быть, поклон вам, спотыкливы ноги да хмельна голова, что не поволокли дурного своего хозяина мимо Горютиного жилища.
Не проволокли. А теперь-то куда волочёте? Домой? Х-ха!
Одна нам с вами, ноги, дорога – к Чарусе, так то не дом. У подъяремной скотины домов не бывает. Чаруса – он чаруса и есть, твань, хлябь несытеющая. И ведь как ни суди, а в той дурости, которой ты собственную долю изломал, твоей вины лишь половина. А вторая половина Векшина – разве не так? Причаровала, крепкими проволоками к себе прикрутила наузница-волхова; ты из любви этой безысходной судьбу свою растоптал, и что взамен? Вятичиха?!
Трясущиеся квелые пальцы торопливо нащупали на груди увесистый мешочек-лядунку, крепко стиснули его вместе с мокрым сорочечным полотном.
Все. Ни сил, ни желанья куда либо брести более нет.
Некуда.
Незачем.
Остогыдло.
Ничего, погода нынче хороша – мокреть, холодно, ветер вон поднимается… До полуночи наверняка околеешь. И ладно. Лечь бы прямо где стоишь – в грязь, так в грязь; заснуть (плевое дело – хмель пособит); увидать напоследок во сне ее, проклятущую, и…
Заплачет, наверное, когда дознается про погибель твою; пожалеет, что этак вот обошлась… А нет, так и не надо.
– Эй, ты, дурья голова! Чего встал шестом? Вынашел, понимаешь, время да место… Шевелись – заклякнешь!
Ну вот, помереть – и то не дадут. Куда ни ткнись, одно невезенье. Теперь изволь оглядываться, браниться с невесть кем, чтоб отвязался, шел себе мимо да не лез с дурными советами к занятому человеку…
Нет, этот, пожалуй, вряд ли пойдет мимо. Точно, не пойдет. Потому, что во-первых не пеший, а во-вторых не один.
Видать, мысли безрадостные и дождевой шум воспрепятствовали расслышать, как сзади подъехала да остановилась всего лишь в нескольких недлинных шагах телега, запряженная толстопузой лошадкой. А на телеге той сидят, свесив на одну сторону обутые в лапти ноги, два мужика. Степенные такие мужики, оба в летах (лицо одного вроде бы знакомо), одеты опрятно и почти сухо, потому как от дождя клаптищем смоленой кожи накрылись… Сидят, значит, и рассматривают. Любуются, значит. Нашли чем…
– Эге, да это, никак, ты, Жежень? – удивленно протянул тот, знакомый (вот только имя его припомнить не удается… да и не хочется). – С чего это тебя сюда занесло?
Говорун примолк, дожидаясь хоть какого-нибудь ответа; потом (когда понял, наконец, тщетнось ожидания) обернулся к своему спутнику:
– Это Жежень, подручный захребетник Чарусы-златокузнеца. Вот ведь как нахлестался! Небось, в Старом Граде, у Гостюхи бражничал – тот вдовую сестру за старика Гипа вытолкал. Дак куда ж ты, сердешный?.. (Это уже продолжающему бездумно хлопать глазами немому опудалу, столбенеющему средь дороги). Куда ж ты забрел? И Гостюха хорош, в елку его – залил мальца превыше ушей, да и отпустил. Нет бы у себя положить, приглянуть! Ну я ужо ему попеняю, Гостюхе-то!
Второй мужик сплюнул не без гадливости, загудел басовито, словно сердитый шмель:
– Ты лучше Чарусе бы попенял. Ишь, распустил выученика… Мальцу, поди, шестой аль седьмой год над первым десятком, а глянь на него! Хмелен до скотского уподобия, грязен, расхристан, рожа в кровище… Ни чести, ни совести – срам глядеть. Такого бы вожжами с утра до вечера, а потом с вечера до утра, а потом сызнова…
Так, рожа, значит, в кровище. Теперь понятно, почему пояса нет: дрался стало быть. Распояской, по-честному, не по хмельной злобе… во всяком разе, сперва. А потом? И с кем дрался-то? Может, с самим же Гостюхой? Ох, похоже в Старый Град тебе носа более не казать… хотя бы покуда про драку доподлинно не вспомянешь. Интересно хоть кто кого: ты или тебя? Кроме рожи вроде больше и не болит нигде, да и рожа-то не сказать, чтоб уж очень… Ну, колено еще. И локоть. И плечо. И в затылке как-то не так – наверное, гуля наливается. Одним словом, почитай совсем без ущерба драка минулась. Значит, наверное ты его. А кого – это, в общем, дело десятое. Опояску же либо забыл подвязать, либо сперли ее… Или под конец мордобития тебе не до пояса стало – пришлось озаботиться, как бы ноги унести? О-хо-хонюшки… Ладно, опояска – то пустое. Главное, лядунку не утерял. Уж от такой потери впрямь бы только руки на себя наложить.
А тележные мужики тем временем гомонят, препираются меж собой. "Да не шпыняй ты его. Тут дело особое, я тебе потом…" "…Куды ж мы его? К Чарусе – это ого какого крюка давать, а мы и без того… Сам пил – сам пущай и…" "Да жалко… Провезем маленько, а вниз уж пускай своими лаптями… Вниз-то легче: упавши – и то докатится…" "Ну, леший с вами обоими. Эй, ты, недоладный! Полезай уж."
Недоладный… Это кого ж он так? А-а-а, вот что! Ну и хвост те поперек хари; раз ты так – не полезу. Не полезу никуда, и все тут, хоть ты себе бороду вырви с досады. Будешь знать наперед, кто из нас двоих недоладный.
– Да лезь уже, горюшко родительское! Околеешь ведь, в елку тебя!
Ладно, коли этак вот, уважительно, то и мы уважим, полезем-таки. Только вот куда бы? И вообще, сколько можно столбом торчать? Не присесть ли? А эти… Хотят – так пущай на руках затаскивают куда им там надо. Это же им надо. А нам не плохо и здесь.
…Скрипит-качается расхлябанная телега; больно поддают на ухабах шаткие борта – один под коленки, второй по затылку; ноги скребет колесо – того и гляди правый лапоть снимется… а правая рука перевесилась через тележный задок и скребет пальцами по дороге… Благодать!
Заволокли-таки, значит, на телегу свою. Заволокли, положили, прикрыли от дождя краем накидки (хватило того края аж на половину рожи да на левое плечо) – и везут. Куда? А враг их знает. Да и какая разница? Главное, что ни идти, ни думать теперь не надо.
Можно просто лежать и глядеть прищуренным правым глазом в косматое небо, которое ненастный скудный закат окрасил в цвет застарелой раны.
А еще можно слушать. Слушать гулкие тягучие раскаты да гадать – то ли это дальний небесный гром, то ли в твоем же брюхе выпитое песни играет. Слушать чавканье размокшей дороги под лошадиными копытами; жалобы колес; монотонную дробь дождевых капель по смоленой коже; пробивающийся сквозь все это неспешный – с ленцой – разговор…
– …знаю родителя. И его самого еще вот этаким помню. Родитель-то все его к своему кузнечному делу приучал, как и надлежит, а он… Он вроде чему-то не тому выучился. Такому, чего и сам отец-научитель сроду не умел. Он, Жежень-то, сказывают, года с три тому сам, без отцовой подмоги, выковал из железа отцов лик. И вроде так похоже да живо – прям вот сей же миг уста приоткроет и, в елку его, скажет чего-нибудь.
– Враки! – Гудливый бас – это тот, злой обозвался, который давеча тявкал про "вожжами с вечера до утра". – А коль не враки, так и того хуже. Дурное это дело – подобья творить, от того живому человеку может выйти какая порча.
– Да ты погодь сужденье высказывать, ты слушай. Волхв Корочун, к примеру, как о том дознался, про порчу ничего не сказал. Наоборот, попросил из меди Велесов кумир сработать – махонький, чтоб при себе носить. Жежень и сработал, да так, что Корочун нарадоваться не мог. И отплатился вдвое щедрей, чем они с Жеженевым отцом попервах сговорились, вот. А ты: "дурное дело"… Какое ж оно, в елку, дурное, ежели за него платят?
Да, так вот… Потом вскорости лихая беда приключилась. Мошновитый проезжий гость из немцо́в где-то высмотрел Жеженево кование, и мало умом не тронулся. Сперва никак на веру не брал, что это безбородый парнишка удался таким дивным умельцем, а потом… Вроде бы дал он Жеженю Старому златой желвак, дабы Жежень Малой из того желвака ему голую бабенку сработал – не то водяницу, не то какую иную немцовскую богиню. Жежень-то было взялся, да только неладное что-то вышло с тем желваком. Кто говорит, будто утерял парнишка немцово злато, кто – будто испортил (пережог, или как там еще можно злато, в елку его, испортить?)… А иные бают, словно бы он готовую уже вещицу не захотел отдавать в хозяйские руки – ну, знаешь, всякое ведь с человеком случиться может: лбом о притолоку зашибся, или еще чего… Так, иначе ли, а пришлось бы Жеженю Старому ответить изрядной долей своего достояния, но выручил его (заметь – непрошено выручил, по доброй охоте!) златых дел умелец Чаруса: немцу́ возместил потерю да обиду, а малого Жеженя за то взял вроде как в подручные-закупы – покуда, значит, не отработает. Но, может, и насовсем так останется, потому что родитель от своего очага парнишку отлучил. Стало быть, за злодейское ухищение. Мол, не сын ты мне более, и всё тут. И, выходит, даже сумей Жежень Малой выкупить себя, деваться ему будет вовсе некуда кроме как опять же к Чарусе.
– Так этому бы сопле не бражничать, ему бы в лепешку плющиться заради благодеятеля! А он свинствует!
– Ты погоди. То еще, в елку его, надвое гадано, кто кому благо деет. Бают, вишь, будто к Чарусе, как он Жеженя взял, удача так и поперла. Вещицы он работать стал, каких прежде не делывал – одна другой редкостнее. От того и достатком несказанно окреп, и слава о нем в чужедальние края покатилась вослед за торговыми гостями. И еще (это я доподлинно ведаю), как Чаруса что-нибудь новое изделывает, так Жежень непременно ухлестывается до свинячьего визгу, вроде как нынче. Или, ежели хошь, иначе можно сказать: коль Жежень упился, значится новую Чарусину поделку крепко хвалили. Вот и скажи: с чего бы такому, в елку его, получаться?
Несколько мгновений молчанья. Потом басовитый неуверенно вопрошает:
– Что ли Жежень твой хозяйской умелости да славе завидует?
В ответ – дробный смешок:
– И-и-эх! Умный ты мужик, а только ничегошеньки не упонял! Ты прикинь: многим ли закупам хозяева этакую волю дают? Да родным сынам не годится прощать то, что Чаруса в иночасье прощает Жеженю. С чего бы так, а? Сызнова, что ль, невдомек тебе?
– Невдомек… – обиженно тянет басовитый.
И вдруг словно что-то испугало его:
– Э, глянь, еще перехожий на дороге… Вишь? Вон, у сосенки! Тоже что ли пьянчужка? Небось, ты и его захочешь подвозить? Так это, мил-друг, токмо к тележному задку привязать да волоком волочить: места-то боле нетути! Или может, накажешь бочонок выкинуть?
Ах, бочонок у них! Вот, значит, что в левый бок впивается, прямо под самые ребра достает! Впрямь, что ли, выкинуть его на дорогу? Ведь этак не езда поучается – сплошное мученье! Только осторожненько, а то хозяева, ежели заметят, поди заругаются; чего доброго попробуют даже драться… Им-то что – им же тот бочонок ребра не грызет, а чужая горесть всегда не в горесть. Но прежде, чем выкидывать, непременно надобно проверить, чего там внутри. Ну как брага?!
– Не боись, в елку тя! – это обозвался тот, который знакомым кажется (вот ежели бы не сподобили боги обожраться хмельным до рогатых зябликов, так уж давно бы сумелось того человека по имени распознать).
– Не боись, в елку тя! Никакой это не хмельной. Это, кажись, Свейка Полудура.
– Так и чего ж ты возрадовался? Во денек выпал – то Жежень твой как сыч на голову свалился, теперь еще и колдунью повстречали…
– Да она не колдунья. Так себе, побродяжка вовсе безобидная – ни кола, ни двора, ни ума, ни людям особливого беспокойства. Еще и глухая-немая.
– А ежели не колдунья, так чего ж свеи, что в крепостце, ее к себе не берут? – ерепенится басовитый. – Чего ж она все по нашим да по ямьским дворам побирается, а к своим носа не кажет?
– Сказывают, она какая-то не совсем свейская. Те свеи, что в крепостце – они совсем свеи, чистородные то есть, а эта – нет. Или она совсем, а те – не совсем… В общем, кто их, в елку, поймет, свеев-то?
– Ну, может и не колдунья… А только нехорошо это, что мы ее повстречали, – эге, а у басовитого-то, кажись, зубы поцокивают! – Веришь ли, как увижу ее – по коже мурашня так и дерет! И дух-то от нее мерзостный; и одежка дрянная; а уж образина! Черным-черна, словно бы она в ягодном соке моется!
– Во сказанул – сок! Да она, в елку, поди отродяся и водицей-то не мывалась! Ну, а что вместо лика у ней морда зверья – значит, уж так судилось. Ее, старую, пожалеть бы, а не бояться!
– Во-во, больно ты жалостливый. И этого вон, свиноватого, тебе жаль, и старую безумную каргу незнаного роду-племени… Всех задарма жалеть – жалелка перетрется, понял? Э, стой! Ты чего удумал?! Задля какого лешего ты ее манишь?! Она ж было в сторону побрела, так нет же, размахался руками! Сам ты, погляжу, дурня огрызок!
– Не, она нам кстати. Она Жеженя в лучшем виде до дому доведет.
– Это с чего бы?!
– Да с того: люб он ей отчего-то. Таскается за ним, будто собака – это я сам сколько раз видывал. Он и кричит бывало, и камнями кидается – не отстает и все тут. И подачки от него не берет, только норовит по плечу погладить, да урчит что-то ей одной уразумелое. А уж если праздник такой случится, что он ее попросит об чем-нибудь – глухая там или не глухая, а только пятки костлявые засверкают. И еще вот че я видал однажды: Жежень как-то затеял драться сразу с тремя ямьцами, и они его попервах крепко мочалили (он ведь, дурень, драться любит, но не умеет). Так Полудура как увидала – выломала кол из чьего-то плетня и ну тех ямьцев гонять! Во потеха была! Такие, значит дела.
– Да дела понятные, – басовитый сплюнул. – Чует, небось, что Жежень твой вроде нее – полудурень – вот и липнет… А как же ты ей станешь растолковывать, чего от нее надобно? Она ж ни мухомора не разбирает!
– Не скажи! Слова "на" да, к примеру, "хлебушек" она, в елку ее, слышит-разумеет не плоше, чем мы с тобою.
Ох, мужики, доберусь же я до вас когда-нибудь! Благодарствуйте, что хмелён, а то б нынче же… "Драться любит, да не умеет"… Ох, показал бы я тебе свою неумелость! "Полудурень"… Да за такое слово… Да я… Я… Ох-хо-хо, ну до чего ж ко сну клонит!..
* * *Безъязыкая побродяжка на самом деле доставила его "в лучшем виде". То есть именно вид-то у Жеженя как раз был страшней страшного. Когда бы парень мог видеть, на что похоже его лицо, враз позабыл бы надеяться, будто вывалившаяся из памяти драка окончилась его верхом.
Несмотря на старость и бесприютную проголодную жизнь Полудура силой могла потягаться с дюжим молотобойцем (что изредка и вытворяла ради людской забавы да своего пропитания). Жежень – отнюдь, кстати, не коротышка – теменем едва доставал до ее подбородка. А потому тележные мужики вовсе не удивились, когда свейка, быстро уразумев, чего от нее хотят, взвалила уснувшего-таки парня на плечи и твердо зашагала с этой ношею по склизкой грязи.
Жежень проснулся лишь когда Полудура осторожно поставила его на ноги возле плетня, отгородившего собою от прочего мира двор златокузнеца по прозванью Чаруса.
Миг-другой парень продолжал цепляться за свейкины плечи, оглядываясь в тягостном недоумении – пытался понять где и каким образом очутился. Потом в мутных его глазах прорезались зачатки осмысленности. Торопливо отстранившись, Жежень окинул неприязненным взглядом стоящую перед ним полоумную инородку. Нескладная, скособоченная, укутанная в длинное (до щиколоток) подобье рубахи из ошметьев шкур, уж и не уразуметь с какого зверя добытых – иные ошметки мехом внутрь, иные наружу… Только мех – это громковато сказано. Не выдумано еще слова, чтоб обозначить такое вот слипшееся, потертое, вонючее…
И подобным же невесть чем обмотана вместо платка свейкина голова; и такое же накручено на ноги Полудуры…
А уж лицо!
Криворотое, черное; и огромные серые глаза среди этой черноты кажутся совершенно белыми, бездумными, рыбьими… Впрочем, бездумными свейкины глазищи не кажутся – они таковы и есть.
Жеженя передернуло. Не от холода – от гадливости.
Полудура – даром что хорошо еще, коли впрямь только ПОЛУдура – истинную причину этого передергивания явно угадала (не впервой было беспритульной свейке разгадывать такие загадки). С протяжным коровьим вздохом она повернулась и медленно побрела вдоль плетня, растворяясь в вечерних сумерках и дождевой мути.
Боги знают, куда вдруг понесло ветхую умишком старуху. Наверное, к Гостинцу: у нее в береговом обрыве было вырыто что-то вроде зверьего лежбища.
Жеженю стало неловко. Вот ведь, озаботилась о нем Полудура-то, а он… Под кровлю, конечно, старую безумицу не потащишь – не своя ведь кровля. Но хоть бы снеди какой вынес побродяжке болезной для возмещения ее сил, ради тебя истраченных…
Впрочем, на выручку растревоженной совести тут же пришла спасительная досада.
Ну чего она, недоладная эта свейка, вечно так и липнет, будто Жежень не человек – борть медвяная?! Уже не только сам Чаруса и все его домочадцы, не только ближние соседи, а вовсе незнакомые люди изводят насмешками. "Эй, гляди – вон суженая твоя идет! Что ж ты не рад?! Беги навстречу, приголубь, расцелуй в румяные щечки! Гы-гы-гы!"
Тьфу, чтоб ваши языки опрыщавели…
И этак ведется чуть ли не аж с тех самых пор, как объявилась в здешних краях эта разъехавшаяся умом безъязыкая зайда (а объявилась она вскоре после того, как старики присчитали Векшу к Горютиной вире за убиенного гостя-купчину).
Вот и пускай себе бредет Полудура куда хочет, абы подальше; пускай мерзнет да мокнет в своей прибрежной берлоге. Хоть бы, наконец, до смерти вымерзла…
Жежень в сердцах плюнул вослед старухе, успевшей уже потеряться среди моросной мглы, и полез через плетень.
Лез он долго. Пыхтел, сопел, трижды срывался; потом, перевесившись, наконец, животом через шаткий колючий верх, зацепился рубахой и ни туда, ни сюда… А потом, когда, оставив на плетне изрядные клочья одежи, тяжело ввалился во двор и заворочался в мокрых бурьянах, пытаясь встать хотя бы на четвереньки… Да, именно тогда всего лишь в паре-тройке шагов левее заметил он удобный – с широкими тесовыми приступками – перелаз.
Сперва парень разозлился. Потом неожиданно для самого себя принялся тихонько хихикать. А через миг от его громкого визгливого хохота сорвался заполошным лаем дотоле мирно дремавший под крыльцом сторожевой волкодав.
– Цыть! – оборвав смех, грозно прошипел Жежень. – Поди, спят уже все (вишь, ставни затворены?), а ты то ржешь, то брешешь! Молчи, сука! Или ты кобель? Тогда тем более!..
Кое-как поднявшись на ноги, парень побрел через двор. Псина зевнула с тягучим прискуливанием, и Чарусин закуп вновь яростно тряхнул кулаком: "Цыть, говорю! Тихо!" И вдруг ни с того, ни с сего заорал плясовую:
Как пониже-то кудрейДа повыше бороды,Меж развесистых ушей,Там, где место головы —Во потеха, во умора! —Там трескучая комора;Не комора – краса:В окна лезут волоса.Строена шатко,Метена гладко,Пустым пуста,Ан отнюдь не проста:Как об стенку грюк-стук —То-то выйдет звук, звук!Оборвав пение, Жежень вновь захохотал – показалось ему, будто бы волкодав вторит песне удалым залихватским гиканьем. И тут с испуганным скрипом приотворилась избяная дверь, выронив на собачью спину да на ступени крыльца желтую полоску квелого лучинного света.
– Что ж ты глотку дерешь, вражина?! – хуже немазанной двери проскрипел голос опасливо выглянувшей во двор хозяйки. – Весь день прошлялся, бездельник ты, дармоед проклятый; хмельным залился по переносье, а теперь еще смеешь буянить, честным людям заслуженный сон ломать?! Детей мне перебудил, сволочуга такая; пса заполошил… Благодарствуй доле, что хозяин в отлучке, он бы тебя… Да куда ж ты прешь, глаза твои без капли стыда?! Не пущу в избу! В стайне ночуй – тебе, скоту, со скотиной самое место!
– Са-а-ма ты… Пса ей жаль… Сука! – сказал Жежень, и задохнувшаяся от возмущения хозяйка прянула назад, в подсвеченные лучиной сени, торопливо и крепко прихлопнув за собою дверь.
– Нужна мне твоя изба! – парень повысил голос, стараясь перекричать грохот засовов и лай вконец растревоженного перебранкою пса. – Я и сам в стайню хотел! Уж лучше с конем, чем со свиньями!
"Ужо попомнишь, сволочужина – все хозяину расскажу!" – невнятно донеслось из избы.
– Боялся я твоего хозяина, как еж шлепка! – сплюнув, Жежень с нарочитой неторопливостью отправился к стайне.
А дождь все лил и лил. Торопливый закат утопился в хворостьной ржавой крови. Темно и склизко было на Чарусином дворе, и сам двор оказался каким-то неправильным. Жежень ведь знал этот самый двор, как собственную пятерню, но почему-то вдруг ушибся о дровокольную колоду, которая на пути к стайне попасться никак не могла; и сама стайня оказалась на себя не похожей…
Уже распахнув пинком несообразно низкую дверку и в удивлении замерев на пороге темного строения, пахнущего чем угодно, только не конским духом, парень вдруг сообразил, что хмельные ноги собственным разуменьем решили свернуть влево там, где следовало бы развернуться направо, и вместо стайни прибрели к кузнице. Что ж, это место пригодно для спанья не меньше, чем любое другое.
Радуясь близости долгожданного отдыха, Чарусин закуп прямо через порог ударил было в присядку, но ступня его подвернулась на какой-то колдобине, и ошалевший парень смаху повалился под ближайшую ко входу стену, сшибая да руша на себя гремучий увесистый хлам, состоящий из одних острых, больно клюющих углов.
Прикрывая руками голову, Жежень терпеливо дождался, пока обрушенное добарабанит по его спине. Потом он заворочался было, собираясь выкарабкаться из-под насыпавшейся на него груды, но тут же сообразил, что это будет не поздно и завтра. Разве умное дело вставать лишь для того, чтобы через какую-то пару мгновений снова улечься?
…Ему приснилось, что он проснулся от холода и мучительного неудобства.
То есть это сам Жежень торопливо уверил себя, будто разбудили его сырая одежа и давящая затылок, спину да прочее жесткая угловатая дребедень. Не мог же он признаться – даже себе самому и даже в пьяно-бредовом сне – что способен (пускай и опять же во сне) испытывать такой отвратительный тошнотворный ужас!