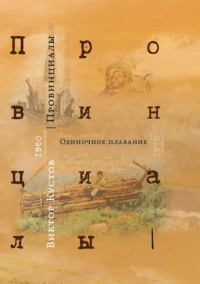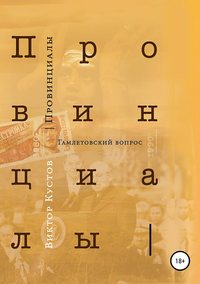Полная версия
По метеоусловиям Таймыра
– Страшно? – скривил тонкие губы Манохин.
– Страшно, – хрипло ответил он. – Только зачем тебе? Денег у меня – двести рублей на обратную дорогу. Да и не уйдёшь отсюда, только на озеро…
– Страшно всё-таки. А я думал, что не испугаешься. – Манохин опустил левую руку. – Возьми.
Антипин качнулся и медленно пошёл к нему, стараясь не смотреть в это притягивающее отверстие, физически ощущая, как «отпечатывается» оно то в одном, то в другом месте его тела.
– Эх, начальник… – срывающимся голосом произнёс Манохин. – Жизнь моя и так загубленная…
И выстрелил.
Антипин пригнулся, уже не в силах не смотреть на покачивающийся ствол и пуля прожужжала над его головой.
Манохин опустил руку, разжал ладонь и носком сапога толкнул упавший наган к Антипину:
– А если ты меня убьёшь, пойдёшь ведь со смягчающими, в целях самозащиты…
– Как убийца.
Антипин поднял наган, прокрутил барабан, выбрасывая патроны в болото и, разрядив, рукояткой вниз засунул его в рюкзак. Опустился на мягкий мох, переждал черноту в глазах, стал записывать показания приборов.
Манохин молча постоял над ним, потом с пробирками спустился к речке.
…На следующий день Антипин почувствовал себя совсем худо. Его знобило, на шеё зловеще набухал фурункул. Он прикинул по карте, где могут быть Жигайло с Сердюком, и весь день они шли с Манохиным, как туристы на экскурсии, не делая замеров. Антипин, тяжело дыша – впереди, преодолевая всё усиливающуюся слабость. Манохин молча шёл следом, иногда что-то насвистывая или отбегая в сторону, чтобы спугнуть увлёкшихся поединком драчливых петухов. Всё чаще Антипин ложился отдыхать. Лежал, хватая ртом колючий воздух. И Манохин ложился, лениво жуя вытаявшую из-под снега морошку…
После обеда они наткнулись на следы, и Антипин отправил Манохина догонять мужиков, а сам побрёл следом. Одному идти было легче, он не тянулся из последних сил, чаще останавливался, ожидая, пока успокоится колотящееся в груди сердце. Ему было уже безразлично, закончит он в этом году диссертацию или нет. Ему был безразличен Манохин. Ему было безразлично всё, кроме упругой, кочковатой, покрытой мхами, остатками снега и водными зеркалами тундры. Так он шёл, наверное, долго, потому что сухость во рту стала обжигающей – ведь когда Манохин уходил, он совсем не хотел пить. Антипин думал, как хорошо в пустыне, как жарко, как приятно это, когда жарко, когда прожигает насквозь…
Сначала он увидел Сердюка, стоящего на самом краю горизонта, и только потом Манохина. Сердюк был далеко и где-то вверху, а Манохин рядом и внизу, были видны только его плечи и руки, вскинутые кверху и судорожно цепляющиеся за воздух. Манохин молча скрёб пальцами по скользящему во льду мху и, увидев Антипина, сдавленно прохрипел:
– Всё. Хана мне…
И тогда Антипин догадался, что того засасывает болото, что Манохин не отдыхает, как он думал секунду назад, а медленно уходит в тягучую жижу.
– Держись! – прохрипел Антипин и, сбрасывая рюкзак, стал искать глазами хоть какой-нибудь кустик. Но вокруг безбрежным полем стлался мох.
Антипин лёг на край болота, но не достал ищущих рук Манохина. И тогда он стащил болотные сапоги с длинными отворотами, двумя чёрными лыжами бросил их в трясину, сорвал куртку, накинул сверху, лёг на неё, чувствуя, как медленно проваливается вниз, но всё же успев втолкнуть руку в цепкие пальцы Манохина.
– Ногами не шевели, – прохрипел, сплёвывая холодную коричневую жижу, заползающую в рот, и тянул, тянул Манохина, проваливаясь сам всё больше и больше.
Лицо Манохина приближалось, и глядя в его глаза, Антипин подумал, что если и есть в человеке душа, то душа Манохина сейчас в этих огромных глазах…
Потом Манохин сумел ухватиться одной рукой за кочку и, плеснув в лицо Антипину сгусток грязи, пополз к берегу, а Антипин поехал на куртке в другую сторону – туда, где только что был Манохин. Он уже весь был в коричневой жиже, только пальцы ног всё ещё чувствовали мокрый мох и руки упирались в податливую ткань куртки там, под грязью, и их можно было выдернуть. Он их выдернул и почувствовал, как потянула его к себе ненасытная и бездушная глубь, подумал, что дело дрянь, но тут кто-то сильно дёрнул его за ноги и он окунулся в вязкую жижу…
Антипин пришёл в себя от тепла, расходящегося по телу. Жигайло прижимал к его губам фляжку, и он, ещё раз глотнув, спросил:
– Манохину дали?
– Дали, – сказал Жигайло. – Вон он, сушится.
Манохин сидел между маленьким костерком и гудящим примусом и смотрел на Антипина.
– Ну как? – спросил Жигайло.
– Нормально, – кивнул Антипин.
– Тогда я пойду, помогу Сердюку, он там в километре отсюда сушняк нашёл.
– Иди.
Антипин лежал и смотрел на солнце. Красный шар скользил по горизонту, и Антипин подумал, что сейчас по метеоусловиям Таймыра все маленькие и большие порты и днём, и светлой ночью будут бесперебойно принимать борта.
Манохин перетащил его вместе со спальным мешком к костру, поставил рядом примус и сел, плотно прижавшись к его спине.
– Скажи, зачем ты полез ко мне? – хрипло спросил он.
Антипин помолчал, всё ещё думая о лётной погоде, потом ответил:
– От страха… Страшно, когда рядом кто-то умирает. Страшно…
…К следующему вечеру Сердюк и Манохин вынесли его к посёлку. Жигайло связался по рации с Норильском, самолёт обещали прислать утром. Евсеич натопил баньку, и вдвоём с Алексеем они пропарили Антипина, закутали в оленьи шкуры, и ему снилось, что он лежит на огромном раскалённом пляже и самое живительное тепло – тепло земли – множеством игл пронизывает его тело…
К самолёту он хотел идти сам, но его уложили на носилки, и Манохин с Сердюком осторожно поставили их возле кабины. Жигайло сел рядом. Рабочие всё ещё стояли, и Антипин попытался пошутить:
– Так стоя и полетите?..
– Останемся мы, – отозвался Сердюк. – Я там Вадиму всё записал, пусть деньги перечислит на книжку. С Евсеичем мы… Порыбачим… Выздоравливайте, на следующее лето прилетайте.
– Дождёшься?
– Дождусь, – твёрдо пообещал Сердюк.
Он загремел сапожищами, а Манохин задержался, поглядывая на Жигайло, и Антипин сказал:
– Где там Евсеич? Взгляни, Вадим.
Жигайло понятливо оставил их одних.
– Ну что, Манохин, и ты остаёшься?
– Не говори, что запомнишь, – сказал Манохин. – Я тоже постараюсь скорей всё забыть. Неприятное надо забывать. Если милиции понадоблюсь, зимой здесь найти смогут.
– Живи, Манохин, – сказал Антипин. – Никому ты не нужен. Вот только если Евсеичу…
Он протянул руку, и Манохин, помедлив, протянул свою. Его ладонь, крепко сжимавшая антипинскую, подрагивала.
Поднялся в самолёт Евсеич, поставил в угол мешок вяленой рыбы, перекрестил Антипина.
– Не верующий, но на всякий случай.
Глаза у него заблестели, и Антипин подумал, что на следующее лето он обязательно увезёт Евсеича с собой в отпуск, на лечебные грязи.
Зашли лётчики, отобедовшие в колхозной столовой, зашумели, погнали прочь провожающих, и командир спросил Антипина:
– Ну как, летим?
– Летим, – сказал Антипин. – Как там, по метеоусловиям?
– Всё нормально, – ответил тот. – Круглые сутки солнце. Лето.
Антипин приподнялся на носилках, Вадим Жигайло подложил ему под спину рюкзак, и он увидел в иллюминаторе тёмную рябь озера, покачивающиеся баркасы и фигурки людей. Он увидел тундру, освещённую ярким солнцем, с блестящими зеркалами нерастаявших снегов…
Пять дней в сентябре
5 сентября. Ночь
Проснулся Коробов от тишины. Она была так обманчиво похожа на другую тишину, что он воочию увидел остывающие угли, белеющие линии удилищ, спохватился, что надо бы разжечь костёр, вскипятить чай, а то можно и так, не сдерживая нетерпения, рвануть к перекату, закинуть удочку под первый, облюбованный издали камень, в пенный круговорот подвести мушку.
Обойдусь без чая, решил он, и вдруг что-то в этой тишине показалось ему странным. Он открыл глаза.
Над головой матово отсвечивал потолок вагончика, свет от лампочки, висевшей на столбе за окном, пронизывал красновато-жёлтым лучом.
Почему тихо, подумал он, и, словно подслушав его мысли, забубнил один дизель, потом другой…
Коробов повернулся на бок, упёрся коленками в холодящую стену, собравшись вернуться в приятный сон, но что-то в звуке работающих дизелей его насторожило.
Он сел. Нащупал сапоги, портянки. Намотал их, всунул ноги в холодную кирзу.
На верхней полке зашевелился студент, свесил голову:
– Что, пора уже?
– Спи, – сказал Коробов. – Ещё рано.
Студент облегчённо вздохнул, отвернулся к стене, задышал ровно и глубоко.
Коробов вышел на улицу.
Вышка светилась в ночи праздничным треугольником, и отсюда, от вагончиков, казалось, что там всё спокойно. Глядя на вышку, на бледнеющие звёзды, он достал папиросы, прикурил. Смотрел и курил. Хотелось верить в лучшее, но дробящийся звук, застывший элеватор оставляли всё меньше и меньше надежд. Он уже не сомневался, что Ляхов тянет на пределе. Стоит, упёршись ногами в дрожащий металлический пол, немеющими руками сжимая рукоятку тормоза лебёдки, не сводя глаз с дёргающейся стрелки. Деление – тонна. Одна, вторая, третья…
Дизели взревели и смолкли. Ровно постукивал только один из них, дающий свет и тепло.
В проёме буровой показался Ляхов.
Он начал спускаться по лесенке, но на середине остановился, и Коробов увидел, как от крайнего вагончика отделилась сутулая фигура мастера. Петухов шёл не спеша, словно ничего не случилось, шёл так, как всегда ходил по площадке: не поднимая от земли глаз и при этом умудряясь всё видеть. Он поднялся на помост, остановился, и Ляхов стал объяснять, как случился прихват, на каких режимах работал. Коробов знал, что сейчас Ляхов воздаст и ему за то, что не поменяли днём канат, хотя менять надо было позарез, да уж так шло долото, набирая метры проходки, что не удержался он, опустил инструмент в забой на старом канате.
Обозлился на Ляхова, понимая, что злиться надо на себя, и направился к вышке. Сначала он шёл быстрым шагом, потом поубавил, рассудив, что Ляхов ещё долго не стихнет, а слушать его сочные многоэтажные матюки желания не было. Тем более сейчас, когда между ними чёрная кошка пробежала. И повздорили-то из-за пустяка, практиканта. Студент был сначала в вахте Ляхова. Видел Коробов, как тот почём зря гоняет практиканта, учит уму-разуму. Бог с ним, пусть бы учил, порой это на пользу, а то ведь такие инженеры вылупляются, с какого бока к буровой подойти, не знают, так что в принципе Коробов был не против учения, но только не такого. Вот и не выдержал.
Остановил парня, когда тот бежал в вагончик за папиросой (Ляхов наказывал приносить только по одной папиросе, не больше, чтобы не сырели на буровой), и повёл к Петухову.
– Пусть у меня работает в вахте, – сказал он.
Мастер оторвался от рации, помолчал, разглядывая покрасневшего практиканта, перевёл взгляд на Коробова, буркнул:
– Обратно отправить захочешь – не разрешу.
– Ладно, – подтолкнул парня в спину Коробов. И выйдя следом, приказал: – Переодевайся, отдыхай. Пойдёшь в нашу смену.
– А как же… – Тот замялся.
– Я сам скажу Ляхову.
– Тут ещё папироса… – Студент протянул «беломорину».
– Выбрось, – сказал Коробов и пошёл на буровую…
Ляхов выслушал Коробова улыбаясь. Потом сплюнул, выдернул из замусоленной пачки Цыганка папиросу.
– Больно ты того, образованный стал, – гоняя папиросу во рту из угла в угол, прогремел он. – Сам учить хочешь?.. Ну, учи-учи, педагог… Соплишки ему высмаркивай, а он тебе через два года на шею сядет, отыграется. Чо жалеть-то?.. Пока ты сверху – пользуйся. Точно, Цыганок, а?
Цыганок рассеянно улыбнулся, махнул рукой:
– Я это, поглядеть надо, что-то стучит там… – И побежал к дизелям.
– Ну ладно, – зло сказал Ляхов. – Бери сопляка, мне легче будет, а то вроде и есть помбур, и нет его. Законного требовать буду. Но учти, друг, мне это не ндра-вит-ся, – по слогам выговорил он.
– А мне твоё «ндравится – не ндравится» знаешь до чего?.. – Коробов еле сдерживал себя. – Вот так-то, друг…
Студент стал работать в вахте Коробова. Был он парнем неплохим, бойким, схватывал всё на лету. Ляхов презрительно поглядывал, но молчал. Может быть, со временем эта ссора забылась бы, если б не мешала память о давнем разговоре. Тогда Ляхов только появился на буровой. В первую заездку показывал «фирменный» класс работы, после чего Коробову пришлось раньше срока менять канат. А по дороге домой Ляхов заявил, что в Якутии, где он до этого «трубил», он «делал деньгу», а вот тут пришла пора орден «заиметь».
– Моё слово, получу!.. А ты что, бурило, ещё не повесил на грудь, зажимают?
– Зачем он мне. – сказал Коробов. – Разве это главное в работе, в жизни?..
– Чудила ты… А что ж, по-твоему, главное?.. На этом да на вот этом, – Ляхов пощёлкал пальцами, – мир стоит. За последнее всё что захочешь иметь будешь, а почёт тебя над людьми поднимет. Это немаловажно, где ты: выше или ниже. Ты со мной не темни, я говорю откровенно… Ты ведь думаешь так же, только боишься вслух сказать.
– Брось трепаться. На поезд опоздаем…
Ляхов пытался ещё что-то рассказать, но Коробов не слушал. Ему было неприятно. И почему-то стыдно…
Три года Ляхов «давал» метры. Ордена он, правда, не заработал, но из передовиков не выходил. На Доску почёта управления портрет повесили, премии получал исправно, в президиум выбирался. Но только с того вечера старался Коробов с ним меньше встречаться. Видел, как делались эти рекордные метры. Даже на другую буровую уходить собирался, да Петухов уговорил подождать…
Ляхов, кажется, успокоился, затопал вслед за мастером.
Тот постоял перед приборами, обошёл ротор, махнул рукой Цыганку и взялся за рычаг тормоза лебёдки. Цыганок включил дизели, тишина разорвалась, унеслась в распадок. Коробов присел на сложенные рядом с помостом трубы, поглядывая то на поднимающееся солнце, то на налёгшего на рычаг Петухова. Элеватор дрожал, как пуговица на резиновой нити. У младшего Коробова теперь такая игра: резинку в дырочки пуговицы пропускает, потянет за концы, а пуговка бесится…
– А вот и виновник торжества. – Ляхов чертыхнулся. – Из-за него прихватило. Не канат, я бы в три счёта вырвал…
– Ладно, кончай митинговать, – остановил его Петухов. – Кто виноват, с того спрошу сам. Сколько времени-то? – Он вскинул руку. – Ого, шестой. Что ж ты не спишь, Васильич? Ещё час законный… А ты, Виктор, не гоношись, не пугай дичь, и так всю распугали. Пойди-ка проверь ёмкости, задвижки, сдашь вахту в таком виде, чтобы после замены каната промывочную жидкость готовить начал.
Петухов повернулся, словно не замечая недовольства Ляхова, пошёл в дизельную. Помедлив, следом шагнул Коробов. Ляхов сплюнул, проводил взглядом его спину.
…В Якутии первым учителем Ляхова, тогда ещё салажонка, был Крутов. Мужик крепкий, ладный, всегда чисто выбритый и улыбающийся, он никак не походил на уголовника, но на буровую пришёл, отсидев шесть лет за какие-то махинации. Работать Крутов умел, начальству нравился, и Ляхов тогда привязался к нему. Научился так же энергично рубить слова, обещать твёрдым голосом, глядя прямо в глаза. Научился, если что надо, доставать из-под земли, не брезгуя ни уговорами, ни взятками, ни угрозами. Одним словом, школу он, как потом понял, прошёл неплохую. Пригодилась она ему в армии, где через два месяца он умудрился перейти в офицерскую столовую на раздачу. Там и прослужил два года. Вернулся на буровую и без угрызений совести оттеснил Крутова, вывел свою вахту в передовые, стал гнать бешеный процент. Даже Крутов сначала не мог его раскусить, а когда наконец понял и пришлось с ним делиться, Ляхов переехал на новое место…
– Устин! – крикнул Ляхов.
Из дизельной вышел первый помбур. Прошёл к лебедке, снял с кожуха верхонки, посмотрел на Ляхова.
– Чо смотришь? – сорвался Ляхов. – Чо ты как рак вылупился?.. Опять грелся, опять поясница ноет, а я тут за всех вкалывай! Где верховой?
– Наверху, – спокойно сказал Устин. – Спит, поди.
– Так буди его! И уберите всё лишнее возле лебёдки, сменщик канат менять будет.
Устин стал подниматься наверх, а Ляхов пошёл к емкостям. Длинной рейкой тыкал в маслянистую жидкость, скрежетал зубами. Было ясно, что их вахте придётся готовить раствор, таскать мешки, бегать по этим чёртовым емкостям, а Коробов только канат сменит. Чистоплюй… Ляхов выругался. Но вдруг вспомнил, что ещё два месяца – и всё останется в прошлом. И что не Коробов, а именно он, Ляхов, едет работать в Сирию. Сколько желающих было, а вот утвердили его. Ляхов это сознавал, он ценил оказанное доверие и радовался, представляя, как будет возвращаться через два года обратно на «Волге»… Ту самую малость, которой не хватает, там и доберёт. А то, гляди, ещё и орден заработает… От этих мыслей он повеселел. Стоя на металлическом мостике, перекинутом через ванну, представил, как проедет по Сосновке, загорелый, приодетый, поблёскивая новенькой «Волгой» и новеньким орденом: знайте Ляхова и уважайте.
Только размечтался, как увидел подходившего верхового.
– Выспался, – многозначительно произнёс он. – Бурило вкалывает, а верховой дрыхнет на потолке, совести ни на грамм.
– А ты не шуми. – Женька Зотов потянулся, зевнул. – Каждому своё. Тебе вот ругаться нравится, мне – спать…
Так хотелось Ляхову осадить верхового, но, встретив взгляд наглых Женькиных глаз, побоялся. Однажды он уже пытался проучить того по своему разумению, а вечером, возвращаясь с реки, где проверял «морды», столкнулся с Зотовым на тропе. Тот стоял на дороге, сжимая в руках мелкашку. Ляхов остановился, что-то не понравилось ему в позе верхового. Он вспомнил, что Женька недавно вернулся из лагеря, где отсидел срок немаленький. Верховой вскинул винтовку, пуля ударила в пень рядом с Ляховым.
– Ставь коробок, – хрипло сказал Зотов. – Ставь коробок на пень, кому говорю…
– Ты чо, паря? – сделал шаг вперёд Ляхов, и вторая пуля взбила фонтанчик пыли перед ним.
– Ну…
Трясущимися руками Ляхов поставил на пень коробок и не успел отойти, как раздался сухой щелчок выстрела и коробок отлетел в сторону.
– Запомни, бурило, – не опуская винтовки, произнёс Зотов. – Запомни на всю жизнь: Женьку обижать нельзя. Обидишь – предупреждать больше не стану…
Ляхов ещё раз оглядел жилистую фигуру верхового, выражавшую полнейшее равнодушие.
– Ладно, мы с тобой ещё поговорим. – Он бросил рейку. – Иди буровую помой…
Женька облокотился на поручни, уставился на гладкую поверхность раствора, застывшего в ваннах.
Оставшись один, он долгим взглядом проводил уходящего Ляхова, и шрам на его лице от подбородка к нижней губе подрагивал, выдавая напряжение.
Ляхов спустился с буровой, зашагал к вагончику мастера, но потом круто развернулся и вошёл в столовую.
Женька ещё раз потянулся, крикнул Устина. За полчаса, оставшиеся до конца смены, надо было привести буровую в порядок.
5 сентября. День
Петухов и Коробов доедали рожки с мясом, когда в столовую вошёл Ляхов. Прошёл в угол, сел за отдельно стоящий столик, на который обычно составляли грязную посуду.
Петухов отодвинул тарелку, постучал пальцами по столу. Повариха подала компот.
– Спасибо, Татьяна. А Ляхова кормить не собираешься?
– Сейчас, Петрович, накормлю.
– А что ты обо мне, Иван Петрович, беспокоишься? – не оборачиваясь, бросил Ляхов. – Я ведь не девка.
– Да и я не парень, – отрезал Петухов. – Всё сделал?
– Как всегда.
– Вот и ладненько… Пойдём, Фёдор Васильевич, поглядим.
Хлопнула дверь, и Ляхов круто повернулся. Татьяна покачала головой, поставила перед ним большую тарелку с рожками.
– И ты меня не уважаешь? – спросил Ляхов, придержав её за руку. – Как что, так Ляхов вперёд, а как правду говорит, так неугоден.
– Что же ты такого сказал? – Она поглядела в окно.
– А сказал мастеру, что Коробова гнать надо.
– И он с тобой согласился?
– Куда там. Они же приятели. Я, говорит, за Коробова двух Ляховых отдам. Видала? Ляхов – передовик, гордость экспедиции – его не устраивает, а какой-то там средний бурильщик устраивает.
– Пусти, – сказала Татьяна, убирая руку. – Устин идёт.
Она быстро прошла к плите, наложила новую порцию и, когда Устин вошёл, уже ставила тарелку на стол, за которым до этого сидели Петухов с Коробовым. Устин кивнул, молча стал есть, аккуратно поддевая на вилку рожки.
Нависло тягостное молчание.
Татьяна достала тарелку из кастрюли с горячей водой, стала протирать. Тарелка выскользнула, разбилась. Ляхов ногой отодвинул осколок.
– На счастье.
Татьяна подобрала осколки.
Принесла Устину компот.
– Добавить? – Присела рядом с ним.
– Не за что ему, – с раздражением произнёс Ляхов. – Не заработал твой муженёк. – Он поднялся. – Чо молчишь, Устин? Опять спишь, чо ли?
Устин обхватил мозолистыми ладонями кружку с компотом.
– Иди отдыхай, – сказал он Ляхову. – Иди, не порть людям настроение.
– Я-то пойду. – Ляхов остановился на пороге. – Терпеть не могу молчунов…
Дверь распахнулась, и в столовую вбежал студент. За ним вошёл Лёша.
– Куда прёшь, – Ляхов стал у него на пути. – Ты бы, Правдоискатель, научил будущего инженера культуре, чтоб не налетал на людей.
– Злой ты человек, Ляхов. – Лёша отодвинул его плечом, повернулся к студенту: – Проходи, Анатолий.
И этот тоже, зло подумал Ляхов, и этот чокнутый на Ляхова замахивается.
Он окинул крепкую Лёшину фигуру, плечи, натренированные многолетней работой: нешуточное дело каждую смену ворочать двухсоткилограммовые «свечи».
Выходя, Ляхов поймал напряжённый взгляд Устина. Положив на стол серые от раствора руки, тот глядел ему вслед узкими, словно бойницы, глазами. Ляхов хлопнул дверью, отсекая этот взгляд и стараясь забыть его, понимая, что в таком настроении ему лучше всего сейчас завалиться спать, но ноги сами тянули на буровую, он хотел высказать Коробову всё, что говорил утром Петухову. Стал подниматься на помост, но увидел мастера у лебёдки и передумал, пошёл отсыпаться…
Устин подвинулся, Лёша и Анатолий сели с ним рядом.
– Прихват? – спросил Лёша.
Устин кивнул.
Вошёл Женька, сел за соседний стол.
– Татьяна Львовна, двойную, соответственно комплекции…
– Ляхову тогда четыре порции есть надо, – заметил Лёша. – По комплекции, но не по справедливости…
– Только не философствуй, Лёша, погоди, – поморщился Женька, – аппетит перебьёшь.
Лёша не обиделся. Он ни на кого не обижался. И хотя давно уже вышел из того возраста, когда называют только по имени, гладкое лицо, круглые глаза, выражение доверчивого внимания мешали определить его возраст. Он относился к той категории людей, которые всё делают невпопад, не понимая этого, удивляя наивностью, и к которым, как правило, обращаются либо по имени, либо по прозвищу. Чудачеством выглядела и его неразборчивая отзывчивость. Он вечно ходил к начальнику экспедиции. чтобы похлопотать за кого-нибудь насчёт квартиры, детского садика или талона на дефицитные товары. Сначала его выставляли из кабинетов, потом просто перестали впускать, но это его нисколько не огорчало и желания помочь другим не убавляло. Правда, раскусив, что Лёша не тот таран, которым пробивают двери, многие перестали к нему обращаться, и всё же на каждом отчётно-выборном профсоюзном собрании кто-нибудь из новичков обязательно предлагал его в состав комитета, но при голосовании Лёша никак не попадал в выборные органы и нисколько от этого не расстраивался.
– Татьяна Львовна, компотик двойной. – Женька довольно откинулся. – Вот теперь можно и потрепаться. Как, инженер, а?..
– Спасибо, Татьяна Львовна, – сказал Анатолий.
– На здоровье, Толя, поправляйся.
– О, поправляйся… Жалеют тебя… А через два года станешь мастером или помощником мастера и начнёшь дрова ломать… – не отставал Женька.
– Это ты так считаешь, – вступился Лёша.
– Из опыта исхожу… Ты, студент, у Петуха учись. У него никаких институтов, семь классов да курилка на курсах повышения квалификации, но он главного инженера за пояс заткнёт.
– Что же он тогда, чуть какая авария, мастера или инженера вызывает?
– Э-э, студент, чему вас только учат… Петух – мужик хитрый, тёртый, битый. Устин, подтверди.
Устин кивнул.
– Петух не дурак шишки получать. Он начальство вызовет, будет советоваться да своё втихаря отстаивать, и так это подаст, что те за своё примут – и, если что не так получится, неожиданности разные, с них спрос…
– А как же совесть?
– Ребёнок. – Женька усмехнулся. – Начальство только так и надо учить. Теория – это блеф, студент, соль – в практике. У нас в зоне мужик сидел, золотые руки. Он тебе чо хочешь сделает, ручку, ножичек с пружинкой, часики, игрушку заводную… Между прочим, замки для начальства всякие разные делал, на гаражи, на дачи… Пять классов и три десятка сейфов – вся школа…