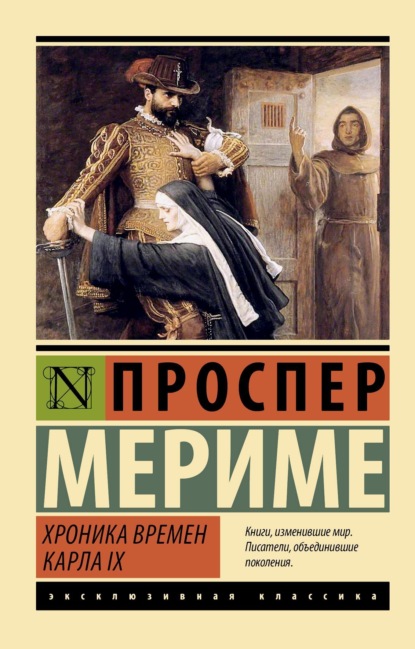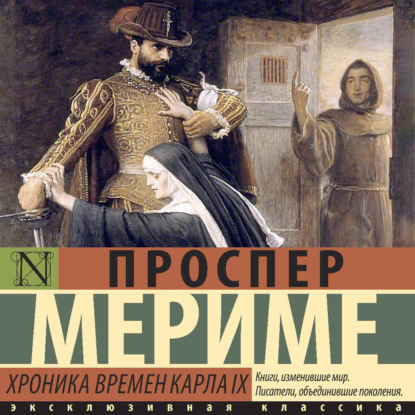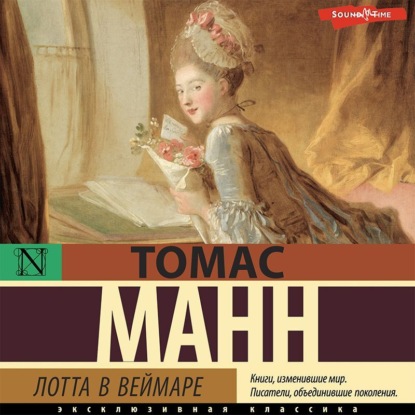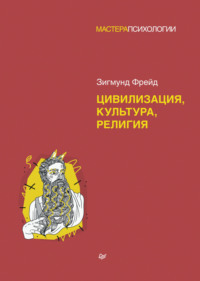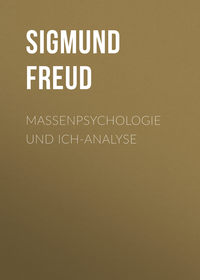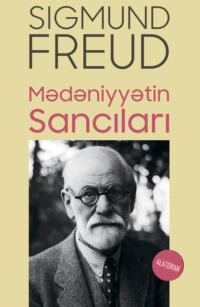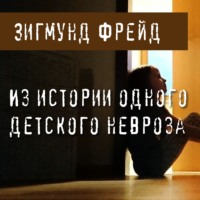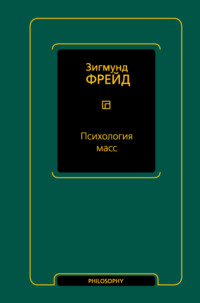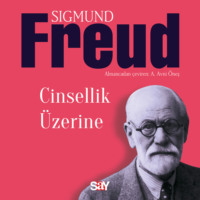Я и Оно
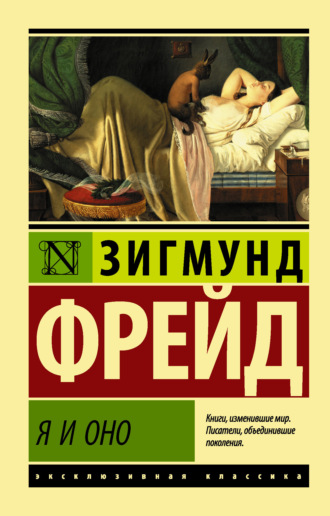
Полная версия
Я и Оно
Жанр: книги по психологииэссезарубежная психологияклассики психологиисаморазвитие / личностный ростпрактика психологиипсихоанализпсихотерапияпсихические процессыЗигмунд Фрейдпсихическое развитиепсихология, мотивация
Язык: Русский
Год издания: 2020
Добавлена:
Серия «Эксклюзивная классика (АСТ)»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу