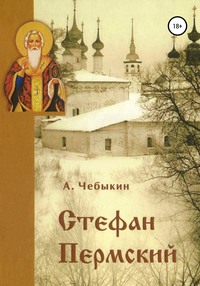полная версия
полная версияПобедители
Переполох
Шли 50-е годы. Маленков снял налоги с крестьянских хозяйств. Деревенские радовались этому больше, чем Победе. Наконец, можно было вздохнуть. Колхозники начали справлять свадьбы. Пошли байки: у Татьяны свадьба, Федор дочь выдает за тракториста из соседней деревни. Гуляли три дня. На четвертый дальняя родня разъехалась, а ближняя осталась. Похмелье, тяжесть во всем теле, Татьяна – хозяйка – стала сливать гущу из корчаг, бидонов, кувшинов. Все остатки пива и браги до кучи. Набралась трехведерная кадушка. Вылили туда остатки тройного одеколона, бутылку денатурата, который хранился для пользы». Часа через два смесь забурлила, запенилась. Хозяйка попробовала пальцем, сказала: «Можно пить, хорошая бражка». Все черпали кружками, морщились, но пили, заедая корками от рыбных пирогов. К вечеру, изрядно захмелев, начали поплясывать. Федор снял заслонку с устья печи, достал напильник «стал наигрывать: туны-таны-тан. Пляска завертелась. Закрыли окна тряпками, чтобы с улицы не подсматривали. Чем больше пили эту бормотуху, тем шибче скакали. Мужики поснимали штаны и рубахи остались в одних подштанниках. Где-то в средине ночи попадали на пол, кто где приткнулся, там и уснул.
Иван-свояк проснулся от сильной боли в голове и жжения в брюхе. Стал шарить вокруг, ища что-нибудь попить, но кроме рук, ног, голов ничего не попадалось. Еле встал на карачки, пополз. Дополз до угла. В углу стояла корчага с забытой опарой па оладьи. Иван наклонил, хотел попить, но ничего не текло. Кое-как засунул голову вовнутрь. Тесто было липкое, но приятное на вкус. Боль в животе стала утихать. Пробовал вытащить голову обратно, не смог. Корчага была крепкая обвитая берестой и залитая варом. Хмельной дух ударил в нос, в глазах потемнело. Иван ухватился руками за край корчаги, но снять не мог. Соскочил, закричал: «Люди добрые, помогите, замуровали». Но звук из корчаги раздавался глухой. Все мертвецки спали после трехдневной пьянки. Иван ощупью пошел вдоль стены, шараборя, наткнулся на занавешенное окно, решив, что это дверь, вместе с рамой вывалился под окно на ульи. Сшиб один улей, другой. Крышки слетели, растревоженные пчелы набросились на Ивана. Иван с диким ревом бросился бежать с корчагой на голове. Падая и поднимаясь, ничего не видя, пополз па четвереньках на звук, издаваемый рельсой. Бригадир собирал колхозников для распределения по работам. Когда Иван подползал к звонку, его заметили бабы. Тесто текло по груди, спине и ногам. Бабы, увидев такое страшилище, закричали: «Оборотень! Оборотень! Оборотень!» – и бросились бежать. Иван услышал крик, стал трезветь. Приподнялся и тут же наскочил на раскачивающийся рельс, подвешенный на суку. Корчага раскололась на части. Яркое солнце ударило в глаза. Иван на какое-то мгновение потерял сознание, ухватился за ствол березы и сполз на землю. Хватая ртом воздух, заснул под березой. Бригадир Степан признал в «оборотне» кума Ивана. Побежал по деревне звать баб, просил, чтобы прихватили с собой ведра с водой. Давай поливать Ивана. Тот отфыркивался и матерился. В деревне долго смеялись, вспоминая об Иване-оборотне.
Серко
В мае, за месяц до войны, Рыжуха ожеребилась. Деревенские бегали смотреть на жеребенка удивительной масти: белолобого, с вороными ушами, черной шеей, белым брюхом, серыми боками, по которым были разбросаны яркие рыжие пятна, с темной полосой по хребту и белыми чулками на ногах. Рыжуха была вся рыжая. Мужики дивились: Рыжуху водили на случку к породистому Воронку, у которого была белая полоса по лбу и белые щиколотки ног. Пацаны не отходили от красавца. Носились с ним по лугу от ручья к ручью. Он громко ржал, взбрыкивал вверх ногами, крутил хвостом-обрубком. Если, накупавшись в омуте, дети долго нежились в тени на песочке под старой ивой, то забияка незаметно подходил и начинал трепать чубы зевак, подтверждая этим, что хватит валяться, пора резвиться. И в ночное, когда отводили лошадей на луг, шустрик хорошо просматривался и сумерках своими яркими пятнами. Дети давали ему разные клички: и Маек, и Пятнышко, и Яблоко, – но в паспорт записали «Серко». Взрослые звали Серко, следом и малышня вторила Серко да Серко.
Первую военную зиму пережили сытно. За лето мужики, оставшиеся от первой очереди призыва, успели застоговать лугового сена, убрать урожай до осеннего бездорожья. На второе лето ребятня пробовала запрыгивать на Серко, но бабы ругались: «Куда лезете, спину сломаете, он еще не окреп». Вторую зиму было труднее. Мужики ушли на фронт. Овражки и луговины не косились. Выручило клеверное поле, кое-как свезли на сеновал перележалый клевер. На третье лето Серко запрягли таскать копны, попробовали пристяжным в жнейку, но услышав ржание и завидев лошадь, Серко начинал метаться, взбрыкиваться. Работа срывалась. Пришлось Серко охолостить, хотя мужики мечтали оставить Серко в производителях за его красоту, выносливость и понятливость. После этой процедуры Серко загрустил, сник, но к детям был по-прежнему ласков и притягателен. Мужал Серко – подрастали и дети. Но на четвертое лето, после полуголодной зимы, Серко вывели на свежую траву отощавшим и понурым. Те несмышленыши, которые три года назад резвились с ним, понукали его за плугом. К концу дня ноги у Серко дрожали, тело било ознобом. Не было сил тащиться до конюшни. Зерно в кормушку не попадало. Бабы окашивали запустевшие огороды, тащили из дома кто что мог, чтобы подкормить Серко.
В деревне остались две лошади: Серко и его мать Рыжуха, остальных лошадей отправили на лесозаготовки. Четвертая зима выдалась особенно тяжелой. Лето было дождливым, кормов на зиму не заготовили. Зябь пахали в слякоть. Рыжуха не вынесла перенапряжения: упала на пашне и более не встала. Осенняя тяжесть работ легла на Серко: возить снопы на ток, пахать огороды, отвозить зерно на сушилку по раскисшей дороге. В феврале замело дороги, овраги засыпало снегом. Серко голодал. Кормили гнилой соломой со старых конюшен. От голода Серко обгрыз прясла и косяки. Весной слег. Пришлось разобрать простенок, чтобы вытащить Серко на солнышко. Бабы стояли и вздыхали, видя, что их кормилец совсем заплошал. Нюрка Ваниха зашумела: «Что стоите? Если Серко не встанет, то и нам погибель. С сегодняшнего дня очистки от картошки приносить Серку». Бабы побежали по домам, тащили, кто что мог: отруби, старую картошку, молодую зелень с проталин. Нюрка Ваниха пошла в правление колхоза. Забрала у председателя лошадь и поехала в село на мельницу. Привезла мешок буса. Заваривала с картошкой и таскала по ведру Серко. Через две недели Серко поднялся, пошатываясь, лизал бабам руки. На весеннюю пахоту запрягать не стали. Ложбинки и крутяки остались невспаханными.
В День Победы Серко обвешали лентами и вывели на полянку к звонку. Посадили малышню в телегу, а сами гуськом отправились в отделение колхоза на митинг. Бабы обнимали Серко, приговаривая: «Кормилец ты наш, радость ты наша. Сами не съедим, но на зиму овса оставим, может, придется за ранеными и калечеными мужиками ездить на станцию».
Летом привели с конезавода двух годовалых лошадок, поставили в конюшню рядом с Серко. Не стар был Серко, всего четыре года, но военные годы износили его, подорвали живительные силы. Бабы Серко берегли.
Через три года на конном дворе бегало пять лошадок. В МТС появились новые тракторы и комбайны. Лошадей использовали только на подсобных работах. Менялась государственная политика – менялось и отношение к колхозам. Колхозы укрупнялись, деревни хирели и сиротели. Мужики, которых ждали с войны, не приходили. Солдатки, поднимая колхоз из разрухи и обустраивая детей, одна за другой уходили из жизни. Дети, подрастая, уезжали в город или на центральную усадьбу. Деревня пустела. Лошадей забрали. Оставили для старушек одного Серко. Старели солдатские вдовы, не дождавшись своих суженых с войны; дряхлел и Серко. Зрение стало ухудшаться, Серко начал слепнуть, но он охотно пахал огороды, умело вел дрозду, возил дрова из леса, находил дорогу только ему одному по известным приметам. Старухи добились решения прав правления: выдавать для Серко комбикорм. Сено не жевалось – зубы стерлись. Последнюю зиму Серко болел, жил в конюшие у Насти Ванихи. Настасья ухаживала за ним, делала теплое пойло. По весне слегла и Настасья. Постоянных жителей в деревне остались четыре старухи, остальные зимами жили у детей в городе, но к весне возвращались на свой косогор. На южном склоне снег стаивал рано. Огороды просыхали и прогревались. Старухи с восходом солнца копошились на огородах. Серко ходил от огорода к огороду, прислушивался к знакомым голосам и изредка подавал звук негромким ржанием, сообщая, что живой, мол, я.
Анна приехала из города, где жила у сына. В низинах снег таял медленно. Дороги развезло. Ноги вязли в грязи, котомка тянула назад. Навстречу ехал колесный трактор, проваливаясь в грязь по самые ступицы, следом тянул на веревке лошадь. Она оседала по брюхо в лужах, падала на колени, вставала и снова падала. Веревка безжалостно тащила ее за голову. Поравнялись. Тракторист – молодой парень навеселе – прокричал: «Здравствуй, тетка Анна!» Анна крикнула: «Ну-ка, добрый молодец, глуши машину. Ты что это животное мучаешь, изверг безголовый, куда тянешь коня?» Тракторист, хохоча, ответил: «На живодерню, куда еще? Отбрыкался. Кому он нужен, слепой и дохлый?» Конь услышал голос Анны, узнал ее и тоскливо заржал. Анна присмотрелась, ужаснулась: да это же се любимец Серко! Подбежала, обняла. Серко положил голову на ее плечо, и крупные горошины слез покатились Анне за ворот. Она целовала Серко в шею и плакала навзрыд, причитая: «Кормилец ты наш, до чего мы дожили с тобой?» Анна спросила: «Чей будешь?» Тракторист ответил: «Да Гришки Конина племянник, родня Ваша». Анна потребовала: «А ну-ка, родня, слазь с трактора, отвяжи Серко! Фашист ты, а не родня наша». Парень ответил: «Не ругайся, баба Анна, последнюю зиму он жил у Настасьи. Весенние воды унесли Настасью. Скончалась она. В деревне одни старухи. Ухаживать за Серко некому стало, да и он не работник».
Анна взяла Серко за повод приспособила котомку на спину лошади и повела его обратно в деревню. Серко повеселел, шел ровно. Анна дорогой разговаривала с ним, Серко будто чувствовал, что умирать он будет не на живодерне, а на своем угоре, где прошла его жизнь. Кто-то из старух увидел Анну с Серко, спускавшихся по косогору. Старухи сбежались, заохали: «Ты прости нас, Анна, весна пришла, Настасьи не стало. Мы как-нибудь доглядели бы за Серко, но тут приехал бригадир, а мы пожалились, что нет сил ухаживать за Серко. Он и дал команду отвезти его». Старухи плакали, плакала и Анна. Уходила жизнь из Серко, уходила она и из них. Серко был их памятью военного лихолетья.
Серко редко вставал, больше грелся на солнышке с южной стороны конюшни. Анна два раза в неделю бегала в отделение колхоза за свежим хлебом. Разминала булки в ведре, заливала козьим молоком, которое брала у соседки Пелагеи.
В тот год Ильин день объявили днем деревни. Съезжались все: молодые и старые – на свою прародину. Расставляли столы под березой. Вспоминали дедов, прадедов, бабушек и тех, кто ушел из жизни. Пели голосистые, протяжные старинные песни. Серко лежал посреди поляны. Малышня перекатывалась по его ребристой спине, мужики подходили, трепали по холке, девчата вплетали в гриву васильки и ромашки. У каждого из присутствующих что-то в жизни было связано с Серко: у кого-то мать или отца отвозил на кладбище, кого-то отправлял в армию, разукрашенный и разнаряженный, играл свадьбы, возил хворых в больницу, таскал сани с учениками в школу, на масленицу с криком и шумом катал деревенских. Глаза Серко уже не видели, но уши слышали, как говорили о Серко, а заодно и о своей молодости, и виделось Серко бездонное синее-синее небо, изумрудный весенний луг с золотисто-желтой купавницей и легкий ветерок перекатывался по огрубевшей коже… Сознание мутилось. Последние минуты жизни были светлы и приятны, как-то первое резвое радостное лето. Об одном тосковал Серко: несправедливо с ним обошлись, не оставил он после себя потомства.
На закате солнца стали расходиться. Анна подошла к Серко и прошептала: «Ну, родненький мой, и мы пойдем домой». Но Серко не шевелился. Анна заголосила: «Нет нашего кормильца, нет нашей кровинушки». Бабы стали успокаивать Анну: «Не плачь, Анна, время пришло ему». Парни и мужики загрузили Серко на волокушу и оттащили на окраину деревни, опустили в старую силосную яму, забросали землей. Баба Мария попросила у Бога прощения и отпела «Канун» в память о Серко. В следующее воскресенье приехали мужики, очистили упавшую поперек реки старую ветлу, под которой когда-то резвился Серко. Просмолили четырехметровый, в полтора обхвата столб, высекли на нем голову лошади и поставили на могиле в память об уходящем военном поколении.
Фермер
С 1980 года мы, бывшие жители родной моей деревни Чебыки, ежегодно в последнее воскресенье июня съезжались на «День Деревни». Встреча проходила на поляне под березами, где в бытность колхоза «Красная Звезда» народ собирался на мероприятия, а в старину – на игрища. Я заранее оповещал всех. В лесничестве договаривался о машине. В день праздника делал несколько рейсов на станцию Григорьевскую, отвозил пожилых односельчан. Молодежь отправлялась своим ходом, оглашал баяниста и трубача. Труба звонко пела «Слушайте все», и звук ее с высокого косогора летел на десятки километров по долине реки Ольховки. Я выступал с памятным словом о первых жителях деревни, перечислял поименно тех, кого уже не было с нами, и под удары в рельс – павших на полях сражения за Отчизну.
Заканчивал свою речь поэмой «О Чебыках», последние строки читал с пафосом:
Как хочется собрать
На «день Чебык» всех вместе
И поклониться прадедам и дедам,
В которых корень наш,
Наша святая память,
Чтобы помнили истоки наши,
Наш отчий край.
Зову, зову родную кровь
К священной памяти
На «день Чебык».
Затем шли тосты в память о родных и близких и делах житейских. Люди сетовали, что земля дедов и прадедов наших заброшена и некому за ней ухаживать. Места эти божественно прекрасны. Каждый говорил: «Эх, кто-нибудь взялся возродить эту землю».
Анатолий Деменев, внук дяди Мити, в своих выступлениях критиковал Советскую власть, что она не дает ему развернуться, что, если бы было можно, он оживил эти косогоры, вдохнул бы в них жизнь. Анатолий брал гитару, и народ примолкал, и он пел песню о Чебыках:
Разъехалась деревня,
Давно уж нет Чебык…
Остался лишь, как прежде,
На Родине родник.
Не мог он оторваться,
Как с дерева листок,
Не мог он с ней расстаться
И бросить свой исток.
Приду в Чебыки в начале лета,
Приду в Чебыки в начале дня,
Приду с сыновьим приветом
К тебе родимая мать-земля.
Приду с сыновьим приветом –
Настасьин ключик, напои меня!
Молодежь рассаживалась в кружок вокруг и начинала подпевать, когда замолкал, то его просили спеть «Настасьин ключик».
И так каждый год мы, бросившие родные очаги, с тоской и болью собирались на наше пепелище, где души наших предков витали над родными очагами.
Черный 1991 год. Разрушение одного из великих государств планеты, смена политического строя, распад экономики, развал колхозов и совхозов. Право на аренду земли, идея нового землепользования захватила Анатолия. Бросает интересную работу инженера-строителя огромного свиноводческого комплекса, около которого вырос современный городок Майский. Берет в аренду Чебыкские косогоры, как наиболее плодородную землю. Оформил ссуду на 50 тысяч. Закупил трактор-колесник, парую машину ЗИЛ-130, плуги, бороны, семена. Приобрел две коровы, десяток пчелиных семей. На месте родительского дома построил времянку. Сложил печку – каменку. Начал возводить плотину в низовьях ключика с расчетом, что в пруду будет разводить форель.
Неприятности начались в первый же год. Семья не поддержала его идеи. Жена отказалась выезжать из благоустроенной квартиры. Братья, которые обещали помочь, как-то быстро слиняли. Навещали его все реже и реже и то по выходным. Кое-как посадил десять гектаров картошки, гектаров пять пшеницы. На более сил не хватило. Построил баньку, начал возводить небольшой дом. Напасти пришли на второй год. Еле-еле реализовал урожай картошки в столовых. Продавать на базаре было некому, а самому времени не хватало. Я убеждал Анатолия, что без поддержки семьи все эти хлопоты пустая затея. Советовал Анатолию не строиться посреди косогора – в непогоду машина не поднимется по крутяку. Просил, чтобы строился на горе, около вышки – место веселое, продувное, удобное, ровное. На пятачке у вышки круглый год гудит ветер. «Купишь недорогой ветряк, сделаешь навес – и ты обеспечен электроэнергией. Пробуришь скважину, насос будет качать воду и для полива, и для нужд».
Советов Анатолий слушать не хотел и только твердил: «Только тут, на родовом имении». Вокруг на десятки километров заброшенные опустевшие деревеньки, кругом ни души. В лесах появились медведи, кабаны, лоси, бобры. Если в детстве про медведей и лосей слыхали, то про кабанов и бобров даже старики не помнили. Заброшенные луга заболотились, расплодились ужи и гадюки. На третью зиму Анатолия постигла первая беда. Зимой медведь-шатун раскурочил все ульи. Весной, в водополь, смыло плотину зарыбленного пруда. Осенью на косогоре перевернулась машина, Анатолий успел выскочить, машина скатилась в овраг и там осталась до морозов. В слякоть на тракторе полетела коробка передач, сорвало передний мост. Беда шла за бедой. На четвертую зиму не успел заготовить корма, лето было дождливое. Зимой коровы отощали, кормил гнилой соломой и ветками ивняка, как коз. Одну корову пришлось продать, вторая заболела, еле выходил, но молоко исчезло.
Пришло время платить налог и гасить ссуду, а в итоге – недостроенный дом, банька, продымленная избушка с маленьким оконцем и гитара. Анатолий на зиму устроился кочегаром в Перми. Денег еле-еле хватало па пропитание, пошел подрабатывать грузчиком на рынок и сторожем на базу. В результате перенапряжения и нервного срыва слег на три месяца в больницу. За усадьбой присматривать было некому, когда вернула, то увидел свое имение разоренным. Полы и потолки в строящемся домике, бане и конюшие были вырваны. Доски с крыш сорваны. От трактора-колесника остался один остов: колеса сняты, оборудование растащено. Машину под косогором кто-то поджег, на ее месте лежала груда оплавленного металла. Избушка разграблена. В углу осталась разбитая гитара с порванными струнами. Анатолий сел на чурбак, развел костерок, поставил на огонь смятый чайник и заплакал навзрыд. Встал на колени, рвал траву и криком кричал: «О Господи, за что?! Я же хотел восстановить память о наших дедах и прадедах, старался землю моих предков обустроить, но, видимо, не суждено!» Кое-как подправил гитару – нашел на завалинке запасные струны – и запел песни о Чебыках. Три дня находился в каком-то забытьи, пил только один чай на травах, душа не принимала пищи. Осенью его видели на станции, слегка покачивающегося, никого не узнающего. Люди пробовали его успокоить, разговорить, но он только бессмысленно смотрел мимо говорившего вдаль.
На седьмое лето, кое-как восстановив избушку и баньку, он с весны до осени жил на своей усадьбе, собирая ягоды и грибы, продавая их на базаре. Каждому встречному твердил: «Вот подкоплю денег, расплачусь с долгами, буду восстанавливать деревню». Но это уже были несбыточные мечты несостоявшегося фермера.
Разрушение и гибель моей деревни
Первый удар по устоям деревни пришелся на годы гражданской войны. Деревня невелика, тридцать два дома. Все родня, все однофамильцы, но гражданская война расколола деревню на две часто: одни – за красных, другие – за белых. Побогаче, позажиточней – в поддержку Колчака, хотя многие от него пострадали, но когда опомнились, было поздно, некоторые пошли за ним в Сибирь.
Но самую большую беду принесли разруха и безвластие. Половина жителей деревни умерла от тифа и испанки. 1921 год – голод, снова смерти.
Начался нэп – деревня воспрянула духом и за короткий срок окрепла. Сообща купили конную молотилку, две веялки, собирались приобрести трактор, по все планы деревенских мужиков рухнули с началом коллективизации. От второго удара деревня приходила в себя долго и болезненно. Большинство мужиков из нижней деревни подались в город на производство.
Перед Отечественной дела стали поправляться. Но снова оказия – началось сселение маленьких деревень. Многие деревни исчезли совсем. Это был третий удар в самое сердце деревни.
Четвертый удар нанесла Великая Отечественная война. За четыре года войны все могущие держать оружие ушли на фронт, а вернулись единицы. Но и на этот раз деревня выстояла. Потихоньку подрастало молодое поколение.
В середине 50-х годов я, молодой лейтенант морской авиации, приезжал в отпуск из далекой Советской Гавани. Обычно по такому случаю собиралась вся деревня. Жизнь кругом кипела. За рекой Ольховкой по ночам сверкали огни на буровых вышках нефтеразведки. За нижней деревней пыхтела лесопилка. Расстраивался новый поселок лесорубов. Часть рабочих жила на постое в деревне.
В середине 60-х началось строительство центральной усадьбы отделения совхоза.
В 70-х годах нефтеразведка переехала в другой район. Лес около деревни был вырублен. Поселок лесозаготовителей опустел. Дома разбирали и перевозили. Но зато усадьба отделения совхоза благоустраивалась. Тридцать новеньких коттеджей играли па солнце свежей краской. Построили начальную школу, клуб, детсад, медпункт, магазин, зерноцех, две фермы. Бульдозерами срезалось мелколесье и кустарник, раскорчевывались старые вырубки. Поля совхоза увеличились вдвое. А деревушка моя начала хиреть. Колхозники переезжали в новые квартиры на центральную усадьбу. К середине 70-х деревня опустела.
Я разыскал всех, кто когда-нибудь жил в деревне или их детей. Стали съезжаться со всех концов области на день деревни. Обычно я держал получасовую речь, напоминая об истории деревни, давая каждому жителю краткую характеристику. Людям это нравилось.
В начале 90-х началась перестройка. Это был пятый удар – смертельный. По-разному ее приняли сельчане. Одни, как мой соратник по организации дня деревни Анатолий Деменев – сорокалетний инженер-строитель, – обрадовались. В беседах он судачил, что коммунисты зажимали его инициативу, не давали самостоятельности. Старики, наоборот, возмущались, говорили, что в колхозы их загоняли силой и тридцать лет понадобилось, чтобы встать на ноги, обосноваться, а сейчас та же история – идет разрушение созданного. Люди отвыкли от труда в одиночку.
Анатолий взял в аренду сорок гектаров земли – всю территорию деревни с округой, где уже не было ни единого дома. Получил ссуду. Купил трактор-колесник, машину ЗИЛ-150, плуги, бороны, косилку. Завел пчел, коров. Начал рубить домик. Жил в землянке один-одинешенек. Жена отказалась бросать работу и переезжать из благоустроенной квартиры в землянку. Сыновья идею фермерства не поддержали, дочь тоже. И остался Анатолий один на один с пашней и хозяйством. Я убеждал его, что без жены и помощников ничего не получится. Внушал, что незачем забираться в эти косогоры, где нет дорог. Ни заехать – ни выехать.
Через три года перестройки, в свой очередной приезд, я увидел страшную картину разрушения. В усадьбе отделения совхоза оставалось с десяток жителей. Школа и детсад закрыты, медпункт и магазин не работали. От стада дойных коров отказались: доярки неделями пьянствовали, кормить и доить коров было некому, их рев разносился на всю округу. Оставили только телят. Через день им привозили барду – отходы с пивоваренных и спиртовых заводов. В совхозе более года не платили зарплату. Женщины совками собирали из корыт барду в ведра, добавляли дрожжи и пили эту одурманивающую жижу. И выпивка, и закуска одновременно.
Разыскивая своего однокашника, я встретил в поселке группу женщин, которые, обнявшись, шли посредине улицы, распевая разухабистые песни. Поравнявшись с ними, я оторопел: нечесаные волосы, босые грязные ноги, засаленные рваные халаты. Это было ужасно.
За опустевшими домами стояли раскуроченные тракторы и комбайны. Генераторы, стартеры, аккумуляторы, колеса, отдельные детали продавались за бутылку водки. Поля заросли бурьяном и мелколесьем. Ни одной борозды, ни клочка вспаханного поля. Запустенье и тоска.
На усадьбе фермера Анатолия я увидел заросшие сорняком две грядки картофеля и грядку моркови, размытую плотину пруда, за плотиной – валявшийся на боку колесник, около дома на взгорье – застрявшая в глубокой промоине машина с проржавевшей кабиной, недостроенный дом без окон с вывороченными половицами, разбросанные по склону ульи.
Это было начало и конец фермерству; разоренная усадьба, отделенная от совхоза, – укор и памятник перестройке. Кругом разрушение и бесхозность. И так по всей России. Наши отцы, деды, прадеды по кусочку отвоевывали у леса пашню, каждый овражек окашивали, все косогоры и увалы пахали, а сейчас – заброшенность и запустение.