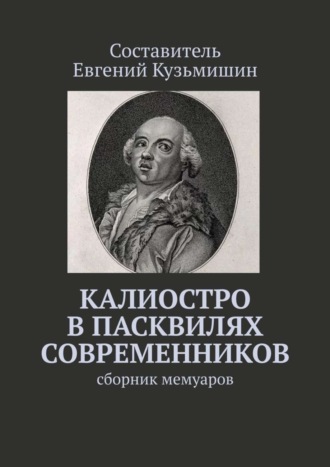
Полная версия
Калиостро в пасквилях современников. Сборник мемуаров

Калиостро в пасквилях современников
Сборник мемуаров
Составитель Евгений Кузьмишин
ISBN 978-5-4498-0407-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Калиостро в пасквилях современников
Составитель Е. Л. Кузьмишин
При содействии Национального державного святилища России и союзных стран Египетского масонства Устава Мемфиса—Мицраима
http://memphis-misraim.ru
Полковник. А теперь прочь!
Граф. Сударь, вы смешиваете с этим сбродом человека, который привык, чтобы его повсюду принимали с почестями.
Полковник. Повинуйтесь.
Граф. Невозможно для меня.
Полковник. Придется научить.
Граф. Путник, который всюду, куда бы ни приехал, сыплет благодеяниями.
Полковник. Увидим, увидим.
Граф. Которому надо воздвигать храмы, как божеству.
Полковник. Посмотрим, посмотрим.
Граф. Который утвердил себя повсюду как Великий Кофта.
Полковник. Чем же?
Граф. Чудесами.
Полковник. Так сотворите парочку-другую, скличьте своих духов, пусть они вас освободят.
Граф. Я недостаточно вас уважаю, чтобы показывать вам свою власть.
Полковник. Ловко придумано. Тогда подчиняйтесь приказу.
Граф. Я так и сделаю, чтобы доказать свою кротость, но вскоре я вновь явлюсь и открою вашему правителю такие тайны, что он с почетом вызволит меня, а вы будете скакать верхами перед каретой, в которой Великий Кофта вернется к славе своей.
Полковник. Увидим, увидим, вот только сегодня я никак не могу сопровождать вашу карету. Увести его!
И.-В. Гёте «Великий Кофта» (1791), акт V, явление 8.
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
«Граф Александр Калиостро» (1743 (?) -1795) – это не столько человек, сколько образ, понятие, химера, мем, – совокупность слухов, сплетен, частных предположений и авторских фантазий огромного количества людей, запечатлевших свои умозрительные построения в литературной и художественной форме с самыми разными целями, побуждаемые самыми разными мотивами и поводами. «Калиостро» – это маска, роль, театральный костюм из ателье проката, который никогда не знаешь, где обнаружишь в тот или иной день, и кто будет в него одет. Тот, кто даст себе труд прочесть все «канонические» для современной историографии полные биографии Калиостро (их не так уж много), обязательно заключит по прочтении, что у него не сложилось в воображении образа этого человека: детали распадаются, литературная ткань расползается по швам, мозаика не складывается в целостную картину, многочисленные документы противоречат один другому, наползают друг на друга и затмевают обзор. Каждый из авторов, изучая фактически одни и те же архивные и мемуарные источники, неосознанно формирует свой образ таинственного графа, но каждый из этих «авторских» образов разительно отличается от всех прочих, двоих похожих «виртуальных Калиостро» просто не встречается в природе. Одно дело – когда это касается беллетристики: действительно, сколь различны между собой образы Калиостро в рассказе А.Н.Толстого и в пьесе Г.И.Горина, в пьесах Екатерины II, Ф. Шиллера и И.-В. Гёте, в романе А. Дюма и рассказе М. Кузмина. И совершенно другое дело – когда совершенно разные «графы Калиостро» встают призраками над страницами академических биографических изданий видных и авторитетных специалистов, историков и культурологов.
Как сказано в акте о смерти графа, составленном 28 августа 1795 г. тюремным священником в крепости Сан-Лео, «nascitur infelix, vixit infelicior, obiit infelicissime»1 – «родился несчастливо, жил еще несчастливее, умер же наинесчастливейше». Так ли это? Тщательное изучение доступных в наше время историографических материалов приводит только к выводу о том, что нам доподлинно не известно, ни как он nascitur, ни как vixit, разве что мы имеем некоторое представление о том, как он obiit, но разве этого достаточно? Нет смысла приступать к новой авторской биографии этого человека, поскольку это значило бы попасть в плен собственных предположений и иллюзий, а уж сколько пало в эту бездну…
Было бы слишком большой банальностью сказать, что мало кто из исторических персонажей вызывал к себе столь диаметральные чувства: Калиостро повсюду сопровождали либо почитание, сравнимое с воздаваемыми одним лишь божествам почестями, либо ненависть и сотракизм, граничащие с преследованиями еретиков в самые темные века человеческой истории. Воспоминания современников о нем свидетельствуют об этом со всей очевидностью. В этой работе мы собрали мемуары – или целые книги и брошюры—памфлеты, или их большие отрывки, где тема Калиостро раскрыта полностью, – в которых те, кто виделся и общался с ним, выразили сложившееся о графе собственное мнение или просто пересказали потомкам бродившие по всей Европе байки и анекдоты о чудесном целителе, или сделали вклад в обдуманную и целенаправленную пропагандистскую кампанию, которую вели в интересах той или иной политической или общественной группы.
Многие стороны жизни Калиостро подробно и тщательно изучены его биографами и описаны в их трудах, хотя, как уже говорилось выше, нет в этой исторической фигуре ничего, что придало бы ей достаточно «плоти», чтобы она встала в один ряд с другими персонажами исторической сцены своего времени.
У каждого – свой Калиостро. На этом придется остановиться. По крайней мере, на какое—то время, до открытия новых документальных источников или иного какого чуда.
Е. Л. Кузьмишин, к.и.н.
Шарлотта фон дер Рекке
Описание пребывания в Митаве известнаго Калиостра на 1779 год
Елизавета Шарлотта Констанция фон дер Рекке (1754—1838) – немецкая писательница и поэтесса. После отъезда из Курляндии, где родилась и провела юность, поселилась в Дрездене, много путешествовала, оставила после себя несколько сборников стихов и путевых заметок, держала литературный салон.
Описание пребывания в Митаве известнаго Калиостра на 1779 год и произведенных им тамо магических действий, собранное Шарлоттою Елисаветою Констанциею фон дер Реке, урожденною графинею Медемскою. Перевел с немецкаго Тимофей Захарьин. В Санктпетербурге, печатано с дозволения Управы Благочиния у Шнора 1787 года
Ея Светлости Владеющей Герцогине Курландской и Семгальской
Светлейшая Герцогиня,
Милостивейшая Государыня!
С глубочайшим почтением вручаю я Вашей Светлости такое сочинение, коего знаменитая сочинительница, будучи сестра Вашей Светлости, столь тесною с Вами любовию сопряжена; сочинение, из коего содержания прозорливый разум Светлейшия Доротеи всю важность почерпнуть в состоянии.
Ваша Светлость, имея издавна привычку споспешествовать всему тому, что похвально и благородно, сверх того еще покровительствуете те старания, помощию коих суеверие и сумозбродство, под разными подлогами везде усиливающияся, обличаются и выводятся вон из общества. А для того Вы и одобряли рачительно непоколебимое правдолюбие знаменитой Вашей сестры, которая все случаи, крывшиеся под мнимою завесою таинства, совершенно наружу вывела, дабы чрез то предостеречь добросердечных людей от будущаго обману, которой над помраченными и мечтою зараженными умами весьма удачно действует. Ваша Светлость в знак Вашего благоволения изволили приказать, чтоб издатель сего сочинения Высочайшее Ваше имя в заглавии поставил. Что я и исполняю, присовокупляя только к тому чувствования глубочайшаго почтения, с коим пребываю,
Светлейшая Герцогиня Милостивая Государыня,
Вашей Светлости
всепокорнейший слуга
Фр. Николай
Берлин, 25 апреля 1787 года
Предисловие издателево
Почтения достойная сочинительница сей книги предприняла труд сей единственно из любви к истине, побуждаемая благородным желанием, насколько она будет в силах, удержать усиливающееся повсюду сумасбродство и необузданную привязанность к чудесам, или к так называемым таинственным наукам, которыя столь много обещают и ничего не приносят. При издании в свете сего сочинения, хотя большая часть настоящих ея друзей и приятельниц, а наипаче те, кои именами в оном названы, были на то согласны, однако же иные находили в том некоторыя затруднения. Иные думали, что такой обманщик, каков Калиостр, уже столько презрителен, что нет никакой надобности в его изобличении. Они разсуждали, что ни один разумной человек не дастся уже более ему в обман; следовательно, обнародование его обманов совсем, кажется, не нужно. Другие же, напротив, боялись, что сторона сего бродяги весьма еще была сильна. Они сверх того воображали, что многие из преданных другим магическим хитростям с ним соединятся, дабы сию, хотя сокровенную, однако же весьма распространившуюся, и от людей всякаго состояния поддерживаемую и с неистовым жаром защищаемую, систему показать свету некоторым образом достойною уважения; а для того и не безопасно открывать обманы Калиостровы. Они присовокупили к тому еще и другия затруднения, которыя им встречалися в разсуждении состояния, рода и положения сочинительницы и советовали ей дружески не выпускать в свет сего сочинения, а поступить лучше по примеру весьма многих людей, коим хотя довольно были известны злоупотребления, происходившия в умножившихся тайных собраниях и магических разнаго рода скопищах, однако же они при всем том молчали, не смотря на то нимало, что им совершенно было известно, сколь великое втечение имели сии злоупотребления, которыя хотя и примечены были кое—где, однако в настоящую оных причину никто не хотел вникнуть. Они советовали, дабы не навлечь себе какого огорчения, не мешать тому, что в свете водится. Наконец, заставляли вспомнить сию пословицу: «Que toutes les vérités ne font рas bonnes a dire» («Не всякую правду хорошо говорить»), и что, по крайней мере, поле ея того требует, чтоб всячески избегать злобных поношений той сволочи, которая привязана к оным изобличенным бродягам.
И так почтенная сочинительница вынуждена была рукописныя свои сочинения сообщить многим из друзей своих, живущих в Немецкой земле, а наипаче тем, коих отменной разум и испытанная откровенность ей были известны, дабы узнать, что они чистосердечно об оных думали. Большая из оных часть предвидела важныя следствия, которыя в пользу истины от сего свидетельства могут произойти, и весьма настояла, чтоб оное сочинение печати было предано. Сочинительница и мне зделала честь, потребовав моего на то совету. Я хотя того же был мнения, что явное обнародование может быть весьма полезно, между тем, однако ж, не упустил ей доложить, чтоб она хорошенько подумала, что самопроизвольное открытие просмотренных истин нередко сопряжено бывает с неприятными следствиями, которые я, по нещастию, опытом довольно знаю. Я не скрыл от нее и того, что для женщины сие может быть некоторым образом весьма предосудительно, чтоб впутываться в ученыя распри, которыя обыкновенно весьма редко с беспристрастием и благопристойностию оканчиваются. Но она весьма великодушно на сие отвечала, что она чувствует себя обязанною говорить истину, потому что никто, кроме ее, не может быть в таком положении, чтоб явно и безпрепятственно открыть сей обман, которым столь многие почтенные и правдивые люди были обольщены, а отчасти и до сих пор еще обманываются. Сверх того изъяснялась сочинительница, что она зрело размыслила, и все сообразила, что ей явно говорить позволяется, и о чем из особливой предосторожности ей еще молчать должно; а теперь, продолжала она, все сии затруднения, могущия произойти от сего обнародования, о коем я тщательно размышляла, теряют свою силу, по той причине, что я совершенно уверена о справедливости моего поступка, от коего всегдашния пользы ожидать должно. Наконец, уверяла она с удивительною твердостию, что, по зрелом соображении, всех оных возражений твердо предприяла она выдать в свет свое сочинение, каково бы оно, впрочем, ни было; и в то же время зделала мне честь своею доверенностию, чтоб я был издателем онаго, а наипаче бы старался разныя перемены и прибавления, которыя она ко мне пересылала, поместить в надлежащих местах. При том она усильно мне наказала, чтоб я в предисловии онаго непременно издателем себя назвал.
Я надеюсь, что всякой примечательной читатель везде может усмотреть в сем сочинении владычествующие следы безпристрастия, чистосердечной откровенности, благопристойности и яснаго соображения. По щастию, весьма много истине способствовало то, что знаменитая сочинительница в 1779 году, в тоже самое время, все Калиостровы предприятия, а сверх того и свои тогдашния разсуждения, для собственнаго своего употребления записывала. Откровенное чистосердечие, с которым она каждое обстоятельство, даже и самое малейшее, замечала, делает повествование Калиостровых замыслов столь верным и столь ясным, что нет в нем никакого недостатка. Впрочем, из записок 1779 года ясно видно, за какого чуднаго человека почитала тогда сочинительница Калиостра; из них можно заключить, что она ничего с умысла ко вреду его не написала; а из того рождается совершеннейшая доверенность к ея сочинению.
Но ежели разсудить, с какою обыкновенно силою однажды напряженное воображение начинается и продолжается, то удивиться надобно твердости духа, с коим сочинительница посредством глубокаго размышления и беспристрастнаго изследования от таких предразсудков могла освободиться. При всем том, однако ж, сия редкая духа твердость не так бы скоро могла знаменитую сию женщину привести на истинной путь, ежели бы непоколебимыя ея правила нравоучения, на которых основывается мудрый ея закон, не подали ей помощи. Сие легко усмотрится по прочтении со вниманием записок 1779 года. Хотя она в то время питала в себе высочайшее мнение о Калиостре, хотя душа ея преисполнена была пустою надеждою видеть духов, и хотя она в сих мыслях имела неограниченную доверенность к сему чудотворцу, однакож нежное ея и добродетельное чувство ни на одно мгновение ока ее не оставляло. Сие чувство тотчас открыло ей глаза в разсуждении сего обманщика, когда он нечаянно некогда снял с себя личину высокия добродетели, чрез которую он и доверенности ея удостоился; а имянно она приметила в нем некоторую склонность к мщению. Сие благородное расположение души, сие неповрежденное чувство нравов напоследок такую возымело силу в добродетельном сердце Элизы, что обманщик сей уже в настоящем своем виде взору ея представился. В примечаниях, писанных в 1787 году к первой записке, также всякому покажется удивительна острота ея разума, где она с таким искусcтвом умела изобразить перемену собственных своих понятий; так что мы ясно видим, каким образом любовь к истине и столько же искренния, сколько и разумныя, о законе понятия, избавили наконец благородную ея душу от сумозбродных предразсудков. Откровенность, которая видна в чистосердечном признании прежних ея заблуждений в предосторожность другим, которые еще впредь могут быть обмануты, заслуживает глубочайшее почтение от всякаго человека, любящаго истину. Кажется, не для чего спрашивать, полезна ли, или еще и нужна ли, такая предосторожность, когда всякой знает, что умышленной обманщик (которой еще, по-видимому, без всякаго сумнения, нарочно послан от самаго коварнаго общества, для положения основания какому—нибудь будущему предприятию) посредством самаго грубаго и ощутительнаго2 обмана совершенно прилепил к себе немалое число весьма почтенных, чистосердечных, разумных впрочем и благомыслящих людей, единственно для того, что они при пылком воображении уже прежде весьма сильно вникли в систему магических предразсудков и издавна основали на ней мрачныя ожидания чудесных произшествий.
Всякому известно, сколь великое мнение произвел о себе во многих людях обманщик сей в Петербурге3, в Варшаве, в Страсбурге, в Лионе и в Париже, какое множество имел он сообщников, да и теперь еще некоторые люди не стыдятся выдавать его за необычайнаго человека. Таинственныя и магическия системы разных родов, без сумнения, еще во всех землях весьма в употреблении. Оне столько же действуют в людях, сколько суеверныя чувства в законе, которыя воспламеняют сердца толикаго множества добродушных людей, не делая в разуме ни малейшаго просвещения; так что дух весьма легко заражается темными и лживыми мечтаниями, которыя тогда всякому коварному обманщику отворяют путь во глубину наидобродетельнейших сердец. Кто ж бы такой мог иметь больше права предостеречь от сих вредных действий збивчиваго воображения, кроме той, которая, будучи друг истине, сама над собою печальный опыт делала! Кто может с большим успехом в сем случае дать наставление, нежели сия любительница правды, которая родом, великою душою, основательными познаниями и истинным благочестием заслуживает величайшее почтение!
Судя по нашим временам, я имею добрую надежду, что благородная откровенность сей любительницы истины возымеет весьма спасительное действие, а наипаче когда светлыя и ясныя понятия столь часто помрачаются таинственными мечтаниями, и когда сии таинственныя мечтания, сия питаемая пустым мраком надежда столь сильно ко вреду множества откровенных сердец над ними действует. Может быть, сим примером и другие ободрятся с такою же чистосердечною любовию к истине обнародовать свои мысли о таинственных обетах и о магических обманах. Сие, без сумнения, будет самое верное средство против распространившагося вреднаго действия сих бредней, которыя, конечно, гораздо больше имеют силы, нежели истинное любомудрие, и которыя тем больше час от часу усиливаются, чем сильнее сила воображения мнимою надеждою к чудесам напрягается, и чем меньше прилагается старания к изобличению всегдашняго плутовства.
Сверх того, обыкновенная в таких случаях скрытность, что редко кто захочет после сам о себе подумать, или другому открыть, каким он образом был обманут, подает всегда больше поводу предприимчивым людям играть вновь с небольшими лишь переменами ту комедию, которую уже раз им удачно сыграть случилось, и тем больше привлечь людей на свою сторону, нежели как представить себе можно. Я очень знаю, что о таких делах для разных причин трудно все говорить. Да и теперь, ежели бы почтенная Элиза разные случаи без всякой пощады, которая некоторым образом до сих пор была нужна, имела способы обнародовать, то бы смелость обмана, хитросплетенное расположение и дальнейшее намерение обманщика или пославших его еще гораздо яснее могли быть изобличены. Защитники сих магических систем, а наипаче те предприимчивые люди, которые с помощию оных столь удачно умеют пользоваться легковерностию людей, весьма тем себя утешают, что обманы их никогда со всех сторон открыты быть не могут, и что они без всякаго опасения на многое отважиться в состоянии. Но для того то правдолюбивые люди, которые, конечно, уверены, что, по их примеру, другие могут себя предостеречь и не должны молчать, по крайней мере, о том, что сказано быть может. Ежели бы таких примеров было больше обнародовано, что сии мнимыя чудеса не что иное суть как обман, да и обман еще самой грубой, то бы все сии сумозбродныя мечтания мало—помалу сами собою исчезли, и никто бы не захотел тайными и суеверными средствами выше естественнаго возвыситься духом, а старался бы всякой влиянныя в него от творца силы с разумом и по предписанному Богом порядку употреблять. Монтань, великой знаток в людях, говорит4: «Хотя бы мы и на ходули влезли, однако ж всякой знает, что мы на них ходим также ногами».
Я бы мог еще много говорить о Калиостровой неудобопонятной магической системе5 (которая хотя и наполнена темными и обоюдными загадками, однако ж я ее нарочито понимаю), также о весьма удивительном ея согласии с столь славною и весьма малым числом людей понимаемою книгою «Des erreurs et dе la veritе»6. Мне во многих местах сего сочинения, из коего ясно видно, с какою хитростию всегда старался Калиостр свою магию согласить с Христианским законом7, часто приходило в голову, чтоб объяснить вредныя следствия, которыя могут произойти, ежели ложь с истиною, ежели збивчивыя и таинственныя магическия воображения с чистыми и ясными понятиями закона душевнаго, благочестиваго и мудраго Христианства столь хитрым образом будут связаны. Неустрашимая сочинительница и в сем случае ободряла меня к открытию моих мыслей; но я по зрелом размышлении за лучшее почел, чтобы к оному сочинению никаких примечаний от себя не прибавлять. А только надобно мне здесь к зделанному на 49 странице введения примечанию упомянуть, что о мнимом алхимисте, Надворном Советнике Шмиде в первой тетради покойнаго господина Советника Карстена, в физиохимических сочинениях (в Галле 1787, вол. 8, стран. 84 до 92) находится примечание, где также доказывается недельность мнимых его замыслов.
Наконец, я думаю, мне позволено обратиться к тем, которые с некотораго времени всегда столь решительно держали сию сторону и которые столь жестоко горячились, когда кому—нибудь вздумается умными очами взглянуть на сии помраченныя чувства, на сей таинственный бред и на сию пустую надежду увидеть чудесныя тайныя действия; к тем, которые до сих пор лучше хотели верить неудобопонятному вздору и неограниченным мечтаниям напряженнаго воображения, нежели благоизобретенным правилам спокойнаго разума! Смею ли я им напомнить, что непоколебимая и необманчивая любовь к истине, сопряженная с состоянием и родом благородной сочинительницы, по крайней мере, в сем случае, без сумнения должна несколько поумягчить их неудовольствие, или, по крайней мере, положить оному границы, которыя они до сих пор иногда преступали. Смею ли привести им на память, что они и сами, ежели им удастся одержать над собою победу, без сумнения великую от того получать пользу, потому что тогда одержит верх спокойное размышление и безпристрастное изследование, которое, конечно, подаст повод к заключению союза между такими людьми, коим бы не было тогда никакой причины друг друга ненавидеть, ежели бы с обеих сторон любовь к истине была первым предметом. Положим, что один или другой не в состоянии бы был одержать над собою сию победу, то, по крайней мере, пусть он вспомнит, что в таком случае не о благомыслящей, откровенной и правдолюбивой сочинительнице, но об нем должно будет сожалеть; пусть он вспомнит, что есть и кроме него такие безпристрастные и почтения достойнейшие люди, которые мало делают шуму, но с осторожностию и с безпристрастием обо всем судят; похвала их и нарекание не бывают скоропоспешны и проходчивы, но всегда основательны и постоянны; а для того то они только одни и дороги для человека, любящаго истину, которой общественной пользе себя посвящает.
Фридрих Николай
В Берлине
25 Апреля 1787 года
Друзьям моим и приятельницам в Курландии и в Германии
Здесь видеть можно записки о Калиостре, которых издания некоторые из друзей моих и приятельниц желали, а некоторые опасались. Вам, почтения достойнейшие мои друзья, коих желание изданные в свете сии листы могут удовольствовать, я ничего более не скажу, как только то, что я охотно повиновалась вашему ободрению зделать сию жертву истине; ибо сия же самая истина меня в том уверила, что закон и добродетель от меня требуют открыть свету часть известных мне обманов, и чрез то предостеречь множество добрых людей, чтоб они не попали в ту пропасть, от которой провидение меня избавило.
Ваше ободрение, дражайшая бабушка8, принесть в предосторожность другим пред целым светом верное признание в прежних моих суеверных мечтаниях, весьма много способствовало к исполнению желания друзей моих. Колико безпокойств, колико огорчений ощутило матернее ваше сердце, видя меня замешавшуюся в такое общество, коего Калиостр был начальником. Ты любезная мать, ты тотчас проникла человека, на коего дитя твое и некоторые из ея друзей как на пророка Божия взирали! Боже, дай, чтобы сия из глубины сердца вопиющая благодарность, которую я теперь пред целым светом за мудрые ваши советы вам воздаю, которых однако ж я, погруженная во тьме суеверия, внимать не хотела, чтоб благодарность сия, говорю я, возмогла истребить из вашего матерняго сердца то огорчение, которое я некогда в моей жизни вам причиняла! Я же, с моей стороны, тем с большим веселием буду благодарить Творца моего, взирая на сие прошедшее время, потому что оно было мое воспитание, оно научило меня в безопасности по свету странствовать, и показало мне путь к вечности.
Теперь я к вам обращаюсь, дражайшие мои друзья и приятельницы, которым для разных причин желалось, чтоб я сие сочинение уничтожила. Сие желание ваше родилось, без сумнения, от попечения вашего о моем спокойствии; но была ли бы та душа достойна вашего дружества, которая бы из малодушия или от мягкосердия захотела отстать от такого предприятия, коего польза рода человеческаго требует? Не советь ли наша отдает нам справедливость? И истинное блаженство человека не от него ли самого зависит? В таком случае, может ли что—нибудь значить площадное мнение? Итак, не опасайтесь, дорогие друзья мои, не опасайтесь о моем спокойствии, поелику я ни чрез какой постыдной поступок себя не обезславлю и ни единаго шага такого не зделаю, которой бы мог меня о самомалейшем моем деле привесть в раскаяние. Опыт и разум уверяют меня, что издание сего сочинения будет полезно роду человеческому; и ежели совесть моя запрещает мне о нем молчать, то я охотно повинуюсь гласу, повелевающему мне принесть истине сию жертву. Положим, что я подам чрез то повод к насмешкам неправедных кривотолков; но они меня нимало тронуть не могут, кольми паче отвратить от моего намерения, потому что я пред Богом могу сказать, что одно лишь желание избавить добродетельныя души от повреждения вложило в меня смелость при теперешнем случае, когда суеверие и сумозбродство зделались столь обыкновенны, самой уверить моих современников, чтобы каждой человек, попавшийся на путь желания к чудесам и к сверхъестественным силам, по коему и я некогда странствовала, мог видеть, куда он его ведет. Вся моя прозьба до вас! – чувствительные друзья мои, а особливо до вас! – еще больше чувствительныя приятельницы, состоит в том, чтоб вы с такою же холодностию принимали недоброжелательные толки о сем сочинении, с какою я сама их принимать буду. Будьте уверены, что незаслуженная похвала лишь одна в состоянии возмутить мой покой, справедливая же хула – никогда; и что пока я буду иметь место в добродетельных ваших сердцах, чем я уже несколько лет имею щастие наслаждаться, до тех пор ничто не в силах нарушить моего спокойства. Ибо обладание дружбы вашей несравненно для меня дороже, нежели толки тех, которые мне ни чести, ни безчестия зделать не в силах, потому что они не ведают побудительной причины моих поступков.




