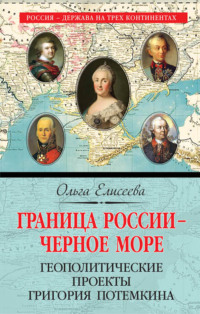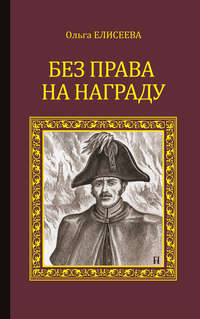Полная версия
Личный враг Бонапарта
Можно было побиться об заклад, что сегодня графиня не заснет. А вот сможет ли взяться за перо? И решится ли передать? Другой вопрос. От этого зависело дальнейшее поведение кавалера. Или перейти к стихам. Или…
Яна не решилась. В самый неподходящий момент к ней постучалась кастелянша и прочла возвышенную проповедь о семейных добродетелях.
– Только когда Господь освободит вас от обязанностей супруги и матери, – сказала тетушка, – которыми вы более должны себе самой, чем людям, только тогда вы сможете считать себя свободной…
Ей, вдове, легко говорить!
Но полковник, не получив письма, сделал единственно возможный шаг. Жестокосердная дама должна была взревновать. И предмет был избран правильно – единственная женщина, которой Анна могла позавидовать.
В Белостоке нашло прибежище целое семейство французских эмигрантов – герцогов Бассомпьер. Глава, мужчина лет пятидесяти. Его двадцатилетняя жена. Их дети – Пьер и Лизетта – с бабушкой, непонятно по чьей линии. Оба супруга почтительно именовали ее «матушка», а та с не меньшим энтузиазмом отчитывала зятя, чем дочь, или сына, чем невестку. Молодая герцогиня не имела имени, все называли ее: «Ваша светлость». Это была миловидная кобылка, славившаяся среди обитателей замка великосветскими манерами.
Что-то в этих манерах смущало Бенкендорфа. Его с детства учили, что простота не роняет достоинства, а вот от чванства за версту несет выскочкой. На его взгляд, образчиком истинного аристократизма была все-таки кастелянша.
– Что ты о них думаешь? – спросил как-то Толстой. – Эти принцы в изгнании всегда смахивают на авантюристов.
Сам граф полжизни провел в полку и был простоват. К тому же москвич. Мнение воспитанника вдовствующей императрицы его очень интересовало.
– Нахлебники, – отрезал Бенкендорф. – Выдают себя не за тех.
– Кастелянша тоже так думает, – кивнул Толстой.
– Тогда почему же она их держит?
– Из деликатности. Надеется, что ее благодеяния разбудят в них совесть.
– Вы ее предупредите, что оберут.
– Да я сказал, – махнул рукой граф. – Она на меня взглянула как на вахлака.
Именно герцогиня Бассомпьер стала предметом короткого и успешного натиска Бенкендорфа. Она имела перед Анной то ничем не исправимое преимущество, что родилась в Париже. Или делала вид, что родилась. Этот экзотический цветок страдал даже от прикосновения грубого воздуха севера. Но самое ужасное – ей постоянно терло белье, вонявшее польским мылом.
Однажды Яна не выдержала и, напустив на себя наивный детский вид, осведомилась, чем гостье так не нравится запах мыла.
– Ничем, – Бенкендорф успел ответить прежде, чем герцогиня скорчила страдальческую мину. – Просто в Париже белье не стирают. Его поливают духами, а когда пот уже ничем нельзя перебить, выбрасывают.
Яна воззрилась на полковника в ужасе.
– Мы экономнее, – постаралась сгладить ситуацию кастелянша. – Да и где кружева напастись?
– Надобно жить в Версале, чтобы понять всю абсурдность ваших суждений, – надулась Бассомпьерша.
– Но сейчас вы живете здесь, моя дорогая, – Бенкендорф уже говорил с ней на правах интимного друга. С нежным упреком и какой-то необъяснимой для третьего лишнего короткостью.
Самое удивительное, что герцогиня заткнулась. Две ночные прогулки среди фальшивых руин в саду, и какое облегчение!
Полковник не боялся, что разъяренный супруг вызовет его на дуэль. Не те люди. Замнут между собой. Да и полно, герцог ли он? Муж ли этой женщине?
Когда при свете луны Александр Христофорович весьма ловко завалил спутницу на мраморную скамейку, она показала невиданные для приличной дамы мастерство и проворство. Оба остались довольны. На следующий день полковник прислал ее светлости жемчужную брошь, которую та не постеснялась принять и даже надеть на следующий бал. Ну что тут скажешь? Воспитание.
Однако Яна страдала. Его маленькая принцесса чувствовала свою грубость и вульгарность рядом с утонченной побирушкой. А видя, как красиво пара ее вчерашнего рыцаря и более сговорчивой герцогини кружит по залу, готова была кусать локти: «Он мой! Ведь он мне написал: жестокая!»
Надо было отвечать. Теперь ее несостоявшийся кавалер вовсю ухаживал за наглой Бассомпьершей: приносил ей воду, приглашал на мазурку и держал себя не робко, как с Яной, а нежно и покровительственно.
Потоцкая попыталась сама кокетничать. Но было не с кем. Ее муж находился в Варшаве и не проявлял к жене особого интереса. Французы ушли. А любому русскому из дипломатической миссии Толстого Бенкендорф давал фору.
«Смирись, – как будто говорил он. – Я – лучшее из возможного».
* * *«Я забыла, и в этом была моя главная вина, что у молодой женщины не может быть другого близкого человека кроме мужа. Но в таком случае почему же мой муж не заставлял меня об этом вспомнить?».
Анна ПотоцкаяТем не менее гордость дамы не должна была пострадать. Она придет, сложив к его ногам оружие. Но внешне все должно выглядеть так, будто кавалер сам изгладил вину и добился прощения.
Полковник переписал из Расина возвышенные стихи, чтобы послать их непреклонной богине. А сам устроил в небольшом поместье поблизости от Белостока бал в честь хозяев. Дело оставалось за малым – добиться согласия Анны почтить своим присутствием скромный деревенский праздник. И тут на Шурку снизошло озарение: он решил действовать через молоденькую лектрису, тоже француженку, но добрую и без спеси. Яна удостаивала эту девушку дружбы.
Небольшая сумма и самые уважительные, самые благонамеренные уговоры. Мадемуазель Дюшен взялась исполнить поручение и привезла-таки маленькую принцессу на бал, предварительно поклявшись, что Бассомпьеров не будет, что верный рыцарь раскаивается в своих заблуждениях, что он не может более противостоять собственному сердцу…
Анна приехала и не была разочарована. Она стала царицей. От нее не отходили. Любое, самое вздорное желание исполнялось неукоснительно и в мгновение ока. Казалось, попроси она звезду с неба, и Бенкендорф принес бы в горсти!
Наконец, чтобы вознаградить его покорность, принцесса согласилась на прогулку после танцев. Разумеется, втроем. Лектриса шла сзади, стараясь даже шелестом гравия на дорожке не напоминать о своем существовании.
Потом была чудная ночная поездка, когда рыцарь верхом сопровождал их открытую карету-гондолу до самого Белостока. И все не мог глаз отвести от матово белевшей в темноте руки, покоившейся на кожаной подушке кресла.
– Смотрите на дорогу! – дразнила его Яна. – У нас встречаются рытвины. Можно вылететь из седла!
Ему, кавалеристу, вылететь из седла? Не смешите!
В эту ночь все решилось. Он любил ее нежно и страстно. Она оказалась не готова. Муж не научил графиню и половине нужного. Но Бенкендорф не жалел. Его любовница обратила неопытность в достоинство и тем еще больше разожгла пыл.
Утром Яна плакала. Не слезами раскаяния, а от полноты охватившей жизни.
– Вы погубили мою репутацию! – в ее голосе было больше кокетства, чем упрека.
– Только потому, что вы сами никак не могли на это решиться.
Она засмеялась.
– Но мой муж…
Дальнейшее его не интересовало.
– Мужья сами бывают во всем виноваты. Нельзя же думать, будто церковное благословение дает им право на лень.
Графиня грациозно повернулась к любовнику и провела пальцем по его усам.
– Знаешь, мне повезло. Мог бы попасться старик, урод. Наша судьба не в пример лучше, чем у других. Потоцкий красив, добр, но…
«Скучен», – мысленно подсказал Шурка.
– …мне всегда хотелось большего. В юности я вколотила себе в голову, будто страстная любовь сделает нас счастливыми. Будто я должна соблазнить мужа.
«Неплохая идея! Всем бы дамам такое прозрение!»
– Мне было пятнадцать. Что я могла? Позвала его гулять при луне у пруда. Он сказал, что там комары.
Бенкендорф рассмеялся. Знакомая картина!
– Хотела заставить ревновать и написала сама себе пылкое письмо с признаниями, как бы от воздыхателя. Мою тайну раскрыли и очень строго выбранили. Думаю, этой выходкой я погубила себя в его глазах.
Александр Христофорович взъерошил ей волосы. Есть на свете дураки! Если бы ему попалась такая большеротая глазастая девочка, способная в пятнадцать лет написать себе любовное послание, чтобы возбудить мужа, он бы не стал ее ругать. Страстность в просыпающейся женщине – не худшее качество.
– Теперь вы умеете больше, – мягко сказал полковник. – И я знаю, гораздо увереннее в своей красоте. Поезжайте в Варшаву и, пока не поздно, уложите мужа у своих ног. Он будет вам благодарен.
Яна испытующе посмотрела любовнику в глаза.
– Поезжайте? Через границу? Неужели вы думаете, что я осталась бы здесь? Ведь там не только муж. С ним двое моих детей.
Проклятая война!
– Я достану вам разрешение. Ведь у вас земли и в герцогстве Варшавском.
– Вы сделаете это для меня? – она взвизгнула от радости и обняла его уже без кокетства.
– Конечно, сделаю, любовь моя. Нет ничего, что я не хотел бы для вас сделать. Исключая шпионаж и восстановление Польши.
Она чмокнула его в нос.
Бумага была подписана Толстым и еще кое-какими русскими властями.
– Я буду вас помнить.
– Выбросите из головы на первом же повороте.
Они расстались без взаимных подарков, но с самыми теплыми чувствами.
Вскоре и дипломатическая миссия Толстого должна была отправиться в путь. Граф велел Бенкендорфу ехать в его карете. Кастелянша под самый верх загрузила экипаж пирогами, холстом для рубашек и пресловутым польским мылом.
Некоторое время отец-командир молчал, погруженный в приятные воспоминания. Потом посчитал, что настало время распечь подчиненного.
– Ну и что мы теперь будем делать? Ваша слава побежит перед нами в Париж?
– Какая слава? – невинным голосом отозвался Бенкендорф.
– Не выкручивайтесь. Вы соблазнили не прачку. Внучатая племянница короля! Да знаете ли вы… Знаете ли, что ее сватали за герцога Беррийского, последнего Бурбона? Что за ней ухаживал сам Мюрат, и она ему отказала? Что Бонапарт в Варшаве каждый вечер приглашал ее за карточную игру в числе очень узкого круга августейших лиц…
Конечно, знает.
– Вам мила слава русского Казановы? – не унимался Толстой. – Зачем нам Казанова в Париже?
«Сведения», – вздохнул Бенкендорф.
– Вы меня совершенно разочаровали, Александр Христофорович, – заключил граф. – Я всегда считал вас положительным и достойным доверия молодым человеком. Пылким, но положительным. И ее величество императрица-мать явно будет недовольна.
«Вот что его беспокоит!»
– Вы можете быть абсолютно обнадежены на сей счет, – вслух произнес Бенкендорф. – Вам известно, что у меня есть ряд поручений от его величества, свойство которых я не имею права разглашать. Для их исполнения я просто обязан приехать в Париж так, чтобы еще до нашего появления в Мальмезоне рассказывали басни о внучатой племяннице польского короля, отвергшей Мюрата и не отказавшей скромному полковнику.
Толстой надулся. Для него было оскорбительно, что кто-то из подчиненных имеет миссию, секретную для главы посольства. Но Петр Александрович недаром слыл человеком добрым и простым. Он крякнул, хлопнул Шурку по колену и уставился в окно, вновь переживая прощание с кастеляншей.
Глава 3. Маленькие радости
«Желанием честей размучен, Вперед я слышу славы шум».
Г.Р. ДержавинСентябрь 1807 г. Герцогство Варшавское.
Какая честь тащиться после поражения в Париж? Какая слава?
В начале похода они видели себя победителями. Не допускали и мысли о разгроме. Принимали от дам поручения к французским модисткам. Обещали привезти Бонапарта в клетке. Не как зверя. Как канарейку!
Пели: «Вспомним Матушку-царицу…» Вспомнили! Мордой в грязь.
Старички могли теперь хихикать. Им, увитым лаврами екатерининских побед, все было ясно: не корсиканец силен, молодые пошли – дрянь. Весь рассвет нового века болтали о чести, правах и личной свободе. Не почитали монарха. Тем более монархиню. Великую государыню! Перед которой в Европах дрожал каждый лист!
Ставили ей в вину амурные похождения. О, конечно, теперь каждый помешан на целомудрии жен! Как раньше, в век Вольтера, были помешаны на мудрости. Посмотрим мы на ваших жен, как француз придет! Наших, по крайности, ни турок, ни швед, ни поляк тронуть не могли. Не то, что жен наших отцов. Мы – золотое поколение!
Так говорили они, качая уже не напудренными, а седыми головами и вспоминая, как гордо эти самые подагрические ноги попирали камни бастионов Ени-Кале и Кинбурна. Как легла под копыта коней Варшава. Как трусил ввязаться в драку северный сосед, а когда отважился – полетели клочки по закоулочкам.
Было время! Теперь не то. Все из-за сопляков, засранцев, молокососов! Не умеешь, не воюй. Где-то теперь наши шпаги?
Приходилось терпеть и отмалчиваться. Но злость продолжала кипеть и на чужих, и на своих. Зачем они так сильны? Зачем мы так самодовольны?
Посольство ехало уже по землям герцогства Варшавского и досыта нахлебалось польских дерзостей. Лошадей на станциях, и тех пытались не дать – в разгонах! Перед вами что фельдъегерь?
Двух смотрителей Толстой приказал высечь. Одного, особо наглого, повесить. А конную тягу стали забирать еще до станций, в ближайших деревнях. Просто окружали табун, мирно щипавший траву в ночном, и уводили к себе. Утром выбирали каурок покрепче, остальных отпускали на радость хозяевам. И вся недолга.
Кто придумал? Александр Христофорович не считал нужным церемониться с теми, кто доброго обращения не понимает.
Ему понравилось, как немцы управились с этими землями после раздела. Дороги не разваливаются, деревянных домов нет – все камень. Он нарочно расспросил и был удивлен попечительностью прусского короля. С виду тюфяк тюфяком. Но оказалось… Кассы взаимопомощи, казенные деньги на строительство крестьянских усадеб, правильный севооборот. Живи-радуйся. Но чужие благодеяния вставали у поляков костью в горле. Страна казалась ладно скроенной, но некрепко сшитой. Было заметно, что она уже расползается под пальцами. Дырявые руки. Бездонные карманы. У проезжающих вымогали деньги – просто чтобы чиновник отвязался. Знакомое домашнее бедствие! Шурка этого терпеть не мог и в душе ворчал, что разумному королю за свое же хорошее надавали по рукам!
На пару дней посольство остановилось в Лазанках. Бывший замок последнего короля. Славу здешних мест составляли бани. Вот где жизнь протекала легко и счастливо! Ни дерева, ни веников. Чугунные ванны на ножках, выстланные чистыми холстами. Резервуары с кипятком. Краны подают воду прямо из Вислы. В каждом покое полотенца, мыло, гребенка…
Европа.
Полковник особенно остро почувствовал это, когда опустил свои затекшие от сидения в карете чресла в парную воду и, зажмурив глаза, погрузился с головой. Вынырнул он уже другим человеком. А хорошо вот так жить, ни о чем не печалясь! Гладить полотенца, греть воду. И всякое лихо пропускать мимо себя, чисто вымытым. Благодарным.
В Лазанках его нашла Яна. Не в банях, конечно. Во дворце. Полковник занимал небольшой угловой кабинет с китайскими картинками на стенах. Вечером он разбирал почту. Свеча ярко отражалась в лаковых панелях, создавая целую цепь других, расплывчатых комнат, где сгорбленный над столом офицер шуршал бумагами.
Внезапно постучали. Полковник решил, что вернулся денщик. Своим нынешним Александр Христофорович был недоволен – пьет и плохо следит за платьем. Только собирался встать и выбранить мерзавца, как двери распахнулись.
На пороге – длинный плащ с капюшоном. «Досточтимый призрак, приношу нижайшие извинения за то, что осмелился потревожить избранные вами покои. Мое пребывание здесь временно. Уже завтра мы уедем…»
Хохот был ответом. Тонкие, обнаженные до локтей руки откинули капюшон, и уже в следующую секунду маленькая принцесса переступила порог. Схватила любовника за плечи. Приблизила румяное смеющееся лицо к его удивленной физиономии.
– Я из Варшавы. Я не могла не приехать. Скоро вы пересечете границу, и Бог знает, когда еще…
Он наклонился и закрыл ей рот поцелуем. Даже отвечая, губы Яны продолжали смеяться. А язык забавно скользил по его зубам. «Выше или ниже, девочка, кость бесчувственна!» Он сам поймал кончик ее языка и втянул в себя, как глотают воздух из сдуваемого мяча.
«Яна, ты ничему не учишься! Где твой муж?»
Но пани, очевидно, было не до мужа. Не до всех. Она взвизгнула от удовольствия, расстегнула плащ и подпрыгнула, обвив его вокруг бедер ногами. Шурка понял, что соскучился, что Яне пришла в голову хорошая мысль повидаться напоследок, что…
Ее руки уже стягивали с него рубашку. А его рыскали по холмам Эдема в поисках запретных наслаждений. Но графиня не могла долго висеть. Поэтому Бенкендорфу пришлось оставить сады Гесперид с их золотыми яблоками и подхватить ее под зад.
Новое удовольствие – мять подушки и воображать, будто твоя возлюбленная из пуха. Но у Яны все было маленькое. Ягодицы – кулачки. Груди – фигушки. Ее мускулистая плоть открылась навстречу ему, как открываются ладони, только что поймавшие бабочку. И снова схлопнулась.
Раз, два, три!
«Мадам, вы меня измучили. Я путешественник, уставший с дороги». – «И принявший ванну».
Четыре, пять… тридцать.
Он спекся. Но дама была не в обиде. Кажется, муж держал ее на голодном пайке. Дорого бы Шурка дал, чтобы посмотреть на этого остолопа! Скоро тот начнет замечать, что жена сыта? Перестала следить за ним требовательным взглядом? Ведет себя с подозрительным дружелюбием? Сколько мужчине нужно времени, чтобы обеспокоиться?
– Мой супруг в столице, – Яна сидела на столе, разметав ладонями его неоконченные письма. – Если тебе, конечно, интересно.
Александр Христофорович кивнул. Выслушать даму после удовольствий – почетная обязанность любовника. Только англичане засыпают сразу. Мужланы! Если женщина довольна, беспечно пожалуется на мужа: мол ты не такой. Если ей не понравилось, будет обескураженно молчать и ерзать.
У него не молчали! Шурка рассматривал их болтовню как налог на любовь. Одна польская швея рассказывала, как кроить рубашки по новой парижской моде. Заодно узнал, что воротничок-парус нужно перетягивать только черным галстуком, остальные цвета давно преданы анафеме.
– Он догадывается?
– Он меня не видит.
«Скоро увидит. Мы все собственники. А когда у тебя воруют…»
– Я подбиваю его ехать в Париж. Но он терпеть не может Наполеона.
«У нас много общего».
– Не признает гения! Не восхищается! Уже и его родные, и моя тетя там…
– Скажи, что поедешь сама.
– Но он не отпустит.
– Тебе нужно разрешение?
Бенкендорф посмеивался, помогая любовнице шнуровать корсет и оправлять юбку.
– Я просто боюсь, что он не поспешит вслед, – честно призналась маленькая принцесса. – Останется в Варшаве. Ведь он всем доволен.
– Есть повод проверить, – полковник подобрал плащ красавицы и накинул ей на плечи. – В Париже буду я.
«Любопытно, как встретимся? Станет ли она гоняться за мной? Или делать вид, что не замечает? Избегать? Зависит от мужа».
– Я еще немного помучу его в Варшаве, а потом поеду, – храбро заявила Яна. – Даст Бог, увидимся.
Нет, он совсем не хотел встречаться с графиней Потоцкой ни в Мальмезоне, ни в Фонтенбло. Там другие дела. А старая связь накладывает обязательства. Хотя бы дружеские.
– Что тебе во мне? – прямо спросил Шурка.
Яна запрокинула голову, тряхнув темно-каштановыми кудрями.
– Ты подарил мне меня.
Такого ему еще не говорили.
– Будем считать, что твой долг оплачен, – Бенкендорф наклонился и коснулся губами кончика ее носа. Холодный. Почему?
– Я никогда не стану тебе мешать, – с печалью отозвалась Яна. – Женщины привязчивы. В этом наша слабость. Но ты ведь и расстаешься, никого не обидев.
Дверь за ней закрылась. Продолжать письма Александр Христофорович не стал. Что толку? В голову лезла одна принцесса. Почему в конце всегда грустно? Даже если отпускают легко?
На следующий день уже все знали о ночном визите. Полковнику желчно завидовали. Графиня была лакомым куском, и то, что она продолжала связь, только еще выше поднимало Шурку в глазах товарищей. Как и его теперешнее молчание – знак высшего благородства.
* * *«Может, и нам попробовать переписываться по-русски?»
М.С. ВоронцовДальше шла Пруссия. Посольство добилось права следовать через Мемель, где намеревалось увидеть королевских величеств. Бенкендорфа бесило поведение немцев, их услужливость и покорность перед новыми хозяевами. Не хотелось вспоминать о своем родстве. Даже язык казался опоганенным. Хотя в обычной жизни он любил говорить по-немецки, и делал это не с северной рубящей интонацией, а мягко, врастяг, как научился в детстве, на юге, в Байроте. На таком языке пели миннезингеры, на нем шептали нежные речи, а не только отдавали лязгающие команды. И вот, представьте себе, какие-то почтительные бюргеры его любимым языком вылизывали задницу оккупантам!
Пробовал по-французски. Выходило еще хуже. Себя от врага не отличишь: думаешь, как он, одеваешься, ешь, любишь… Непонятно только, почему дерешься хуже?
С горя Бенкендорф пытался перейти на итальянский. Но его знал плохо, только для музыки. И окружающие не понимали.
Говорить же по-русски в голову не приходило. Язык для солдат и прислуги. Впрочем, во времена Фридриха Великого таким же был немецкий. Потом разохотились, стали писать стихи, философствовать…
– Петр Александрович, вы по-русски хорошо знаете?
– Я же москвич, – удивился Толстой.
– Попробовать, что ли? Из патриотических соображений.
Граф смерил полковника недоверчивым взглядом:
– Час продержитесь?
Шурка был азартен. Поставил свое казачье седло, новое, с чепраком. Командир ответил парой дуэльных пистолетов. Ударили по рукам.
Сорок минут. И то потому, что Толстой не касался ни книг, ни политики. Стоило вильнуть к барышням, и Бенкендорфа пробило на «parlez franςais». Он просто не понимал, как можно обсуждать женщин на русском. Выходило грубо и зримо, хотя душевно. Один грех. Голый, как яйцо.
Но Толстой остался доволен.
– Бегло, бегло, – похвалил он. – Пожалуй, чепрак возьму, а седло ваше. И вот что, батюшка, я, грешным делом, акаю. Так вы с меня пример не берите.
Легко сказать. В полку кто акал, кто окал, кто гекал, а кто и вовсе пересыпал речь местными словечками вроде «злобышек» или «дюденя». Понимать своих Шурка, худо-бедно, научился и даже матом орать на денщика. Но нельзя же матом думать!
До Мемеля оставалось часа три пути. Следовало отдохнуть и почиститься. А завтра уже в пристойном виде хоть на аудиенцию. Но, едва Бенкендорф вечером затеплил свечу, намереваясь требовать у окаянного изверга горячей воды, как денщик, шмыгая носом, доложил:
– К вашей милости дама.
«Вот черт!» – подумал Шурка, уже вообразив очередное явление графини Потоцкой. Банный лист сейчас был бы желаннее!
Посольство оккупировало трактир с номерами и пару прилежащих домов. Полковник предусмотрительно избрал второй этаж над вывеской цирюльника. У последнего всегда имелась горячая вода. Две хорошенькие дочки – по замашкам настоящие барышни – исправно носили ее наверх постояльцу, за что получали по монетке. Бенкендорф уже наладился трепать их то за румяную щечку, то за белое ушко, воображая баталию втроем. И на тебе! «Сударыня, вы очень некстати!»
– Мне всегда нравилось наблюдать твое разочарованное лицо, братец!
Женщина под вуалью откровенно хохотала. Да и ростом она была не чета Яне – почти с него.
– Долли! – Александр Христофорович раскрыл объятия.
Дама шагнула через порог и сама заключила брата в кольцо тяжелых, больших рук. Их чмоканье, взаимное толкание и шлепки больше напоминали возню детей на ковре, чем поведение взрослых, приличных с виду людей.
– Я к тебе по делу.
Кто бы сомневался! Без дела Долли не ездит. Не спит, не пьет, не кокетничает и не вспоминает о родных. Хотя с Александром из всей семьи ее связывали самые теплые, самые доверительные отношения.
Полковник помог сестре разоблачиться. Плащ и хлыст для верховой езды полетели на кровать. Перчатки легли на стол. Смачно, будто припечатали сургуч.
Они не виделись года два.
– Какая ты стала…
Бенкендорф не нашел слов, чтобы описать преображение долговязой девочки в гранд-даму. Двое детей, муж-дипломат, и вот уже она не Долли-достань-воробышка, а графиня Ливен, жена посла в Берлине. Конечно, брат знал о назначении в Пруссию и даже поздравлял, но не думал, что родственники доберутся так скоро. В Белостоке время для него остановилось.
– Муж не знает, что я здесь. Не надо ему говорить. – Долли, как всегда, отрубала одну фразу от другой, опасаясь, что окружающие глупы и поймут только вразбивку. – Христофор Андреевич исполняет обязанности с большим достоинством. Но мне, – госпожа Ливен испытующе глянула на брата, – кажется, что наши донесения перехватывают французские агенты.