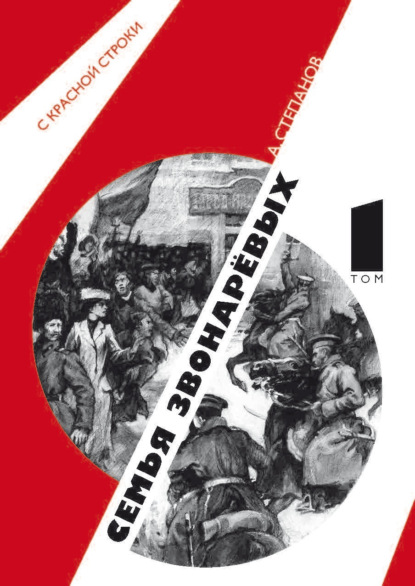Полная версия
Роковой клад
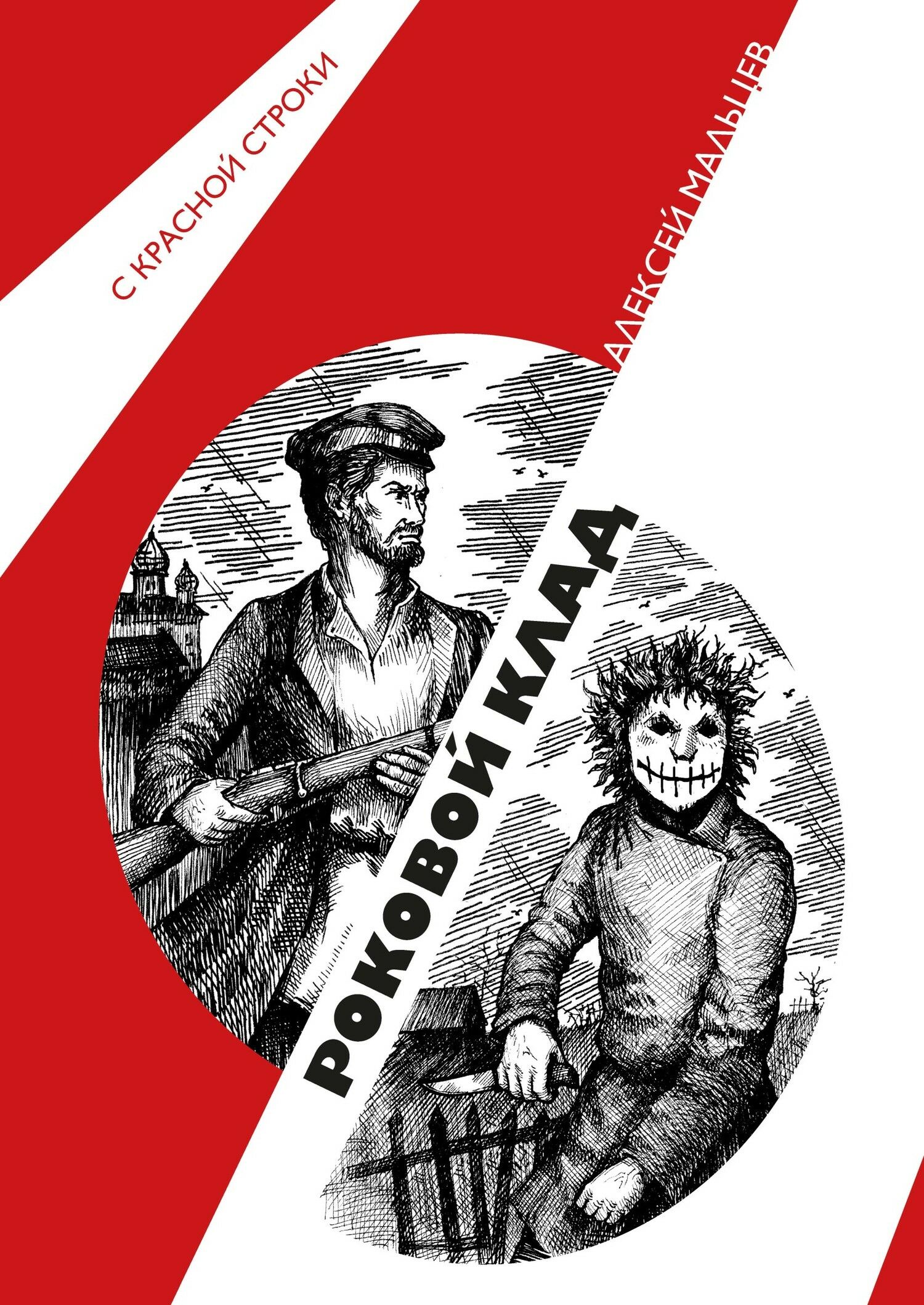
Алексей Васильевич Мальцев
Роковой клад
© Издательство «РуДа», 2019
© А. В. Мальцев, 2019
© Д. С. Селивёрстов, иллюстрации, 2019
© Н. В. Мельгунова, художественное оформление, 2019
Мы – в зеркале прошлого
Ничто так нас не разобщает, не отдаляет друг от друга, как разные взгляды на общее прошлое, разные трактовки одних и тех же событий. В этом противостоянии словно восстанавливается конфликтная энергия минувшей истории, захватывающая людей в свой трагический водоворот борьбы и событий. Ничто не может сблизить людей, никто не вызывает доверия в этом противоборстве.
Кроме картины горя, общей беды, резкого и неустранимого чувства сожаления, что всё это было с нашим народом в нашей истории. Но это сближающее чувство, эта общая картина возможна только со временем, с дистанции значительно, далеко ушедшего вперёд настоящего.
С такими мыслями прочитывал я последние эпизоды нового романа Алексея Мальцева, который вы, читатель, держите в руках.
Речь в нем идёт о событиях почти вековой давности. Действие развивается в 1930 году в уральской деревне на фоне сплошной коллективизации, когда двадцать пять тысяч коммунистов были направлены в сельскую местность, чтобы агитировать крестьян из единоличных хозяйств перейти в колхозы, чтобы проводить, говоря языком того времени, «раскулачку», претворяя в жизнь роковые постановления пленумов ЦК ВКПб.
В советской литературе существовала целая плеяда писателей-почвенников во главе с такими патриархами, как Василий Белов, Валентин Распутин, Борис Можаев, Анатолий Иванов, Владимир Солоухин… Созданы крупные и даже эпические произведения, в которых со всей возможной полнотой уже переданы и трагическое величие, и непреодолимая сила логики событий той эпохи. Почему к данной теме обращается современный автор, из-за возраста не заставший не только саму описываемую эпоху, но по той же самой причине даже не подходящий в сыновья её участникам?
Не потому ли, что это естественно? Во-первых, каждому самостоятельно переживать нашу общенациональную судьбу, и, в частности, события того смутного времени, тем более что их ментальная характеристика не раз меняла знак с плюса на минус и обратно. Во-вторых, писатель именно мерой своего дарования и творческого результата «конвертирует» наше знание о прошлом в непосредственное сочувствие к людям, к их судьбам, к их утраченному счастью, к непоправимым ошибкам… Таков эффект литературного произведения: когда мы с ним знакомимся – мы в нём присутствуем. И вот эти живые эмоции и есть главное. Жажда лучше всего утоляется родниковой водой.
Если к теме обращаются снова и снова, значит – сказано не всё, значит – болит, кровоточит, нарывает… А до чувства светлой и примиряющей печали нам далеко. Поэтому роман Мальцева – это не какая-то историческая истина, это есть опыт переживания того прошлого с нашей современной дистанции.
Ещё один взгляд, ещё одна попытка… Удачная ли?
Когда-то в перестройку Евгений Евтушенко написал статью «Право на неоднозначность», в которой осудил попытки «спрямления» кривых, желание сыпать на раны как соль, так и сахар… Неоднозначность в романе Мальцева ощущается подобно течению воздуха, сквозняку, когда мы, так сказать, проветриваем «кабинет» наших представлений: «сквозит» то в одном, то в другом направлении, однако это отнюдь не воспринимается как попытка раздать «всем сёстрам по серьгам»!
Главный герой, трудяга-крестьянин Фёдор Чепцов, в силу того что в посевную и уборочную когда-то не мог обойтись без помощи наёмных работников, получает в деревне статус кулака. Из-за новых постановлений это становится точкой отсчёта его многочисленных мытарств.
Естественное желание живущего и работающего на земле мужика поставить, наконец, точку в затянувшейся череде тектонических сдвигов незыблемой когда-то реальности то и дело натыкается на отсутствие возможности это сделать. Как таковой! Она ускользает подобно лисьему хвосту в самом конце звериной тропы, когда самка уводит охотников подальше от норы.
Чудовищность происходящего ломает все прежние представления о допустимом и недопустимом. Вокруг Фёдора творится кошмар – этот сюрреализм не может не порождать метаморфозы в нём самом. На одном из очередных виражей кровавого беспредела он вдруг перестаёт узнавать себя. Перестаёт понимать некоторые свои поступки. Понимание того, что у каждого из героев романа – своя правда, они её, как могут, ищут, к ней стремятся – оказывается для Фёдора не самым главным открытием. Главное – оправдания поступкам, совершаемым в поисках этой самой правды. Они тоже у каждого свои… Так человек убеждает себя, что он не мерзавец.
Болезненно осознаваемая «красная черта», которую то и дело приходится переступать герою, разделяет не только старое и новое – кулаков и колхозную бедноту, старинный уклад и попытки его разрушить, бандитов и коммунистов… Порой она воспринимается Фёдором как зеркало, в которое ему частенько приходится всматриваться, всякий раз как бы сверяя: по ту ли сторону он сегодня, что и вчера, что месяц назад…
Что находится по другую сторону зеркала, дважды повторять никому не надо. И автору – прежде всего! Он лучше других понимает, что в какой-то момент «виртуальность» восприятия исчезнет, и чёрное навсегда останется чёрным, а белое – белым. А наше навсегда остаётся нашим, тем более прошлое…
Владимир Якушев,
Председатель Пермской краевой общественной организации Союза писателей России
Глава 1
Манефа знала не понаслышке – в Огурдино бабы ей завидуют. Ещё бы: стать женой кузнеца! У него кровь горячая. Весь день в кузне кувалдой помахай, мехами поширкай – так разогреешься, что потом и не остыть. У них, у кузнецов, не только лицо закопчённое, но и всё остальное… Не зря ж говорят: муж кузнец, жена – барыня. Бабский трёп, он и есть трёп, ничего более.
Манефа повернулась на другой бок, уткнувшись в подушку. Уловила запах мужниного пота и поняла, что уже не уснёт.
Сегодня её Тимофея словно подменили: то и дело курит на крыльце, видать, ждёт кого-то. Уж не бабу ли?!
Жена, понимаешь, ворочается одна в койке, а он ночь напролёт с цигаркой по двору вышагивает! Ей строго-настрого приказал спать, носа из избы не высовывать. За полную дуру держит! Которая совсем уж не маракует.
Она присмотрелась: ходики на стене в лунном свете показывали три – начало четвёртого. Села на кровати, прислушалась.
Вроде, собаки стали дружней лаять, и скрип телеги почудился!
Страсть как хотелось на цыпочках выпорхнуть в сени, там приступок у дверей есть, на него пяткой опереться, изловчиться и глянуть в щёлку. Интересно ведь, что за кралю поджидает муженёк в четвёртом часу ночи.
Только страшно – вдруг половицы скрипеть начнут. Или Тимофей в избу ринется – её застукает, как она отбоярится?
Подгляд, он и есть подгляд.
Хотя – не только это страшило, если по совести. Отбоярится, чего уж там, скумекает что-нибудь, слова найдёт. Пуще конца света боялась Манефа, что её опасения подтвердятся. А ну, как действительно бабу увидит, что тогда? Ведь помрёт, того и гляди, не сходя с места, прямо в сенях.
Скрип телеги отчётливо доносился со стороны околицы.
Тимофей звякнул щеколдой – знать, ворота отворяет.
«Не до меня ему щас!» – подумала Манефа и осторожно засеменила к дверям. В сенях её прохватил холод: хоть и август на дворе, а ночи стоят как осенью – зябкие, сырые. Скоро она забыла про зябкость и сырость – как рассмотрела в щёлку, какая телега с сеном въехала к ним во двор. Лошадь всхрапнула, учуяв устоявшийся чужой запах.
– И как вы, Кондрат Спиридоныч, – глухо донёсся со двора голос мужа, – не убоялись такое богатство везти?!
Услышав имя-отчество, Манефа чуть не соскользнула с приступка – вот бы грохоту наделала! Сам Тараканов пожаловал! В его квадратной фигуре, окладистой седой бороде, которая покрывала всю грудь, неторопливой походке мерещилось ей что-то отталкивающее, пугающее. Зачем пожаловал среди ночи?!
– Какое богатство? – переспросил гость, снимая балахон с большой породистой головы. – Я сено привёз. Весь божий день возил по деревне, глаза мозолил.
– А зачем весь день-то?
– Чтоб запомнили, значит, чтоб привыкли.
Манефа ничего не понимала: на кой ляд им сено? Слава богу, нынче сами накосили, два стожка на заимке стоят, под дождём мокнут.
В щёлку здорово сквозило, глаз Манефы то и дело слезился, не давая толком разглядеть говоривших.
– У тебя домашние-то спят? – строго поинтересовался тем временем Тараканов.
– Без задних ног, – успокоил его Тимофей, хватая приготовленные загодя вилы и принимаясь сгружать с телеги привезённое сено. – Можете не беспокоиться.
– Ну, коли так… А то что-то физиономия у тебя сикось-накось… Боишься, как я погляжу?
– Дак, чего мне бояться, – не уверенно прозвучало в ответ.
«Боишься, Тимоха, ещё как боишься, – подумала про себя Манефа. – Уж я-то тебя знаю!»
Под сеном оказался сундук, который Тимофей сперва попытался в одиночку стащить с телеги, но не вышло. Её муж слабаком никогда не был: когда разгневается, бывало, так двинет, что синяк потом не сходит неделю, а то и больше. И ночью в исступлении порой так стиснет, что, того и гляди, рёбра треснут. А тут – не смог сундук стащить с телеги. Смех!
«Видать, увесистый шибко», – хмыкнула про себя Манефа, оторвав глаз от щёлки, чтобы проморгаться.
Вдвоём они сундук кое-как кряхтя сгрузили, и с перекурами утащили в сарай. Интересно, что в нём такое спрятано?
– Чую, скоро раскулачивать придут, – тяжело дыша, пояснил Тараканов, когда они вернулись во двор. – У тебя ж всё надёжней. Сегодня же закопай в огороде… затемно чтоб. Это место разровняй, разборони да засади чем-нибудь. Или давай вместе закопаем.
– Не беспокойтесь, Кондрат Спиридоныч, – заверил его Тимофей, вышагивая к воротам. – Сейчас же закопаю, всё сделаю.
– Скажешь, кто спрашивать будет – Спиридоныч, мол, сенца подкинул, покажешь, ежели что…
Пока пустая телега со скрипом выезжала со двора, Манефа благополучно вернулась к себе на кровать. До утра теперь точно не уснуть. Голова пухла от вопросов, ответить на которые никак не получалось.
С какой стати Тараканов привёз к ним свой сундук? С чего бы такое доверие? Раскулачка – раскулачкой, но почему именно к ним? Не сказать, чтобы они с Тимофеем шибко дружили. Чтобы пили на брудершафт – не помнится такого.
Случалось – закажет Спиридоныч кресало изготовить или салазки к зиме поправить. И – всё на этом. А чтобы близко сойтись – ни-ни.
Неужто так авторитетом вышел Тимофей, что у него можно фамильные драгоценности от раскулачивания спрятать? А почему бы и нет? Ведь не каждый и вспомнит, какая фамилия у Тимофея – всё кузнец да кузнец. И отец его кузнецом был, и дед. А фамилия у Тимофея не лёгкая в произношении – Шкабардня. И она рядом с ним – Манефа Шкабардня. Не фунт изюму, так вот.
Она сама не заметила, как прильнула к окошку, наблюдая за удаляющейся телегой, в которой покачивался уважаемый всеми бородач. Неужто даже его решили раскулачить? Да на нём вся деревня держится! О чём правление думает?
Поток манефиных мыслей внезапно прервался, так как едва подвода с Таракановым скрылась из виду, кусты возле амбара шевельнулись, из них высунулась чья-то голова. Только чья – далековато, не разглядеть.
Вскоре на дорогу выбрался лысоватый мужик в одних портках, огляделся, и вприпрыжку направился вслед за уехавшей телегой.
– Да это же… – пробормотала Манефа и тотчас прикрыла рот ладошкой, перекрестившись несколько раз. Потом забилась под одеяло и свернулась калачиком. Ей показалось, что начинается хвороба: сначала бросило в жар, потом зазнобило.
Сказать Тимофею, что за ними следили, или не сказать? Ежели скажешь, надо будет объяснять, почему не спала? Должна дрыхнуть без задних ног, а она наблюдательный пункт устроила, понимаешь! Откуда взяться бессоннице у молодой бабы?
В голове крутилось множество мыслей, с которыми Манефа не могла совладать. Но вскоре всех их словно течением унесло, как льдины в половодье, оставив одну, успокаивающую. Слава богу, не бабу дожидался муженёк у калитки, зря она волновалась.
С этой мыслью она задремала. Потом её разбудил скрип открываемого голбца, она ещё подумала, что мужу среди ночи понадобилась самогонка. Она повернулась на другой бок и уснула. На этот раз – крепко.
* * *Отдыхать после работы Фёдор Чепцов любил на завалинке. Сколько бы жена Варвара ни уговаривала, дескать, продует, захвораешь – он всё одно присаживался на своё любимое место, вытягивал уставшие ноги, навалившись на первые венцы брёвен, утыканных мхом.
На колени сразу прыгала кошка Булавка, цыплята принимались клевать сапоги…
Глядя на эту умиротворённую картину, никто из огурдинцев ни за что бы не сказал, что перед ним сам Фёдор Чепцов, знатный хлебороб-землепашец. Скорее – пьяный в дугу скотник не смог доползти до порога и тут же, под окнами, вырубился.
Как у большинства мужиков в деревне, бородатое лицо и шея у Фёдора были выгоревшими на солнце, а видневшееся в вороте рубахи тело – белым. Светлые с рыжинкой волосы выбились из-под съехавшей на бок фуражки, поправлять которую у хозяина не было сил. Будучи напряжённым весь день, тело размякало, словно тесто для оладий. Хорошо!
И Огурдино всё – как на ладони. Где, какая подвода едет, где мужик выпил лишнего, за бабой своей гоняется по огороду – всё видно. Почти полторы сотни дворов, шутка ли! Сгрудились они, жмутся к речке Коньве, которая изгибается в этом месте, словно литовка[1].
А там, дальше, за Коньвой, за увалами – Ратники, Ножовка, Бессолье, Тугринка, Коротково… Если долго-долго скакать на лошади, то, наверное, к концу второго дня в Свердловск прискачешь.
Дальше Свердловска Фёдор двигаться в мыслях не захотел. Чувствуя, как подкрадывается к нему дремота, он медленно переводил взгляд с одного двора на другой, гладил кошку на коленях и думал о том, что сегодня, пожалуй, и выпить не грех: банька затоплена, в сенях в туеске остывает медовушка…
С соседом Остапом потрудились на славу: заменили подгнившее прясло у забора. Жердь только казалась крепкой, едва весной сошёл снег, сразу дала слабину, её повело…
Всё было недосуг: сначала посевная, потом заготовка дров, потом – буза с работниками: стали уходить по одному, головотяпы. Оно и понятно: у Фёдора ж пахать надо, прохлаждаться некогда – а в Огурдино товарищество организовалось, ТОЗ называется. У Никишиных артель опять же – руки везде нужны. Поговаривают и про колхоз, переманивают, короче.
В общем, к сенокосу не успел – всё не до жерди было. Наконец, дошли руки. С прошлого года под навесом ждали они своего часа, ровные – словно веретёна. Фёдор сам их год назад высматривал в лесу, рубил, шкурил… Вышло прясло – любо-дорого смотреть.
Суетившуюся по хозяйству жену вдруг захотелось подначить:
– Шибко талиста ты у меня стала, Варюх…
Услышав своеобразный мужнин комплимент, жена остановилась в борозде, разогнула спину, стащила сбившийся к затылку платок, вытерла им пот со лба.
– Не туда смотришь, охальник, баню пора закрывать, давно прогорело, небо-то зачем греть? С Остапом уж договорился, небось?
– Договорился, договорился, – забурчал недовольно Фёдор, поднимаясь с насиженного места, – а притащится пораньше, эка невидаль, тяпнем по маленькой, обождём…
Остап, однако, припозднился. Фёдор к его приходу так «напробовался» медовухи – с трудом на ногах стоял.
Когда после первого жара уселись в предбаннике, Остап, закурив, усмехнулся:
– Ты ровно не замечаешь, что вокруг творится. Сердечко у тебя на спокое, али как? Не ёкает?
– Что ж я, совсем слепой, по-твоему? – обиженно заметил Фёдор. – На осень вот без работников остался, это как?
– Да хрен с ними, работниками. Кулаками нас только ленивый теперь не обзывает. И вслед глядят, словно прокажённые мы какие. Того и гляди – раскулачивать придут.
– А за что меня раскулачивать? Излишки сдаю в срок… И ты вроде как – тоже без задержек.
Щуря один глаз из-за стекавшего со лба пота, Остап посмотрел на соседа не то с сочувствием, не то снисходительно. Глаза у него, кстати, разные – один заметно темнее другого, когда прищурит один – вроде, одно выраженье, когда другой – другое. Не зря ж фамилию носит – Потехин.
– Ты и газеты не читаешь, поди…
– Некогда мне читать газеты ихние, – хозяин принялся разливать по кружкам остатки медовухи. – Мне работать надо. Помощников, похоже, не дождусь – неоткуда.
– Гришка Храп по лесам шастает, – Остап махнул рукой, как бы показывая, что банда Храпа неизвестно где, её поймать не могут. Сегодня Гришка здесь, а завтра – ищи ветра в поле. – Страх на коммунаров наводит. Кстати, он и нас с тобой звал.
Фёдор мотнул головой, дескать, опять ты про Гришку. Разговор этот между соседями затевался не первый, и даже не второй раз. Для Чепцова эта тема – как чирей в паху: и часа не проходило, чтобы он не думал о ней. Всё менялось на глазах. Весной ещё, когда пахали и сеяли, об этом не думали, не боялись, а минул месяц, другой – и закрутилось! Самого Тараканова грозятся раскулачить! Что уж про них с Остапом говорить!
– А хозяйство я на кого оставлю? Да и не по мне это – в людей из ружья палить. В германскую настрелялся, слава богу… Давай лучше по последней, – он поднял свою кружку и, не дожидаясь соседа, опрокинул себе в рот.
Всё остальное Фёдор помнил с трудом: вроде они с Остапом ещё попарились, потом помылись. Как в избу добирался – отложилось очень смутно. Уж больно забористая медовуха вышла нынче…
Утром Чепцовы проснулись от истошного собачьего лая и настойчивого стука в дверь. Фёдор слышал, как Варвара открыла, как закричала на кого-то:
– Чего пялишься, чего пялишься?! Думаешь, раз с пистолетом, так и глазеть можно? Жену свою подними спозаранку, выгони на крыльцо да разглядывай!
– Не мудрено, такая красавица вышла встречать представителей закона… Мы и оробели… Короче, мужик твой где, Варвара? – послышался бас местного ГПУшника Ерёмина. – Дома ночевал? Говори, как на духу!
В сенях загрохотали сапоги. В мутной гудящей голове Фёдора проступило, будто очертания берега, когда из тумана на лодке выедешь: «И за тобой пришли! За ними не заржавеет! Гниды!»
Сапоги грохотали уверенно: тот, кто их носил, знал – где и кого искать. Нарисовался в проёме дверей – остроносый, бровастый, в кургузом бушлате, фуражке с красным околышем. И выражение лица такое, словно Фёдор вчера задал неразрешимую задачку, а он, Глеб Ерёмин, её взял, да и решил. Знай наших!
Из множества слов, обрушенных на него ГПУшником, мающийся похмельем хозяин понял одно: этой ночью убили кузнеца Тимофея Шкабардню, и рядом с трупом обнаружили его, Фёдора, нож. Весь в крови.
Как он это объяснит? Ясное дело, никак.
Не успел хозяин справить малую утреннюю надобность, как ему заломили назад руки и крепко связали. Подталкиваемый в спину Митрофаном Вавкиным – известным ерёминским служакой, шатаясь, он кое-как выбрался на крыльцо, завалился в повозку. Вот невезуха-то!
Митрофан взял в руки вожжи, стараясь на Фёдора не глядеть, словно тот мог его убить своим взглядом.
Про то, как убивалась Варвара, как собирала нехитрые пожитки в вещевой мешок, как просила, на коленях умоляла ГПУшника пойти и поговорить с Остапом Потехиным – вместе же вчера пили – Фёдор вообще не хочет вспоминать. Тошно.
Усевшись рядом с арестованным, Ерёмин приказал Вавкину ехать, а когда телега загрохотала на колдобинах, повернулся к Фёдору:
– С Потехиным мы уже поговорили, он утверждает, что вчера ушёл ещё засветло. А кузнеца Шкабардню зарезали глубокой ночью. Так что Потехин тебе не помощник, не спасёт.
– А зачем мне убивать кузнеца? – поинтересовался Фёдор.
– Это ты мне рассказать должен, а не я тебе.
– Кузнец на селе – первый человек…
– Разговоры отставить! – рявкнул Ерёмин, едва не свалившись в канаву. – Вот вызову тебя на допрос, тогда и станешь ответ держать по всей строгости Ревтрибунала.
Всю остальную дорогу до поселкового ГПУ они промолчали. В конторе Фёдора заперли в тёмной комнатке, где с потолка капало, а на полу были разбросаны несколько свалявшихся овечьих шкур.
Он подошёл к зарешеченному окну, выходившему в поросший бурьяном огород, попробовал на прочность прутья решётки. Зацепить бы крюком снаружи, да к телеге, а потом стёгануть лошадь как следует – хрен бы что от этой решётки осталось.
Только кто в бурьян загонит телегу?
Подозревают Фёдора, ни много, ни мало – в убийстве кузнеца Тимофея. Сейчас выведут в огород и… прикончат.
Расклад незавидный, что и говорить.
Кому и зачем понадобилось убивать кузнеца? И с какой целью подставили Фёдора? Нож он потерял ещё вчера вечером. Подумал: «Голова с медовухи плохо соображает, завтра найду».
А назавтра – вон как вышло!
Фёдор взглянул сквозь решётку, и душа заныла: брезжил рассвет, пора было выгонять корову, колоть дрова, носить воду… Прибрать в огороде кое-что требовалось: вчера не успел, умаялся в стельку. Как Варвара одна-то? У неё своих дел невпроворот: печь, готовка.
Хотя – какая готовка, если основного едока посадили?
Кстати, сегодня у этого едока во рту с утра маковой росинки не было, пора бы о еде подумать…
Глава 2
Покачиваясь на вагонной полке, вдыхая запах пота и табака вперемешку с огуречными и квашено-капустными ароматами, Павел Кныш рассуждал о том, насколько непредсказуема бывает жизнь. Вот едет он в незнакомую деревню со странным названием Огурдино проводить сплошную коллективизацию, бросив родное паровозное депо, мужиков из железнодорожных мастерских…
А ещё под Новый год вместе со своей девушкой по имени Оксана, буфетчицей из столовой нарпита, они совсем иные планы строили. Жизнь представлялась если не абсолютной прямой, то уж как минимум – без зигзагов и поворотов.
Машинист в третьем поколении, после армии Павел какое-то время работал отметчиком вагонов, потом была учёба в железнодорожной школе, после чего – три года откатался помощником машиниста, затем работал инспектором по ремонту в паровозном депо. Даже собирался поступать в Московский институт инженеров транспорта.
И вдруг – такой резкий поворот, излом, даже обрыв, можно сказать.
Сейчас неизвестно – поступит ли он в этот институт когда-нибудь вообще, и как всё сложится дальше. Павел повернулся на другой бок. Или взять хотя бы посадку в этот поезд. Хочешь, не хочешь – поневоле станешь фаталистом: ты сам себе не хозяин, неумолимая сила тащит тебя по жизни, не спрашивая ни разрешения, ни направления, заставляет исполнять какую-то свою слепую волю…
Оказывается, он к тридцати годам простым пассажиром-то и не был никогда: или машинистом, или его помощником. А тут такое дело…
Как ринулись все на перрон, дети заорали, бабы завизжали, мужики, само собой, по-крупнокалиберному… Кому нужно ехать и кому не нужно – все смешались в людском потоке: безбилетники, милиционеры, жулики, гадалки, комсомольский патруль. Прыгали наперегонки через рельсы, подлезали под платформы, бегали вдоль состава с мешками и баулами, орали, ломились в запертые двери вагонов. Форменный дурдом, короче.
А с чего всё началось? С вызова в горком, факт!
В то апрельское утро случился заморозок, и за несколько метров до здания с красными флагами Павел поскользнулся. Едва не растянувшись на виду у всей улицы и кое-как удержав равновесие, подумал: «Дурной знак!» Но в знаки, приметы, предрассудки и прочую буржуазную ересь он не верил. Осторожно добравшись до крыльца, оглянулся – не видел ли кто его конфуза.
Первый секретарь, помнится, не поднимая головы от развёрнутой «Правды», лежавшей перед ним на столе, вместо того, чтобы поздороваться, поинтересовался в лоб:
– Кныш Павел Силантьевич? Коммунист?
– Так точно, – отрапортовал вошедший, – с двадцать шестого года.
– Женат?
– Никак нет, только в планах… В ближайших, – неуверенно уточнил он, поздно спохватившись, что сболтнул лишнее.
– Тогда всё проще… – секретарь оторвал от газеты красные, словно у кролика, глаза и пристально посмотрел на Павла. – Не время, брат, личной жизнью заниматься. Что такое головокружение от успехов, представляешь?
Павел заученно произнёс то, что и ожидал от него услышать красноглазый секретарь:
– Статья товарища Сталина по поводу перегибов в коллективизации, напечатана примерно месяц назад в «Правде». В ней критикуются так называемые «вольности» на местах…
– А ты знаешь, – вкрадчиво, почти заговорщицки поинтересовался секретарь, – какие последствия имело опубликование этой статьи?
Павел, помнится, поднял глаза к потолку, устало вздохнув, дескать, так, в общих чертах.
– По секрету сообщу, – не повышая голоса, продолжил собеседник. – Начался выход крестьян из колхозов. Тенденция! Представляешь?! Требуют возврата скота, инвентаря… На что это похоже? И в отношении служителей культа допущены определённые послабления. А курс-то у нас прежний, он провозглашён партией ещё на пятнадцатом съезде. Какой, кстати, напомни…