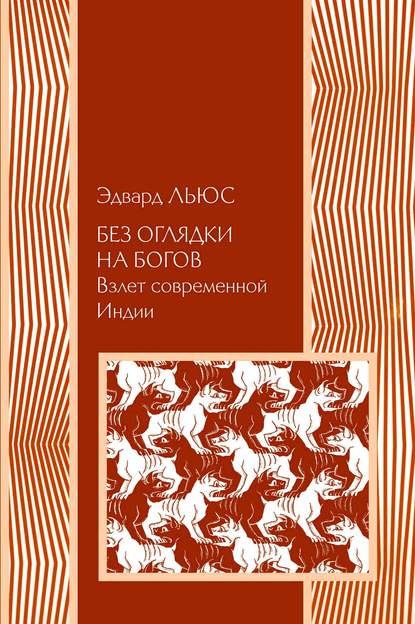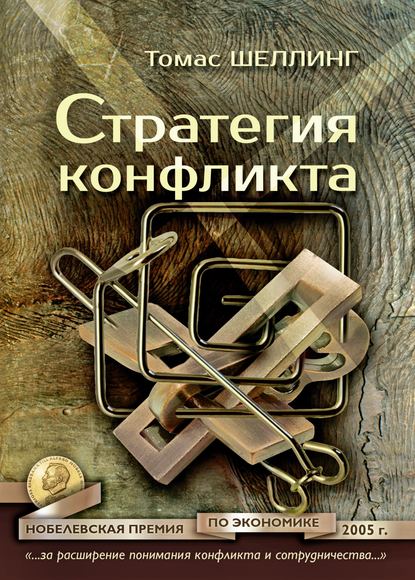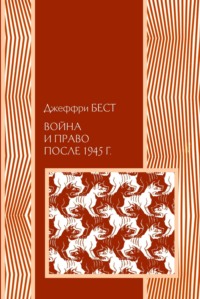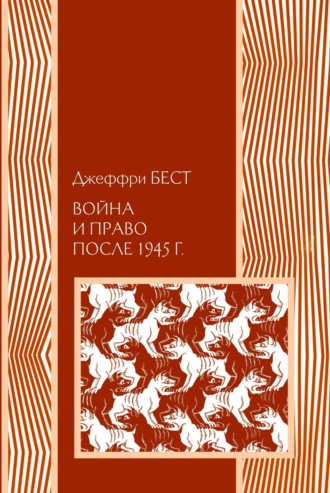
Полная версия
Война и право после 1945 г.
В-третьих, вес, придаваемый этим законам и обычаям теми, кто принимал их близко к сердцу, не имел никакого отношения к букве международного договорного права, но полностью объяснялся духом культуры. Те или иные версии этих законов и обычаев действительно были доступны в письменной форме на всех уровнях изложения, от научных трудов до небольших учебных пособий, но офицеры и джентльмены придерживались их, потому, что им это диктовали их религия и mores[32], а не потому, что правительство подписало договор, в котором дало гарантии, что они будут так поступать. Неписаный закон может быть более обязывающим, чем писаный. В то же время содержащиеся в нем принципы были в двух отношениях менее фиксированными и предсказуемыми, чем это можно было бы счесть удобным или желательным. Во-первых, представления о том, как следовать принципам в конкретных обстоятельствах, например при обмене военнопленными или уходе за ранеными, варьировались от армии к армии; во-вторых, эти принципы всегда возможно было трактовать так, чтобы удовлетворить требованиям военной необходимости, понимаемым в соответствии с субъективными представлениями командиров. Такая неопределенность и приспособляемость порождала непрекращающийся шумовой фон, состоящий из жалоб, недоразумений и обвинений в измене. Процесс кодификации принципов, призванный превратить их в полноценное, облеченное в форму договора международное право, имел в качестве непосредственной причины желание заглушить этот шум.
Кодификация законов и обычаев войны, как их понимали европейские империи и бóльшая часть государств обеих Америк, началась с урегулирования морской торговли в военное время, т. е. той отрасли права, которая, как отмечалось в Парижской Декларации 1856 г. «давно являлась предметом достойных сожаления споров». Неопределенность в отношении прав и обязанностей «создает почву для разногласий между нейтральными и воюющими сторонами, которые могут послужить причиной серьезных трудностей и даже конфликтов»; поэтому «полезно сформировать единообразную доктрину» в отношении блокад, контрабанды и каперства (без которого более крупные морские державы к тому моменту могли обойтись и соответственно хотели бы лишить этой возможности менее крупные). В том, что касается морской войны, ничего сопоставимого по общественной значимости с принятием Парижской Декларации не было предпринято вплоть до попытки детальной кодификации на Гаагских мирных конференциях, за которыми немедленно последовала Лондонская военно-морская конференция. К тому времени море стало настолько неудобной стихией для применения понятия ограниченной войны, что едва ли хоть один юридический принцип, одобренный этими конференциями, пережил в нетронутом виде войну 1914–1918 гг.
Кодификация других основных отраслей права войны началась в 60-х годах XIX в. Вопрос о том, почему этот процесс происходил в такой спешке, требует дополнительного изучения. То, что это произошло в течение того же самого десятилетия, которое, согласно большинству серьезных исторических исследований, засвидетельствовало рождение войны современного типа, не могло быть простым совпадением.
Правительство США (т. е. «юнионисты», или «Север») привлекло выдающегося немецкого юриста-иммигранта Франца Либера, чтобы он свел в кодекс основные принципы и принятые нормы военных действий на суше; этот кодекс был предназначен для армий юнионистов[33]. Когда он приступил к этому занятию, еще не было ясно, что война будет затяжной и что для участия в сражениях придется призвать беспрецедентное количество людей, но было очевидно, что большинство американских профессиональных офицеров будет воевать на стороне конфедератов и что в целом менее опытным людям, возглавлявшим юнионистское ополчение и волонтеров, понадобится полный набор инструкций насчет того, как воевать comme il faut[34]. То, что можно делать безнаказанно в войне с «краснокожими индейцами» или мексиканцами, не сойдет с рук, когда речь идет о джентльменах с Юга. Президент твердо решил, что боевые действия должны проводиться по всем надлежащим правилам, чтобы не создавать ненужных препятствий восстановлению мира и дружеских отношений.
То, что было полезно для армий юнионистов, оказалось полезным для специалистов по международному праву – именно тогда утвердившихся в качестве отдельной профессии – и философски настроенных военных в Европе, которые думали, что кодификация вроде той, которую разработал Либер, может принести большую пользу и на европейском континенте. Брюссельский проект Международной декларации по законам и обычаям войны 1874 г. и «Законы войны на суше», руководство, составленное Институтом международного права на сессии в Оксфорде в 1880 г., – вот наиболее известные из целого семейства подобных документов[35]. Разработка Либера в изрядно упрощенном виде вошла в международное право в качестве составной части в 1899 г., когда к одной из принятых в этом году Гаагских конвенций (подтвержденной с незначительными изменениями в 1907 г.) был приложен свод положений, касающихся законов и обычаев войны на суше. «Гаагские положения», или «правила», как их обычно называют, заложили правовую основу для правомерного ведения военных действий на суше и воспроизводятся во всех сборниках документов, посвященных этой теме.
Франц Либер работал над первой кодификацией правил ведения вооруженных конфликтов в те же месяцы, когда небольшой комитет, состоявший из граждан Женевы (среди которых только один был военным), проводил работу, которая увенчалась в 1863 г. созданием Движения Международного Красного Креста, а в 1864 г. – первой кодификацией законов об оказании помощи больным и раненым. Официальные положения по этим вопросам, действовавшие в вооруженных силах, были чрезвычайно несовершенными. Флоренс Найтингейл была лишь первой из знаменитой плеяды женщин – сестер милосердия, которые примерно с конца 40-х годов XIX в. прилагали усилия, чтобы улучшить условия содержания в госпиталях. Потрясение, которое Джордж Рассел испытал под Балаклавой и смог передать другим людям, на десять лет опередило шок, пережитый Анри Дюнаном при Сольферино. Но если цель военного корреспондента The Times заключалась в том, чтобы побудить британское общественное мнение к давлению на правительство, целью женевского филантропа было убедить европейское общественное мнение в необходимости радикального обновления международного права. Дело улучшения условий в военных госпиталях находилось к тому времени в умелых руках. Дюнан же озаботился тем, что происходило с ранеными по пути в госпиталь (если предположить, что они туда попадали). Существовало распространенное мнение, что сражающиеся армии должны уважать неприкосновенность санитарных бригад противника и что военачальникам противоборствующих армий следует периодически перед началом боев подписывать локальные соглашения («конвенции»), определяющие, среди прочих вопросов гуманитарного характера, знаки, по которым можно распознать эти бригады, а также полевые госпитали. Но выработка таких соглашений ad hoc была трудным делом, получающиеся в результате договоренности были нечеткими, а само их заключение было непредсказуемым. Выдающаяся роль Дюнана состояла в том, что он понял необходимость международного соглашения, устанавливающего простые договоренности гуманитарного характера, которые были бы понятны каждому и которые работали бы повсеместно. Иными словами, нужна была Женевская конвенция 1864 г.[36]
Третьей кодификационной новеллой 60-х годов XIX в. стала Петербургская декларация 1868 г. Ее значение выходит далеко за рамки заявленной цели, которая была весьма ограниченной и состояла в запрете применения в отношениях между «договаривающимися сторонами» нового опасного изобретения – разрывных и/или зажигательных пуль. Это не только знаменательная веха в долгой истории «запрещенного оружия»; ее преамбула (более длинная, чем основной текст) содержит краткое изложение философии права войны, подобного которому нет ни в одном подобном документе и лаконичное совершенство которого невозможно превзойти. Несмотря на то что текст этой декларации присутствует в любом хорошем сборнике документов, он заслуживает того, чтобы быть приведенным здесь verbatim[37], отчасти потому, что он является исключительно выразительным свидетельством эпохи, отчасти же потому, что в каждой из формулировок ее принципов можно почувствовать тот дух оговорок и приспособления к обстоятельствам, который является неотъемлемой частью противоречивой истории права войны[38].
потребности войны должны остановиться перед требованиями человеколюбия, нижеподписавшиеся уполномочены разрешениями их правительств объявить нижеследующее.
Принимая во внимание, что успехи цивилизации должны иметь последствием уменьшение по возможности бедствий войны; что единственная законная цель, которую должны иметь государства во время войны, состоит в ослаблении военных сил неприятеля; что для достижения этой цели достаточно выводить из строя наибольшее по возможности число людей; что употребление такого оружия, которое по нанесении противнику раны без пользы увеличивает страдания людей, выведенных из строя, или делает смерть их неизбежною, должно признавать не соответствующим упомянутой цели; что употребление подобного оружия было бы противно законам человеколюбия.
[Далее следуют четыре абзаца, посвященные описанию снарядов, а также приглашение другим государствам присоединиться к соглашению].
Стороны договаривающиеся и приступившие предоставляют себе право входить впоследствии между собою в новое соглашение всякий раз, когда с целью поддержать постановленные принципы и для соглашения между собою требований войны и законов человеколюбия – вследствие усовершенствований, произведенных науками в вооружении войск, будет сделано какое-либо определенное предложение.
Особо обращает на себя внимание факт, что в этой декларации, которую специалисты в области международного гуманитарного права так часто приводят в качестве главного обоснования неприкосновенности гражданских лиц, ничего не говорится о некомбатантах как таковых. Некоторые расплывчатые выводы, подразумеваемые в ней касательно некомбатантов, можно реконструировать следующим образом. Есть утверждение, что «требования войны» должны, разумеется, отступать перед «законами человеколюбия» во всех возможных случаях; и в том, что касается гражданского населения, это облегчается для воюющих цивилизованных государств тем обстоятельством, что они договорились о том, что «единственная законная цель» войны должна состоять в «ослаблении военных сил неприятеля», и, следовательно, гражданское население враждебной страны следует в максимально возможной степени исключить из военных действий. Некомбатанты здесь не упоминаются в явном виде. Очевидно, предполагается, что они не должны быть вовлеченными в войну, и, без сомнения, все надеются, что в этом нет никакой нужды; но столь же очевидно подразумевается, что в той степени, в которой они, тем не менее, будут вовлечены и их участие будет препятствовать достижению основной цели войны, они будут подвергаться (или сами себя подвергнут) риску.
Тех читателей, которым кажется, что я слишком вольно трактую этот принцип и которые по этой причине возражают против такого толкования преамбулы Петербургской декларации (и, возможно, также возражают против того, что я ранее говорил по поводу непрекращающейся дискуссии о некомбатантах), я приглашаю поразмышлять о следующих трех фактах. Во-первых, каждая война, в которой участвовали стороны, подписавшие эту декларацию, впоследствии сопровождалась обвинениями в том, что некомбатанты в ней чрезмерно пострадали. Во-вторых, именно такой осторожный, гибкий и в конечном счете ни к чему не обязывающий подход к проблеме некомбатантов (на сей раз упоминаемых в явном виде) применен и, более того, достаточно детально прописан в появившемся всего на шесть лет раньше и вызывавшем всеобщее восхищение американском Кодексе Либера. В-третьих, намного менее проработанный европейский эквивалент последнего, а именно Проект Брюссельской декларации 1874 г., в отличие от Кодекса Либера, придает термину «некомбатант» значение «не сражающийся участник вооруженных сил» и практически ничего не говорит о «некомбатанте», понимаемом как «гражданское лицо», т. е. в том смысле, который принят в Кодексе Либера и последующем словоупотреблении.
По-видимому, начиная с 60-х годов XIX в. озабоченность вопросом неприкосновенности гражданских лиц постепенно начинает приобретать то исключительное значение, которое стало ей свойственно в наше время. То, что в течение долгого времени было предметом не более чем случайного, хотя и периодически обостряющегося интереса для «публики» (т. е. той части населения, которая имела доступ к информации об общественных делах и испытывала потребность формировать собственную точку зрения на них), теперь стало объектом постоянного и устойчивого интереса. А поскольку природа этой устойчивости и тенденции ее изменения чрезвычайно важны для темы этой книги, здесь потребуется представить некоторые объяснения.
Некомбатанты и гражданские лица: зарождение современной дилеммы
Частную проблему некомбатантов в том виде, как она сформировалась в 60-х годах XIX в., можно правильно понять, только если рассматривать ее как часть громадного вопроса о социальном опыте войны и ее восприятии. Для западного европейца, живущего в конце XX в., вроде меня чрезвычайно полезно заметить, насколько ограниченным и поверхностным по историческим и глобальным стандартам стало представление его общества о войне. Вообще говоря, рассуждая в консервативном ключе, война на протяжении большей части известной истории и в большей части мира составляет часть, так сказать, повседневной жилой обстановки в мышлении большинства людей. Нормой для большинства обществ является то, что их политические и религиозные власти и авторитеты учат, что война время от времени неизбежна и что участие в официально направляемой и коллективно одобренной войне достойно восхищения. Война и сражения занимали значительное, иногда всепоглощающее место в фольклоре и мифологии народов; в их культуре, будь то массовая, буржуазная или «высокая» культура; в истории общин и семей, в системах человеческих и моральных ценностей, в образе жизни и ожиданиях; в их взаимодействии с аппаратом государства, подданными которого они являлись; в статусе людей в сообществах, к которым они принадлежали; в патриотизме (на что бы ни распространялась патриотическая привязанность); в их представлениях об иностранцах (которыми они могли считать даже жителей соседней долины или деревни); в их представлениях о безопасности и восприятии опасности. К этому следует добавить реальное влияние, которое оказывали на жизнь военные столкновения, когда они происходили, наложение нового опыта на уже накопленные воспоминания и представления. Принятие войны со всем, что она несет – эмоциональным подъемом и ужасом, радостью и горем, – было неотъемлемой частью менталитета обычных людей, так же как сама война была одним из признанных фактов социального и национального существования. Вплоть до эпохи Наполеона в христианском мире лишь крошечные секты религиозных меньшинств, такие как меннониты, братья Христовы и квакеры, подвергали это общепринятое приятие войны принципиальному критическому рассмотрению, результатом которого стало то, что они отвергли войну, считая ее бессмысленной и опасной. Но все переменилось, когда эти судьбоносные для человечества годы остались в прошлом, были подведены итоги приобретениям и потерям и предприняты попытки извлечь из них цивилизованные уроки. Пацифистские секты впервые оказались в более многочисленной компании вместе с союзниками, которые если и не были по-настоящему пацифистскими, то по крайней мере миролюбивыми[39]. Международное движение за мир, начиная с этого времени, стало подвергать постоянной критике институты, обычаи и последствия войны. Их соперник и антагонист – «движение за войну», как его можно было бы назвать, – больше не мог рассчитывать на то, что все будет так, как ему угодно[40]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Когда говорит оружие, закон молчит (лат.). – Прим. перев.
2
Хедли Булл, из текстов которого взяты цитаты (см: Headley Bull, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics (London, 1977), 184, и его обзор книги: M. Walzer, Just and Unjust Wars в журнале World Politics, 31 (1979 г.), 588–589), в первой из упомянутых работ конкретизирует это важнейшее определение следующим образом: «Насилие не является войной, если не осуществляется от лица политического образования; то что отличает уничтожение людей на войне от простого убийства – это его замещающий и официальный характер, символическая ответственность того политического образования, чьим агентом является убивающее лицо. Равным образом насилие, осуществляемое от лица политического образования, не является войной, если оно не направлено против другого политического образования».
3
The Corfu Channel case: International Court of Justice, Judgement on the merits, 9 Apr. 1949, official report, p. 22 (Leiden, Sijthoff, n.d.).
4
Я использую осторожное выражение «по крайней мере часть норм», имея в виду предостережение, высказанное Теодором Мероном (Theodor Meron, “Geneva Conventions as Customary Law”. AmJIL 81 (1987), 348–370, p. 359), а также учитывая изложение этого вопроса Лаутерпахтом в его авторитетной статье (BYILб 1953, 373 n.): «Международный военный трибунал в Нюрнберге и другие трибуналы по военным преступлениям однозначно подтвердили в отношении обращения с военнопленными, что многочисленные положения Гаагской и Женевской конвенций были просто явными формулировками существующего международного права». Даже Калсховен, не менее авторитетный специалист, чем любой другой современный автор, судя по всему, склонен с осторожностью высказываться по этому вопросу в своей книге: «Нам остается упомянуть, что в соответствии с широко распространенной точкой зрения принципы и правила, содержащиеся [в Гаагских положениях] к моменту начала Второй мировой войны, были настолько широко приняты государствами, что стали частью международного обычного права. После войны эта точка зрения получила свое подтверждение во множестве слов, произнесенных на Международном военном трибунале в Нюрнберге» (Kalshoven F. Constraints on the Waging of War (Geneva, 1987), p. 18). Поддержка МВТ этой точки зрения проявляется в его многократно переизданном решении; раздел, озаглавленный «Право, имеющее отношение к военным преступлениям и преступлениям против человечности», пятый параграф. Соответствующий текст содержится на с. 65 официального издания этого решения Британским управлением по изданию официальных документов (London, 1946, Cmd 6964). C конвенционным и обычным правом тесно связан еще один, несколько меньший дополняющий источник – прецедентное право, определяемое всевозможными судами, которые могут осуществлять правосудие в рамках международного права (многие из которых являются национальными, как, например, суды по морскому призовому праву и военные трибуналы).
5
Есть одна область МГП, которой я, оставаясь в выбранных мною рамках, по-видимому, не уделил достаточно внимания. Речь идет о праве войны на море. Читатель найдет страницы, где говорится о подводных лодках, плавучих госпиталях, минах и блокадах, но он не найдет многих сведений по темам, на которые так много говорилось во время ирано-иракской войны 80-х годов: правила применения силы, смена флага, территориальные воды и зоны военных действий. В качестве оправдания недостаточного освещения этих вопросов я не могу предложить ничего лучше, чем тот факт, что право войны на море всегда было до определенной степени отдельным предметом (чего так всегда желали военно-морские ведомства!) и что теперешние усилия ICRC и других органов по его прояснению и модернизации пока еще ни к чему не привели. Хороший обзор ситуации, существующей на данный момент, дается в работе: Ross Lebow,‘The Iran-Iraq Conflict in the Gulf: The Law of War Zones’, in ICLQ 37 (1988), 629–644. См. также: Dieter Fleck‘Rules of Engagement for Maritime Forces and the Limitation of the Use of Force under the UN Charter’, German Yearbook of IL, 31 (1988), 166–186 и W. J. Fenrick, ‘Legal Aspect of Targeting in the Law of Naval Warfare’, Canadian Yearbook of IL, 29 (1991), 238–281.
6
Наравне и одновременно (лат.). – Ред.
7
Эта обширная тема, по непонятной причине долгое время не замечаемая авторами, пишущими о международных отношениях, наконец была поднята Хедли Буллом и Адамом Уотсоном в работе: Hedley Bull and Adam Watson (eds.), The Expansion of International Society (Oxford, 1984 г.). Мне хотелось бы думать, что моя книга добавляет к этой теме недостающую грань.
8
Мимоходом (фр.). – Ред.
9
Ужасная реальность войны в то время недавно была впечатляюще описана Кристофером Даффи в книге: Christopher Duffy, The Military Experience in the Age of Reason (London, 1987).
10
Montague Bernard, in Oxford Essays (Oxford, 1856), 88—136 at 120.
11
См. его знаменитую книгу: Carl von Clauzewitz, On war, ed by Michael Howard and Peter Paret (Princeton, NJ, 1976), Bk. 8, ch. 2, p. 580. [Русск. пер.: Клаузевиц К фон. О войне. В 2 т. М: АСТ; СПб.: Terra Fantastica, 2002. Т. 2. С. 390]
12
David Howarth, A Near Run Thing (London, 1968), 26.
13
Я услышал этот рассказ от него примерно в 1972 г. В его книге (Pierre Boissier, Histoire do Comité Internationale de la Croix-Rouge: De Solférino à Tsoushima. Paris, 1963, 172–176) Людовик XV предстает в ореоле высокой гуманности. Похожая история, где героем выступает дож, приводится в книге: James Morris, Venice (2nd edn., London, 1983). Историю, описанную в следующем предложении, я привожу в своей книге War and Society in Revolutionary Europe (London, 1982), 143 and 312.
14
ДПI, ст. 35(2) – вторая из трех «основных норм» раздела «Методы и средства ведения войны».
15
Обзор (фр.). – Ред.
16
Труд, дело, творчество (фр.). – Прим. перев.
17
В связи с четырехсотлетним юбилеем Гроция (род. 1583 г.) в свет вышли несколько аналитических обзоров его заслуг. Очень хорошая работа, в наибольшей степени имеющая отношение к теме данной книги: Bull, Kingsbury, and Roberts (eds.), Hugo Grotius and International Relations (Oxford, 1990).
18
Жаркие схватки, драки, споры (фр.). – Прим. перев.
19
Часто приводимая цитата. Мне она впервые встретилась в книге: H. Butterfield and M. Wright, Diplomatic Investigations (London, 1966 г.), 91. [Русск. пер.: Гроций Г. О праве войны и мира. М.: Ладомир, 1994. С. 52.]
20
R. Tuck, Natural Rights Theories, their Origin and Development (Cambridge, 1979) 79.
21
Современные авторы, занимающиеся анализом международных отношений, регулярно обращаются к «системе Гроция» и «гроцианской теории», независимо от того, считают ли они его вклад выдающимся (как, например, Хедли Булл) или всего лишь существенным.
22
Поскольку я здесь вступаю в незнакомую мне область гуманитарных наук начала Нового времени, в которой я не более чем любитель, то хотел бы признать убедительным толкование этого фрагмента, данное Петером Хаггенмахером [Peter Haggenmacher] в статье, опубликованной в сборнике: Dufour, Haggenmacher, and Toman (eds.), Grotius et l’ordre Juridique International (Lausanne, 1985), 115–143, 129. и отметить, что вполне понимаю то, что он говорит о неправильной расстановке заголовков глав при переводе. [Русский перевод цитируемого фрагмента: Гроций Г. Указ соч. С. 577.]