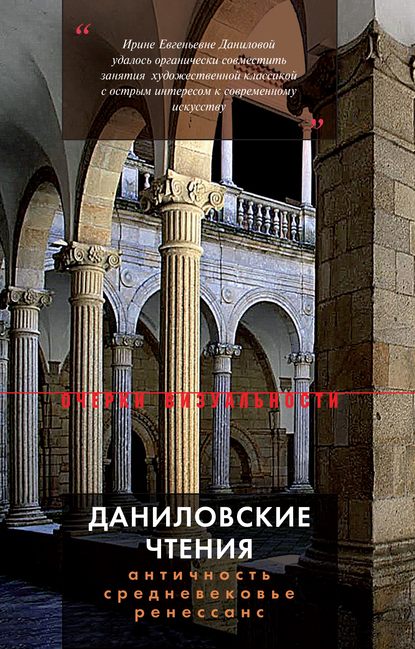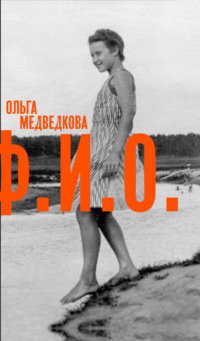Полная версия
Лев Бакст, портрет художника в образе еврея
Первая фотография мальчика по имени Лейб-Хаим Рабинович сделана в Гродно[72]. Ребенку около года. Он сидит в обитом бархатом кресле, в ателье гродненского фотографа. За его спиной колонка-подлокотник для тех, кто снимается стоя. Он одет в русский костюм: в шаровары, заправленные в сапожки, в вышитую косоворотку, подвязанную поясом. Ничего «еврейского» в его облике и костюме нет. Ничто не выдает его происхождения. Помимо этой фотографии у нас нет никаких материалов, свидетельствующих о присутствии в Гродно семей Рабиновичей или Розенбергов: серьезные поиски в гродненских архивах не дали ничего существенного[73]. К этой странице раннего детства художника нам, стало быть, добавить нечего. Как мы увидим, семья перебралась в Петербург вскоре после рождения Лейба-Хаима. Воспоминания о Гродно у художника едва ли сохранились, он вряд ли туда когда-либо возвращался и, видимо, именно поэтому писал потом везде не совсем то, что было, а то, что было «почти», а именно, что родился он в Петербурге. Таким образом, гродненские корни Бакста нам не дают ничего или почти ничего существенного. Это место рождения – не столько данность, сколько ее отсутствие, расплывчатое нечто, о котором необязательно вспоминать. И впрямь – зачем? Не лучше ли сразу родиться в Петербурге, вне черты оседлости? Ведь именно там Бакст родился по-настоящему. А раз так, значит, можно и в остальном жить свою жизнь, придумывая и поправляя ее как нечто, что со «случайными» физическими и географическими, временны́ми и пространственными данными, такими как место рождения, встречается лишь по касательной, зависит от них, но не слишком и скорее по принципу отталкивания. Это расстояние между Гродно и Петербургом, между «данным» от рождения, «полученным» по наследству и приобретенным, эта тысяча с небольшим километров, этот зазор между обстоятельством и выбором, между правдой и поэзией, жизнью и судьбой можно рассматривать как парадигматическое для процесса выстраивания Бакстом своей «истории». Страстный читатель Софокла, будущий оформитель одной из самых его трагически-пронзительных пьес Эдип в Колоне (1904), Бакст постоянно размышлял над понятием фатума. До момента прозрения Эдип не знает места своего рождения. Пытаясь спастись от пророчества, он покидает фиктивную родину, которую принимает за настоящую, с тем чтобы оказаться изгнанником на родине подлинной и осуществить предреченное богами. В отличие от Эдипа Бакст знает место своего рождения, но делает вид, что не знает, и создает тем самым то поле приблизительности, которое оказывается зоной свободы, территорией творческой, раскрепощающей, хотя иногда и призрачной. Но недаром так любит он Софокла и верит в рок: подлинное место рождения – в черте оседлости – настигнет его позднее, в 1912 году, и выпроводит навсегда из России, далеко и от Гродно, и от Петербурга, – в Париж, который примет его, как Афины приняли Эдипа.
Парижский призрак, между тем, так же маячил где-то рядом, с самого начала, сливаясь с не менее приблизительным, волнующим и грозным образом дедушки, поименованным, как мы видели, в свидетельстве о рождении Лейба-Хаима – Пинкусом Хаимовичем Розенбергом.
«Французский» дедушка
В Истории Льва Бакста Андрей Левинсон посвятил этому дедушке целую главу под названием «Салон канареечного цвета», за строками которой особенно отчетливо слышим мы рассказы самого Бакста. Мы знакомимся здесь с мальчиком Левушкой, который живет со своими родителями на Садовой улице, так прекрасно описанной Достоевским[74], в этом «шумно-тривиальном» квартале[75]. По субботам мальчик отправляется к своему дедушке, который проживает на Невском проспекте. «У этого маленького благоразумного существа, зажатого в безысходной реальности, был свой чудесный сезам, свой таинственный сад. Каждую субботу Левушка отправлялся на Невский проспект, туда, где в двух шагах от Генерального Штаба, от его грандиозного красного полукруглого фасада, от Зимнего дворца и от Адмиралтейства, в самом сердце надменных архитектурных феерий, жил дедушка, существо великолепное и туманно-таинственное, который, сам о том нимало не подозревая, приобщил будущего художника к культу Красоты, к трепету странного, к заклинанию роскоши. В доме деда ребенок попадал в необычайный, старомодный мир, искусственный рай его первых лет. Ибо будь то раннее влияние или атавизм, но это восхищение будет царить в жизни Бакста и определит, как это ни покажется странным, его призвание. Во всяком случае, художник, который в один прекрасный день долго делился со мной своими воспоминаниями, склонен так думать»[76].
Повторюсь: за стилизованным, несколько экзальтированным рассказом Левинсона стоят слова самого Бакста. Именно поэтому все нам здесь важно. На примере этого отрывка мы можем буквально проследить, как Бакст плетет свою легенду, выстраивает свои воспоминания, в которые сам почти верит, как творит он память о «великолепном, туманно-таинственном» предке, живущем не просто в Петербурге, а в самом его прекрасном, феерическом, царственном и царском сердце рядом с дворцом, в центре, замкнутом полукругом Генштаба, в котором обитают близкие к трону аристократы и в котором царит Красота. Кто же этот таинственный и благородный дедушка, священник в храме Красоты? Послушаем дальше, что рассказывает Левинсон:
«Дедушка, любопытный персонаж, был парижанином эпохи Второй Империи[77], светским львом, который – вполне возможно[78] – общался с такими персонами, как Морни и Паива, был любезным эпикурейцем, человеком вкуса на манер своей эпохи, который создал себе в Петербурге дом, достойный его неистощимых воспоминаний»[79].
Итак, дед был парижанином: между центром Петербурга и Парижем расстояние было, оказывается, короче, чем между Петербургом и Гродно. А когда жил дедушка в Париже? А может быть, он даже там родился? Все биографы Бакста, и особенно восторженно – выходцы из его семьи, его внучатые племянники, будут повторять эту историю, а те, кто в ней все же усомнится, придумают другого дедушку-француза, не Розенберга, а Бакстера, по материнской линии. Ведь невозможно же не поверить в этого дедушку – денди, друга (вполне возможно!) банкира, политического деятеля, депутата и министра графа Шарля Августа Луи Жозефа де Морни (1811–1865). Говорили, что Морни был внебрачным сыном самой королевы Голландии Гортензии де Богарне и графа Флао и приходился, таким образом, внуком Талейрану и сводным братом Наполеону III. Правда, Левинсон не говорит прямо, что дедушка Бакста дружил с де Морни, а употребляет это имя во множественном числе, как имя не собственное, а нарицательное, но это только усиливает эффект: дедушка Бакста дружил не с одним де Морни, а с целой командой ему подобных. То же самое в случае с Паивой (1819–1884). Это была очень красивая, знаменитая и богатая куртизанка еврейского происхождения (ее настоящее имя Эстер Лахман), родившаяся в Москве, в семье ткача. В 1836 году она вышла замуж за мелкого парижского портного, но, быстро покинув своего супруга, стала одной из самых блестящих дам полусвета, покровительницей искусств и владелицей особняка на Елисейских Полях, этого символа безудержной роскоши, который знают все парижане и в котором центральный зал был как раз желтым, канареечным. Дед Розенберг водился, стало быть, не только с де Морни, но и с «такими, как» Паива. Впечатление, будто читаем французский роман в духе Дюма-сына. Сам Левинсон не сообщает о профессии деда-парижанина, но позднейшие биографы припишут ему статус кутюрье: таким, как Паива, нужны были наряды. И призвание Бакста от деда к внуку – от кутюрье к костюмеру – объясняется как по маслу.
Далее Левинсон описывал канареечный салон в петербургской квартире деда, который приводил Левушку в восхищение еще и потому, что в квартире его родителей ничего подобного не было. «Все в этом приюте мечты волновало чувствительность ребенка: шитые позументом шелка, прихотливые орнаменты, отягощенные позолотой. Но наивысший восторг вызывал золотой салон со стенами, затянутыми канареечным шелком, с рокайльной мебелью по моде 1860-х годов, с белыми мраморами и желтыми кашпо, в которых росли редкие растения, и – пароксизм счастья! – четыре золотые клетки, в которых егозили канарейки. В углу, на подставке – огромный макет Соломонова Храма с его фантастической архитектурой; на большой картине евреи были изображены скорбящими перед разрушенными стенами Сиона. Бывший парижский светский лев не предал свое племя. Он не забыл Иеремию ради Терезы»[80]. Что это за Тереза? Имя это было «псевдонимом» Паивы в начале ее скандальной карьеры. На что же Левинсон, вслед за Бакстом, намекал: уж не на связь ли деда Розенберга и Паивы? Увековеченный пером Золя, Бальзака, Мопассана, Дюма образ парижской куртизанки стал во второй половине XIX века всемирным фантазмом[81]. Не было выше шика для знатного европейца того времени, чем содержать парижскую куртизанку. В эпоху Второй Империи это не только не скрывалось, но даже афишировалось, свидетельствуя о положении в обществе, успехе как финансовом, так и социальном. В среде этих дам полусвета, или, как их называли, Больших Горизонталок[82], процветала мода. Они были покровительницами самых смелых кутюрье, таких как Шарль Фредерик Ворт (1825–1895), портной императриц, актрис и, не в последнюю очередь, куртизанок.
Вот в каком блестящем мире вращался дед Розенберг. Вот в чьем доме, в чьем канареечном салоне сложился вкус нашего художника. Читателю, знакомому с искусством Бакста, конечно, будет трудновато узнать его в претенциозной, кичливой красоте интерьеров розенберговских апартаментов, которые вызовут у него скорее улыбку, чем восторг, и которые, как в кривом зеркале, пародируют, кстати, архитектуру Зимнего дворца и его интерьеров. В целом же образ деда, который складывается при чтении этого описания, близок к тому типу эмансипированного еврея, которого Ханна Арендт называла «выскочкой[83]» (к этому типу она относила, например, Стефана Цвейга, к нему же принадлежал, несомненно, и прустовский Сван): его характеризовала страсть к светскому обществу, связям, показной роскоши – частью которой является куртизанка – и в целом к демонстрации своего успеха.
Но вернемся к документам. Что сообщают они нам о дедушке-парижанине? Благодаря даже не архивам, а скорее справочникам, мы впервые встречаемся с подлинным Пинкусом Хаимовичем Розенбергом в 1860 году, за шесть лет до рождения Левушки. Ему 41 год, он произведен в купцы второй гильдии. В таковой гильдии он пребывал в течение семи лет и в 1867 году перешел в первую. Этот переход был записан в Справочнике петербургских купцов на 1867 год: «Розенберг, Пинкус Хайлович (так!), 46 лет, Еврей, в куп[еческом] сост[оянии] с 1860 г. а с 1867 по 1гил[дии] Жит[ельство] Адм[иралтейская] ч[асть] в д[оме] Габса, по Нев[скому] пр[оспекту]. Содерж[ит] магаз[ин] готов[ых] воен[ых] вещ[ей] в том же д[оме]. На гор[одовой] службе не был, сост[оит] Поч[етным] Старш[иной] Никол[аевского] Детс[кого] Пр[июта] с 1865 г.»[84]
Первое, с чем нам придется по прочтении этих строк расстаться, это с образом светского кутюрье. Пинкус Розенберг, родившийся в 1821 году, был, как минимум начиная со своих 39 лет, торговцем военной униформой. Был он богатым и даже очень богатым купцом, поскольку, чтобы вступить в первую гильдию, нужно было иметь капитал, превышающий пятьдесят тысяч рублей. А это была огромная сумма. Но, может быть, прежде чем стать таковым, в юности, жил он в Париже и кутил в золотых салонах Терезы-Паивы? Эта гипотеза, к сожалению, также не выдерживает проверки. Гораздо более близким к истине представляется рассказ, который мы находим в Воспоминаниях писателя еврейского происхождения, бывшего кантониста Виктора Никитина (1839?–1908)[85]. Никитин водил тесное знакомство с Пинкусом Розенбергом, сотрудничал с ним, в частности, в рамках Тюремного комитета, председателем которого был Розенберг и членом которого состоял одновременно с ним Никитин. Действительно, если в Книге петербургских купцов на 1869 год Пинкус Розенберг, 48 лет, записан точно так же, как в книге на 1867 год[86], то в справочнике на 1871 год он значится уже директором Тюремного комитета, назначенным на эту должность в ноябре 1870 года[87]. Нам стоит доверять свидетельству Никитина, который сам в дальнейшем стал директором означенного комитета. «Протянулись годы, в течение которых я изучал его [Розенберга] из любопытства и вызывал его на откровенность. ‹…› Смолоду прослужив 25 лет солдатом мастеровой команды и закройщиком Преображенского полка в качестве портного, обшивал он офицеров. Выйдя в отставку, умом и ловкостью открыл и быстро расширил свою мастерскую до значительных размеров и одновременно ссужал заказчиков деньгами под проценты, а когда разжился – продал мастерскую, приписался в купцы и в члены благотворительных организаций, по ним за пожертвования пробрался в почетные граждане, поселился в бельэтаже на Невском, обставил шикарно квартиру, женился на молоденькой красавице еврейке и ежедневно катался с ней по Невскому в щегольском экипаже. Она обращала на себя особое внимание светских франтов, но ревнивый муж ни на шаг одну ее от себя не отпускал, а потому франты поневоле знакомились с ним посредством займов у него денег. Мало-помалу он сделался светским ростовщиком и узнал всю высшую аристократию, посредством наживы от нее. Короче, его знало все столичное общество»[88].
Покончив с образом парижского кутюрье, нам придется познакомиться с этим новым дедушкой Розенбергом, бывшим в юности не светским денди, а солдатом-швеей Преображенского полка, а затем ростовщиком с весьма сомнительной репутацией, который, несомненно, воспользовался законом 1867 года, позволившим низшим слоям армии, в том числе евреям, оставаться на пенсии в тех местах, где они служили, даже вне черты оседлости, – и поселился в Петербурге. Он разбогател на поставках армии, полученных благодаря ловкости и связям, оставил прежнюю жену по фамилии Бакстер и женился на молодой красавице, которую использовал как приманку для заведения новых связей. Короче, дедушка был еврейским нуворишем, Шейлоком, мишенью для антисемитских карикатур, в которых еще с XV века фигурировал весьма непривлекательный образ еврея-ростовщика[89]. Так же карикатурно описал в одном из своих коротких рассказов дедушку Розенберга Аркадий Аверченко, близко знавший Бакста по работе в журнале Сатирикон. Правда, в этом рассказе Пинкус изображен хозяином «маленькой мануфактурной лавчонки», а отнюдь не магазина военной формы в доме Габса на Невском проспекте, 4. Но нам здесь важнее атмосфера.
В лавку Пинкуса Розенберга заходит чиновник Самсонов и просит «темно-синего бархата». Комизм ситуации заключается в том, что такового у Пинкуса нет, но отпустить клиента с пустыми руками он не намерен. Используя невероятные речевые кульбиты, Пинкус пытается продать Сазонову не темно-синий бархат, а темно-синий шелк, манчестер или кретон, или же бархат, но черный. Сохраняя один из двух элементов в формулировке просьбы (материал или цвет), он пытается подменить второй и таким образом, разыгрывая то глухоту, то глупость, «охмурить» клиента, который между тем не сдается. Дуэль торговца с покупателем приправлена гротескно переданным Аверченко «акцентом» Пинкуса, говорящего на «еврейско-русском», сдобренном такими выражениями: «это было бы не так смешно, как грустно», «я вам сейчас покажу такой прекрасный бархат, что вы закричите от удовольствия», «как вы найдете этот гениальный бархат», «он почти темно-синий; уже такой почти, что дальше некуда», «теперь самый модный бархатный цвет так это черный; всякий человек носит этот цвет», «такой синий, что даже тяжело видеть», «что вы потом снизойдете горькими слезами», «я вам покажу бархат так скоро, что хуже всякого курьерского поезда».
Этот антисемитский прием карикатурного имитирования «акцента», являющегося следствием еврейского билингвизма, неожиданно принимает в конце рассказа Аверченко совершенно иной характер, когда – почти как у Шекспира – от бренной материи мысль Пинкуса взвивается в метафизические высоты: «Кретон вам не нужен? Хорошо. Мы вам дадим то, что вам нужно. Бархат нужен? Хорошо. Вот теперь вы мне сказали, и я знаю: господину чиновнику нужен бархат. И я был бы убийцей, если бы отнимал у вас время. Уж время такая вещь, что прошла одна минутка, одна маленькая минуточка, и ее уж нет. Она исчезла, и сам Господь Бог не даст ее обратно, не повторить ни лавочнику Розенбергу, ни господину чиновнику…»
Так же, почти трагически и вместе с тем абсурдно, звучит отказ Пинкуса признать на некоем опять же метафизическом уровне тот факт, что темно-синего бархата у него нет, а точнее, самый факт того, что чего-то у него может не быть: «Что значит – нет? Синий бархат мы ждем – через две недели заходите. Могу предложить также головные шали, одеяла пике, галстуки…» Но даже принимая в расчет этот грустноватый философический тон, аверченковский торгаш Розенберг так же карикатурен, как и далек от «парижского» дедушки.
Интереснее и глубже образ Пинкуса Розенберга в воспоминаниях Никитина. Последний описывает благотворительность купца как его взнос обществу за членство в нем: «…в Комитете считался в числе полезнейших членов: за право называться Директором и сидеть между известными лицами он щедро платился». И все же Никитин признает действительную, непоказную щедрость Пинкуса и его заинтересованность в делах Тюремного комитета, а также Николаевского детского приюта. Специальная кухмистерская для евреев-арестантов содержалась в Петербурге на его личные деньги; так же, на свои деньги, заказывал он новые матрасы и кровати для детей приюта. Отдельные его жесты носили благородный, даже, можно сказать, аристократический характер: так, дал он всю сумму на починку водопровода, «лишь бы перестали спорить». Другим аспектом деятельности Розенберга было его предпринимательство, связанное с верой в технический прогресс. Известны были его крупные вложения в «Товарищество электрического освещения Петербурга» Александра Николаевича Лодыгина[90]. В договоре об этом товариществе, подписанном 16 сентября 1874 года, Пинкус Хаймович Розенберг фигурирует как петербургский первой гильдии купец и потомственный почетный гражданин.
Перед своей кончиной в 1881 году, в присутствии Никитина, Пинкус Розенберг возвращал какому-то знатному лицу, имени которого Никитин не называл, деньги, полученные без расписки: «…теперь я рад, что отдал их ему; я сильно сомневался, чтобы жена возвратила их в случае моей смерти, потому что она жадная на деньги, а я не хочу умирать бесчестным».
Но наряду с такими свидетельствами человеческих качеств, сочувствия и бескорыстия, некоторые записанные Никитиным разговоры с Розенбергом погружают нас в бездны его амбициозности:
«– Кто в Петербурге первый человек?
– Государь.
– Нет, а кроме царской фамилии?
– Не знаю.
– Так я Вам скажу: я, да, я.
– Почему Вы?
– Потому что вся аристократия мне должна, и векселями ее наполнен вот этот железный шкаф; она меня любит за то, что я ее выручаю, и уважает за то, что я ей услуживаю, а некоторых и обогащаю».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Моим учителем в 1990-х годах в Школе высших гуманитарных исследований в Париже был один из ведущих представителей этого направления во Франции – Жак Ревель (Jacques Revel (dir.), Jeux d’échelles. La micro-analyse à l’expérience, Paris, Gallimard, Le Seuil, 1996; Jacques Revel, «La Biographie comme problème historiographique», Biographie schreiben, Wallstein Verlag, 2003. Р. 329–348). Для постановки проблемы биографии, основанной на пристальном изучении «детали» (или, по выражению Ауэрбаха, «исходного пункта») и на ее теоретическом потенциале, я отсылаю русскоязычного читателя к работам Карло Гинзбурга, в частности к его статье: «Широты, рабы и Библия: опыт микроистории» (пер. с англ. Т. Бузиной; НЛО, 2004, № 65). Сама я в жанре биографии опубликовала, в частности, книгу об архитекторе Леблоне: Jean-Baptiste-Alexandre Le Blond, architecte. De Paris à Saint-Pétersbourg, préface de Marc Fumaroli, membre de l’Institut, collection «République européenne des arts», dirigée par Marc Fumaroli et Antoine Compagnon, Paris, Alain Baudry éditeur, 2007 (prix de Marianne Roland-Michel).
2
Olga Medvedkova, Kandinsky ou la critique des critiques, Les Presses du Réel, 2013.
3
См., например: Сергей Голынец, Лев Самойлович Бакст. Графика, живопись, театр, Москва, БуксМарт, 2018.
4
Джон Болт, Елена Теркель, «Литературное творчество Льва Бакста», Моя душа открыта, т. 1 (далее – МДО, 1), Москва, 2012. С. 30. Цитируемый источник: ОР ГТГ. Ф. III. Ед. хр. 1007.
5
Я использую этот термин в психологическом значении акта, в результате которого внутреннее (субъективное), чувствуемое или желаемое, воспринимается или выдается за внешнее (объективное).
6
Olga Medvedkova, «„Scientifiques“ ou „intellectuels“? Louis Réau et la création de l’Institut français de Saint-Pétersbourg», Cahiers du Monde russe, 43/2–3, avril – septembre 2002. Р. 411–422; id., «L’invention de „l’expansion de l’art français“ par Louis Réau (1881–1961)», Encyclopédie pour une histoire nouvelle de l’Europe [en ligne], mis en ligne le 23/11/2015.
7
Louis Réau, «Leo Bakst, Renovator of the Modern Art», Inedited Works of Bakst, Essays on Bakst by Louis Réau, Denis Roche, V. Svetlov and A. Tessier, Brentano’s, New York, 1927. Р. 44. Мой перевод с английского; все переводы цитируемых в этой книге французских и английских текстов – мои.
8
Я заимствую здесь выражение Деррида «étant entre» в его книге La Vérité en peinture (Правда в живописи).
9
И. Чериковер, «Обращение в христианство», Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона (далее – ЕЭБЭ), т. 11, СПб., 1911, стлб. 884–895. Это 16-томное, исключительное по качеству статей энциклопедическое издание, созданное на основе нью-йоркской Еврейской энциклопедии и выходившее в 1908–1913 гг. в Петербурге, будет здесь одним из наших важнейших помощников для понимания синхронного еврейского контекста.
10
Pierre-André Taguieff, L’Antisémitisme, Paris, PUF, 2015. Для понимания французского антисемитизма, в обществе, в котором вращался во Франции Бакст, очень помогает чтение Пруста, в частности его Германтов.
11
О философской интуиции см.: Xavier Tilliette, Recherches sur l’intuition intellectuelle de Kant à Hegel, Paris, Vrin, 1995. Об исторической интуиции в рамках феноменологического дискурса см. работы Карла Ясперса и Поля Рикёра. В рамках микроистории: Carlo Ginzburg, Mythes, emblèmes et traces. Morphologie et histoire, Paris, Flammarion, 1989.
12
Лев Бакст, Серов и я в Греции, дорожные записи, Берлин, Слово, 1923; переизд.: Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников, Ленинград, 1971; Е.А. Теркель, Москва, ГТГ, 2016. Мой перевод на французский: Léon Bakst. Serov et moi en Grèce (1923), traduit du russe et introduit par Olga Medvedkova. Préface de Véronique Schiltz, membre de l’Institut. Paris, Triartis, 2014 (prix de la traduction du festival de l’histoire de l’art à Fontainebleau). Почти одновременно появился перевод этой книги на итальянский: Léon Bakst. In Grecia con Serov, a cura di Valentina Parisi, Excelsiior, Milano, 2012; см. также: Charles Spencer, Bakst in Greece, Gema Publications, Athènes, 2009.
13
Лев Бакст, Эта жестокая первая любовь, МДО, 1. С. 171–370.
14
См., например, богатую материалом, но и наполненную множеством «симптоматических» ошибок работу Сергея Голынца, основанную именно на такого рода путанице: С.В. Голынец, «Рабинович – Розенберг – Бакст», С.П. Дягилев и современная культура: материалы международного симпозиума «Дягилевские чтения». Пермь, май 2012 – май 2013 г. Сост. и науч. ред. О.Р. Левенков. Пермь, Книжный мир, 2014. С. 70–88. Неудивительно, что новые статьи о происхождении и семье Бакста не перестают появляться, ибо, с одной стороны, принципиально не разрешен вопрос об источниках, а с другой стороны, не поставлен самый главный вопрос о «протезе происхождения». Юбилей Бакста в 2016 г., к сожалению, не изменил этой ситуации: см. мои рецензии: «Bakst, penseur et écrivain: en russe et en français», Cahiers du Monde Russe, 57/4, 2017. Р. 975–979; «150th birthday celebration of Léon Bakst in three exhibition catalogues», Ars Judaica, 2018. Р. 1–4. Эти же ошибки повторены и в уже указанной нами биографии Бакста, опубликованной Сергеем Голынцом в 2018 г.