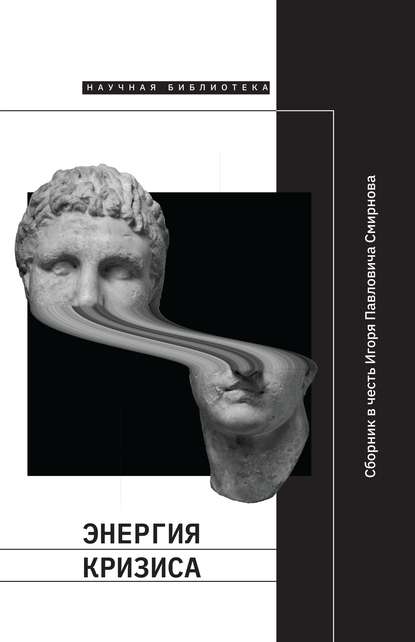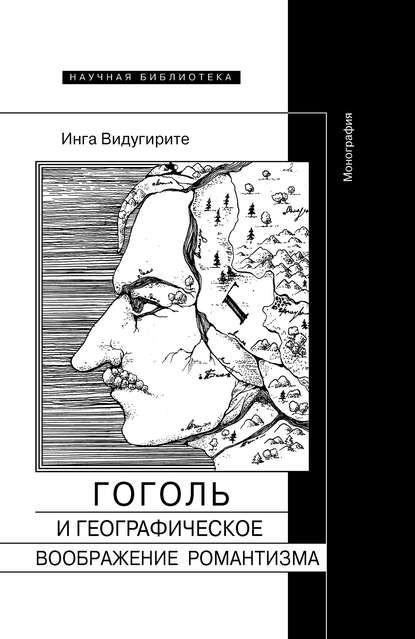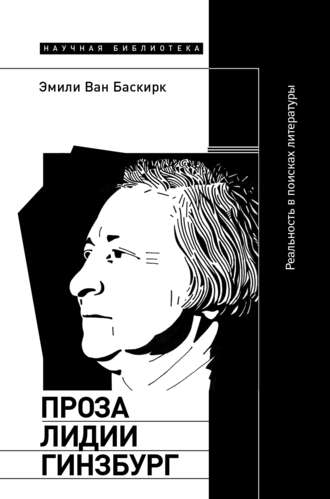
Полная версия
Проза Лидии Гинзбург
С ощущением, что впереди безграничное будущее, она начала ходить на занятия к знаменитому философу-неокантианцу Александру Введенскому, который преподавал в Петроградском государственном университете (бывшем Санкт-Петербургском университете)[59]. Как водится у многих юношей и девушек, литературную деятельность она начала с сочинения стихов и даже заслужила похвалу Николая Гумилева[60]. Однако, даже когда Гинзбург называет свой первый год в Петрограде многогранным «уроком» – «и студия, и вечера поэтов, и музеи, и город», – она все же подытоживает, что все ее достижения были «странно отрицательного свойства»[61]. Ее все еще обуревала неразделенная любовь (см. главу 3), а пробиться в литературные круги не удалось. После того как ее не приняли в университет, Гинзбург летом 1921 года вернулась в Одессу. Но не рассталась с твердым намерением оставить в прошлом «несерьезный» город юности, чтобы реализовать свои таланты на практике[62]. Вспоминаются слова, которые Эйхенбаум произнес через несколько лет, приехав в Одессу. Гинзбург записала их так: «Не понимаю, – сказал мне Эйхенбаум задумчиво, – как это вы могли от моря, солнца, акаций и проч. приехать на север с таким запасом здравого смысла. Если бы я родился в Одессе, то из меня бы, наверное, ничего не вышло»[63].
В октябре 1922 года Гинзбург была принята в Институт истории искусств и снова перебралась в Петроград. Поступить в институт ей помогли одесские друзья, которые уже обосновались в Петрограде[64]. Она вела образ жизни нищей студентки (в городе, где население в целом сильно обнищало) – жила у друзей семьи или ненадолго арендовала комнату у тех, кто сам снимал жилье;[65] иногда ей присылал деньги дядя Марк.
Гинзбург утверждала, что весной 1923 года, когда Юрий Тынянов расхвалил самый первый ее доклад на семинаре, она всецело и всерьез избрала стезю литератора[66]. Если блистательный ученый подтверждает, что у вас есть талант, это вселяет опьяняющий восторг пополам со страхом[67]. В дневнике она отмечает: «Мне удалось то, что удается далеко не всем – найти дело, которое мне нравится и которое мне подходит, дело которое мне удается, и которое может быть мне будущее; я убедилась (наконец-то объективно) в том, что у меня есть силы творческие, м. б. и большие, но уже во всяком случае такие, которые на улице не валяются». С другой стороны, будущее – теперь, когда оно воплотилось в реальность, вместо того чтобы существовать только в мечтах, – неизбежно выглядело куда более тусклым, чем ее подростковые грезы: «Я верила, что я стану новым необычайным человеком, в новых необычайных условиях». (Чтобы мы случайно не подумали, что речь идет об утопическом «советском новом человеке», Гинзбург уточняет: «Новoе-то должно было быть внешне и для других, для меня же, этот человек был родной и знакомый тот идеальный человек, которого я вынашивала в себе».) «А теперь, – продолжает она, – мне все тверже кажется, что того человека и тех условий уже никогда не будет». Она продолжает воспринимать себя как «человека морально запутанного; ‹…› человека, для которого закрыта большая дорога личной жизни»[68].
Но Гинзбург отбросила сомнения и шагнула в новую творческую и профессиональную жизнь. В Институте истории искусств – колыбели русского формализма – она, по ее собственным словам, претерпела полную метаморфозу благодаря общению со своими учителями, которых называла мэтрами (в ее орфографии – метрами).
Они же, метры, как таковые, в чистом виде, изменили жизнь. ‹…› Если бы не было Эйхенбаума и Тынянова, жизнь была бы другой, то есть я была бы другой, с другими способами и возможностями мыслить, чувствовать, работать, относиться к людям, видеть вещи[69].
Намного позднее она вспоминала, как опыт преподавания и публикаций побудил ее группу на какое-то время ощутить себя «начинающими деятелями начинающегося отрезка культуры»[70]. Формализм она описывает как «течение, будто бы противостоявшее эпохе, но на самом деле порожденное эпохой»[71]. Какими бы недолговечными ни оказались эти ощущения, Гинзбург полагала, что они предопределили ее будущий путь. Присоединение к авангардному движению в литературе и науке навевало упоение своим новаторством, открытиями и участием в жизни общества.
В 1924 году избранная группа студентов начала встречаться на «домашнем» семинаре под руководством Эйхенбаума и Тынянова, избрав своей главной темой русскую прозу XIX века. Эта группа учеников, позднее известная как «младоформалисты» (в их числе были Борис Бухштаб, Виктор Гофман и Николай Степанов), сообща подготовила сборник статей «Русская проза»[72]. В этот сборник, вышедший в 1926 году, была включена первая статья Гинзбург о «Старой записной книжке» князя Петра Вяземского – поэта-романтика, друга Жуковского и Пушкина; в этой череде разрозненных зарисовок, заметок и коллекции знаменитых bon mots Вяземский на закате жизни попытался воссоздать в широком масштабе эпоху своей молодости. В том же году Гинзбург окончила Институт и стала в нем работать научным сотрудником и ассистентом преподавателя[73].
В институтские годы Гинзбург наконец-то попала в круги петроградской литературной элиты и вскоре познакомилась с Анной Ахматовой, Осипом Мандельштамом, Осипом Бриком, Владимиром Маяковским, Николаем Заболоцким и многими другими. Работая с наследием Вяземского, Гинзбург одновременно начала писать собственные «Записные книжки» в манере Вяземского, призванные запечатлеть яркую и разнообразную картину ее времени и среды. С середины 1920‐х годов научные занятия Гинзбург были взаимосвязаны с ее собственными литературными планами и устремлениями. Хотя она всю жизнь занималась наукой, что давало ей профессию и средства к существованию, свои исследования истории литературы она воспринимала как проекцию проблем, важных для нее как писателя.
В конце 1920‐х годов случились кризис формальной школы и ее разгром идеологами-марксистами, повлекший за собой закрытие Института истории искусств и окончательные меры, путем которых формалистам заткнули рот в 1930 году[74]. Еще до этих событий, в 1928 году, Гинзбург отчислили из очной аспирантуры Ленинградского государственного университета (где она начала учиться под руководством Эйхенбаума) «ввиду недостаточного применения [ею] марксистского метода»[75]. В декабре 1929 года в Институте истории искусств марксистский идеолог из Москвы Сергей Малахов устроил Гинзбург разнос за статью о поэзии Веневитинова[76]. Малахов, планировавший опубликовать в журнале «Красная новь» статью с осуждением «воинствующего идеализма» Гинзбург, считал, что его миссия – «стереть ее с лица земли» (как выразилась сама Гинзбург). Гинзбург была уязвлена тем, что Малахов публично пригвоздил ее к позорному столбу, а другой марксист (Яков Назаренко) распространял слухи об этом; но намного сильнее ее возмутило то, что ее учителя не пришли на это мероприятие и не помогли защитить ее от критики (она полагала, что им было заранее известно о намеченной атаке). Она обменялась с Эйхенбаумом и Тыняновым серией писем, в которых объявила, что перестает быть их ученицей; после этого Тынянов забрал из задуманного сборника свою статью, явно отказавшись публиковаться под одной обложкой с Гинзбург[77].
Еще до того, как разразилась окончательная катастрофа, у младоформалистов, особенно у Гинзбург, осложнились отношения с «метрами» ввиду интенсивной борьбы «отцов и детей», колоссального политического нажима, а также того факта, что сама Гинзбург обратилась к социологическим методам[78]. Этот разрыв с учителями (особенно с Тыняновым) оставил в ее душе глубокую рану, но Гинзбург тщательно это скрывала и никогда, даже в последние годы жизни, не предавала случившееся огласке. Хотя в личных отношениях она отдалилась от своих учителей, но всю жизнь хранила им верность и оставалась близка к их интеллектуальной традиции, не считаясь даже с риском испортить свои профессиональные перспективы[79].
В 1932 году, оглядываясь на прошлое, Гинзбург осознала, что к 1928 году уже отбросила возвышенные надежды на то, что сумеет воплотить свои творческие устремления. Она четко обозначила три сферы деятельности, особенности которых продолжала изучать и ощущать на собственной шкуре последующие пять десятков лет: творчество, работа и халтура[80]. В 1930–1932 годах она написала начерно статьи о Прусте и «Записных книжках писателей», сама сознавая, что опубликовать их тогда было невозможно[81]. Попыталась заработать на жизнь детской литературой. В 1930 году подписала договор на детский детективный роман «Агентство Пинкертона», который после некоторых сложностей опубликовала в начале 1933 года[82].
В то время (и вплоть до 1970 года) Гинзбург жила в центре Ленинграда, в 1928 году официально прописавшись в квартире на канале Грибоедова (в доме сразу за Казанским собором). Это была коммунальная квартира, в которой Гинзбург занимала одну просторную комнату; в числе соседей были ее собеседник по интеллектуальным разговорам Григорий Гуковский, его первая жена Наталья Викторовна Гуковская (Рыкова) (умершая в том же году при родах), его брат Матвей и Селли Долуханова, сестра ее институтской однокурсницы Веты Долухановой[83]. В 1931 году Гинзбург поселила свою родню поближе к себе – перевезла из Одессы мать и дядю Марка (что помогло им спастись от надвигавшегося голода 1932–1934 годов на Украине)[84]. Гинзбург отгородила часть своей комнаты, превратив ее в маленькую комнату для матери, где та прожила вплоть до кончины в блокадном 1942 году. Тогда же Гинзбург помогла устроить дядю в солнечной комнате в пригороде Ленинграда – Детском Селе (бывшем Царском Селе, впоследствии городе Пушкине); там Марк Гинзбург прожил остаток жизни и скончался в 1934 году.
В 1935 году Гинзбург вступила в Союз писателей в рамках массированной кампании приема в эту основанную в 1934 году организацию. С 1930 по 1950 год она работала сразу во множестве мест лектором, подрабатывая в дополнение к своему основному источнику дохода – по-прежнему скудным гонорарам за публикации. Поскольку раньше она принадлежала к кругу младоформалистов (а также из‐за ее еврейской национальности), ее просьбы о трудоустройстве преподавателем в такие престижные учебные заведения, как Ленинградский государственный университет (ЛГУ), неизменно отклонялись. Она читала лекции на рабфаке Института гражданского воздушного флота (1930–1934) и в литературном кружке на фабрике «Красный треугольник» (1932–?)[85]. В конце 1930‐х годов ей удалось воспользоваться приближавшимся столетием смерти М. Ю. Лермонтова (выпавшим на 1941 год), чтобы в 1940 году защитить в ЛГУ кандидатскую диссертацию на основе своей монографии «Творческий путь Лермонтова», изданной в том же году[86].
Живя в Ленинграде, Гинзбург уцелела в годы сталинского террора, хотя многие из ее друзей были арестованы и сосланы или казнены. Лишь один раз, в 1933 году, ее арестовали и две недели продержали под стражей в связи с делом, которое пытались завести на ее друга Виктора Жирмунского[87]. В своих эссе Гинзбург описывает 1930‐е годы как время, которое в психологическом отношении было тяжелее, а в нравственном – сложнее, чем 1920‐е годы. С одной стороны, строительство нового общества вселяло энтузиазм, порождавший у интеллигенции мучительное желание включиться в работу – желание «Труда со всеми сообща / И заодно с правопорядком»[88]. С другой стороны, были налицо ужасы коллективизации, голода, арестов и ГУЛАГа, вынуждавшие прибегать к таким стратегиям выживания, как «приспособляемость к обстоятельствам; оправдание необходимости (зла в том числе) при невозможности сопротивления; равнодушие человека к тому, что его не касается»[89]. Гинзбург не причисляет себя к «завороженным» – тем, кого в сталинскую эпоху очень уж увлекла советская идеология; по ее собственному объяснению, идеология ее не заворожила, потому что устремления у нее были интеллектуальные, а не общественные или профессиональные[90].
Конец периода «Бури и натиска» в жизни Гинзбург и крупные перемены в социальном статусе и профессиональных амбициях способствовали ее литературной переориентации. Она перестала считать себя причастной к одной из стержневых культурных тенденций и все больше позиционировала себя как наблюдатель, пытающийся осмыслить ход истории. Если учесть, что в интеллектуальном и социальном отношении она была далека от «общего дела», Гинзбург почувствовала на собственной шкуре ту изолированность, «отторгнутость», в которой нет ничего от романтической позы, – это отторгнутость «практическая, буквальная, к тому же грозящая отнять кусок хлеба»[91]. С начала 1930‐х годов неудачи, одиночество и маргинальность стали для Гинзбург ключевыми факторами ее литературной идентичности и автоконцепции. Она представляла собой маргинальную фигуру как писатель, не имеющий никаких надежд на публикацию своих произведений, как научный работник без постоянного места работы, живущий в тоталитарном государстве, как скрытая лесбиянка во все более гомофобном обществе, как еврейка в стране, где почти немаскируемый антисемитизм постепенно стал частью официальной идеологии, а дискриминация по национальному признаку укоренилась и сделалась устоявшейся практикой. На протяжении всей жизни Гинзбург не меняла отношения ко всем этим аспектам своей новой социальной роли: она была готова смириться с маргинальным статусом, но непреклонно отказывалась его идеализировать. Она была готова с достоинством терпеть лишения, но не соглашалась искать в них хоть толику утешения. Позицию Гинзбург и структуру ее новых литературных экспериментов предопределяла ностальгия по общественным нормам, которые благоприятствовали бы желанной для нее этике.
В 1930‐е годы у нее сильно ослаб интерес к записным книжкам как жанру. Если ее записные книжки 1925–1930 годов занимают 816 страниц, то записные книжки за 1931–1935 годы вполовину меньше по объему – 376 страниц. В 1935 году она вообще прекратила их вести (последнюю записную книжку, после длительного перерыва, Гинзбург вела в 1943–1944 годах). Более того, меняется характер записных книжек. В 1930‐е годы в них становится меньше забавных эпизодов, портретов великих деятелей культуры, блестящих шуток и острот, афоризмов и отрывков подслушанных разговоров, зато появляется больше мини-эссе, фрагментов и размышлений о социальных вопросах и экзистенциальных проблемах. Возможно, Гинзбург стала воспринимать некоторые из этих эссе и фрагментов скорее как наброски для произведений в более крупных жанровых формах, чем как завершенные вещи.
Первое «повествование» Гинзбург (термин «повествование» она ввела позднее, чтобы дать определение этому типу промежуточной литературы) – «Возвращение домой» – написано в период между 1929 и 1936 годами, а для публикации датировано 1931 годом[92]. В нем она анализирует психологию любви и эмоциональную фактуру встречи и расставания влюбленных на фоне различных пейзажей. В конце 1930‐х годов были написаны еще как минимум два повествования, в них анализировались личные переживания Гинзбург в связи со смертью знакомых, друзей и близких родственников («Мысль, описавшая круг» и «Заблуждение воли»). В конце 1980‐х Гинзбург запишет диалог, в котором сформулированы особенности ее наследия как прозаика:
Вот человек написал о любви, о голоде и о смерти.
– О любви и голоде пишут, когда они приходят.
– Да. К сожалению, того же нельзя сказать о смерти[93].
К моменту, когда она сделала эту запись, Гинзбург уже опубликовала или готовилась опубликовать большую часть своих «повествований». Но читательской аудитории оставалось неизвестно, что на ранней стадии они задумывались как части большого объединенного произведения, которое Григорий Гуковский приветствовал, сочтя крупным романом[94]. Гинзбург, всю жизнь высоко ценившая Льва Толстого, дала этому квазироману название «Дом и мир»: «мир» – в смысле «окружающий мир», «вселенная»[95]. Это произведение она мыслила себе как что-то вроде дневника-романа, где описывались бы ее поколение и ее социальная среда – то, что в другом месте в записных книжках она назвала «гуманитарная интеллигенция советской формации и неказенного образца»[96].
Как явствует из определения, которое Гинзбург дает жанру этого произведения, она намеревалась сделать свой opus magnum почти документальным текстом, где художественный эффект создавался бы не вымыслом, а отбором и композиционным построением, а также особой смесью описательных кусков с размышлениями о природе человека, психологии, этике и истории. Своих целей Гинзбург старалась достичь, разрабатывая скрупулезные квазинаучные методы самоанализа и анализа своего ближайшего окружения, зарисовывая и анатомируя характеры окружающих, дотошно записывая их разговоры на манер стенографа. Она применяла приемы самоотстранения, чтобы обращаться с самой собой как с образцом для исследований, как с представителем конкретных исторических тенденций. «Дневник по типу романа» Гинзбург так и не был завершен, но сохранился в форме отдельных «повествований», эссе, фрагментов, записей в записных книжках и черновиков. Черновики и очерки, написанные ею в 1940‐е годы, в ужасающий период войны и блокады, можно считать продолжением более ранних вещей и самой значительной частью ее работы в этом жанре.
Гинзбург пишет, что начало Великой Отечественной войны дало краткую психологическую передышку после «Большого террора» конца 1930‐х. В блокаду Гинзбург выжила благодаря тому, что работала редактором в Ленинградском радиокомитете (в Литературно-драматическом отделе): с начала 1942 до конца мая 1943 года была штатным сотрудником, а затем, вплоть до конца войны, внештатным редактором. Для всех, кому выпало жить при блокаде, радио было важным источником не только информации, но и надежды, душевных сил. Для Гинзбург работа в Радиокомитете была ценным опытом «социальной применимости» – шансом ощутить себя человеком, хотя бы ненадолго влившимся в устоявшийся жизненный уклад. Кроме того, атмосфера в сфере культуры на непродолжительное время стала чуть посвободнее, и возникло предчувствие, что жесткие идеологические ограничения будут мало-помалу смягчены. После ужасающих лишений первой блокадной зимы Гинзбург с удвоенной творческой энергией вернулась к работе. Некоторое время ей казалось, что война наконец-то решила загадку истории ХХ века, ретроспективно пролив свет на смысл террора и репрессий, которые обрушились на ее поколение. В черновиках военных лет Гинзбург несколько раз упоминает, что «только теперь» наконец-то может понять избранных ею для «повествований» героев и смысл их судьбы, а благодаря этому узреть в полном объеме масштабы своего первоначального замысла: «Теперь я знаю кто это такие мои типовые герои – это люди двух войн и промежутка между ними», «Итак, только теперь понятен исторический смысл этого выморочного поколения и символика его судьбы»[97].
В 1942–1945 годах Гинзбург написала, возможно, самые сильные из своих «повествований» – «Рассказ о жалости и о жестокости» и «День Оттера»[98]. Первое – подробнейшее описание смерти близкой родственницы в блокаду и беспощадный анализ чувства вины, которое испытывает выживший, думая о своей роли в происшедшем. Второе повествование Гинзбург намного позднее переработала, и оно превратилось в «Записки блокадного человека». В обоих в центре внимания находится один и тот же герой, альтер эго Гинзбург; его странно звучащее имя Оттер – вероятнее всего, транслитерация сразу двух французских слов: «l’autre» и «l’auteur». Гинзбург часто использовала это имя в своих автобиографических вещах 1930‐х и 1940‐х годов. Она анализирует феноменологию голода и основополагающие структуры человеческой природы и общественного устройства – структуры, которые, как она полагала, под воздействием немыслимых физических и нравственных страданий не столько разрушались, сколько выявлялись и обнажались. Колоссальный объем эссе, фрагментов, размышлений, черновиков, очерков о характерах и записей разговоров – всего, что написано ею за эти два или три года испытаний и борьбы за выживание, – не имеет параллелей на других этапах ее литературной деятельности.
Занятия всем вышеперечисленным почти прекратились с наступлением идеологического «оледенения» в 1946 году и с началом антиформалистских и антисемитских кампаний, которые за этим последовали. В истории советской литературы и гуманитарных наук семилетний период, который начался с речи Андрея Жданова против Анны Ахматовой и Михаила Зощенко в 1946 году, а закончился со смертью Сталина в 1953 году, – время самого страшного упадка. Из-за новой волны репрессий, которая началась после войны, писала Гинзбург, люди стали смиряться с фактом, что жестокостям не будет ни конца, ни края[99]. По-видимому, в те годы в Гинзбург угасла даже слабая надежда, которая в страшные времена «Большого террора» и блокады Ленинграда убеждала ее не бросать писательство. В изданиях ее прозы этот период не представлен ни одной строкой[100]. В то время Гинзбург писала докторскую диссертацию о «Былом и думах» Александра Герцена, с публикацией которой у нее возникли значительные трудности[101]. Одно из ее косвенно автобиографических эссе 1954 года – психологический профиль анонимного персонажа, который несколько лет пытается опубликовать свою книгу. Только теперь (после смерти Сталина), когда обстановка перестала быть смертельно опасной, он может осмыслить чувство униженности и душевную боль тех лет, когда его голос непроизвольно срывался на просительную интонацию, когда друзья избегали разговоров с ним, когда он жил в унизительном страхе перед каждым телефонным звонком, каждым посещением издательства. Гинзбург описывает, как человек начинает страшиться «самого процесса унижения» сильнее, чем вердиктов или их последствий, даже смерти, вероятность которой была вполне реальна[102].
Единственная регулярная работа в сфере образования появилась у Гинзбург во время кампании по борьбе с космополитизмом, когда ее друг Елеазар Мелетинский устроил ее на ставку доцента в Карело-Финский государственный университет в Петрозаводске (1947–1950). Тогда считалось: чтобы не привлекать внимания, безопаснее куда-нибудь уехать, и Гинзбург курсировала между Ленинградом и Петрозаводском, где останавливалась у Мелетинского (согласно одному источнику, спала в ванне)[103]. В 1949 году Мелетинского арестовали, и спустя недолгое время Гинзбург (говоря ее собственными словами) «выжили из университета в Петрозаводске»[104]. В конце 1952 года ее вызывали на допросы по делу, заведенному на Эйхенбаума, но, к счастью, спустя несколько месяцев смерть Сталина «спасла и мою в несметном числе других жизней», как написала Гинзбург спустя много лет[105].
После смерти Сталина, в период оттепели, известность Гинзбург понемногу стала расти. В 1957 году ей наконец удалось защитить и опубликовать докторскую диссертацию о «Былом и думах» Герцена (сама она заявляла, что эта книга пострадала от «глубоко сидящей несвободы»)[106]. В 60‐е годы она написала и опубликовала книгу «О лирике» (1964), которая закрепила за ней статус ведущего исследователя русской литературы.
Она стала общаться с такими представителями своего поколения, как Надежда Мандельштам, проводила лето вместе с ней и Мелетинскими в Тарусе (где Мандельштам познакомила ее с Варламом Шаламовым)[107] и Переделкине. Начала читать вслух выдержки из своих записных книжек и повествований узкому кругу молодых поклонников, а те вскоре взялись помогать ей, перепечатывая на машинке подборки, которые планировалось опубликовать в будущем. Новые поколения писателей, поэтов, художников и литературоведов чтили Гинзбург, видя в ней «хранительницу огня», одного из свидетелей блистательной эпохи русского авангарда[108]. Именно от этих писателей и интеллектуалов мы сегодня еще можем услышать воспоминания о Гинзбург, о заведенных ею ритуалах приема гостей (яичница и майонез, графин с водкой), о том, что дома у нее всегда было прибрано – нетипичная для интеллигенции особенность, о манере вести разговоры – привычке терпеливо кружить вокруг одной мысли, рассматривая ее все более скрупулезно, о том, что Гинзбург можно было абсолютно доверять, не опасаясь, что она разболтает ваши тайны, о ее порядочности, о том, что она была ментором молодых поэтов и молодых литературоведов, о ее любви к «литературному скандалу». Многие друзья умели любовно передразнивать ее выговор: говорила она медлительно, «в нос»[109].
В 1960–1970‐е годы Гинзбург опубликовала несколько мемуарных очерков на основе материалов из своих записных книжек – тексты о своих давних друзьях и знакомых: Эдуарде Багрицком, Анне Ахматовой, Юрии Тынянове и Николае Заболоцком. Она также вернулась к писательству: в те годы написаны некоторые из ее лучших эссе – «О старости и об инфантильности», «О сатире и об анализе» и многие другие. Вновь появляется жанр «записи» с остротами и bon mots (теперь она не ведет записные книжки, а пишет от руки на отдельных листах, затем перепечатывая записи на машинке), параллельно Гинзбург фиксирует жизнь и характеры представителей молодого поколения, таких своих ровесников, как Надежда Мандельштам, и тех, кто принадлежит к более старшему поколению, – таких фигур, как Ахматова. Но для этого периода более типичны длинные философские или социологические рассуждения, где, если сравнивать с более ранними периодами, заметнее присутствие первого лица единственного числа – «я». В те же годы Гинзбург занялась любительской фотографией, которая стала для нее еще одним способом наблюдения за своей средой и создания хроники этой среды[110]. Но проект «дневника по типу романа» в духе Пруста она, очевидно, забросила. Как написала Гинзбург в 1954 году: «Таинственные ростки будущего, листы, которые складываются в стол, теперь не более, чем следы павших замыслов»[111]. То, что должно было стать ее крупным произведением, теперь раздробилось на десятки и сотни разрозненных фрагментов. И все же в 1960‐е годы Гинзбург предпринимает еще одну попытку протолкнуть в печать, вопреки цензуре, один из важнейших своих текстов.