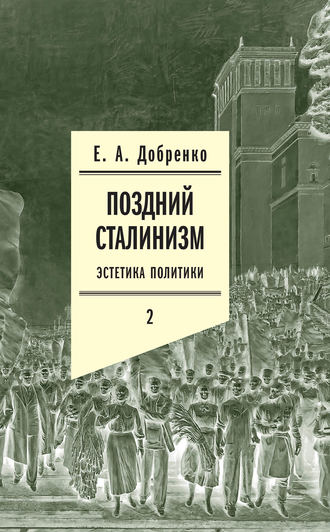
Полная версия
Поздний сталинизм: Эстетика политики. Том 2
Неудивительно, что скачок из преисторического прошлого в постисторическое будущее совершался им легко и стремительно. Так, подправляя марксистскую схему и делая ее последовательно классовой, Марр утверждал, что язык вначале был прелогическим и ручным, а те, кто начал овладевать звуковой речью, оказались в таком же привилегированном положении, как и те, кто позже умел писать в странах повсеместной безграмотности (так язык превратился в орудие классового угнетения). Здесь стоит выделить три элемента, которые Марр сводил вместе – тип языка (ручной/звуковой), классовый аспект и, наконец, связь языка с мышлением (прелогический/логический). На этом единстве Марр и строил картину ожидаемой мировой языковой (второй – после звуковой) революции:
Диалектико-материалистическое мышление переросло линейную речь, с трудом умещается в звуковую, и, перерастая звуковую, готовится к лепке, созиданию на конечных достижениях ручного и звукового языка, нового и единого языка, где высшая красота сольется с высшим развитием ума. Где? Товарищи, только в коммунистическом бесклассовом обществе[78].
Как можно видеть, язык у Марра выполняет ту же роль, что и государство в марксизме – подобно государству, он отомрет, а вселенская битва между языком и мышлением завершится «сокрушением языка», когда воссияет «будущее единство четкого мышления и четкого производства»[79]. В грядущем коммунистическом обществе красота и разум сольются: со смертью классового общества диалектико-материалистическое мышление преодолевает прежние формы – в новом типе языка окончательно снимается разрыв между мышлением и речью. Характерен мощный эстетической компонент, привносимый Марром: красоты этой раньше быть просто не могло. Она, подобно самой истории, начинается только в коммунистическом бесклассовом обществе. Такое языкознание могло бы быть у персонажей Андрея Платонова…
Сведение Марром различных языковых семей и групп к схеме исторически сменяющих друг друга этапов языкового развития фактически воспроизводило марксистскую схему: марксистская теория смены способов производства также строилась на историзации типологических феноменов (знаменитая пятичленка: первобытный коммунизм – рабовладение – феодализм – капитализм – социализм/коммунизм); на нее активно опирался Лысенко, определяя биологические виды в качестве «этапов» и «ступенек постепенного исторического развития органического мира»[80].
Экстраполировав отнюдь не безупречную с точки зрения исторической обоснованности марксистскую схему на язык, Марр соединил в своем учении классификацию с генезисом, заявив, что типология по сути является историей. Его радикальная «стадиальная (генеалогическая) классификация» есть одновременно и история (стадиальность) и типология (классификация) языков. В этом Марр был близок Лысенко. Связь эта была очевидна и его наследникам, которые спустя пятнадцать лет после смерти Марра полагали, что если биология отдана в руки автора стадиальной теории развития растений, то лингвистика должна находиться во власти адептов стадиальной теории развития языков. Если санкционирована первая, то должна быть санкционирована и вторая. Занятно, что в ходе многочасовых разговоров с Чикобавой Сталин возвращался к Лысенко, по крайней мере трижды повторив, что «Лысенко жить никому не дает»[81]. Историки спорят о том, действительно ли Сталин был настроен столь критично по отношению к Лысенко. Между тем интерес представляет сам факт обсуждения этой фигуры в контексте разговора о Марре. Можно предположить, что Сталин усматривал прямую связь между двумя стадиальными теориями.
И действительно, Марр противопоставлял генетическому родству языковых групп и теории праязыка идею скрещивания языков. Причем в его исполнении она звучала совершенно по-лысенковски: «В самом возникновении и естественно дальнейшем творческом развитии языков основную роль играет скрещение»[82]. Или: «Скрещение не аномалия, но нормальный путь, объясняющий происхождение видов и даже так наз. генетического родства»[83]. Если забыть, что речь идет о языках, можно подумать, что это говорит Лысенко о биологических видах. Вообще, связь лингвистического учения Марра с биологией прослеживается отчетливо. Это видно не только в использовании Марром в качестве ключевого понятия «палеонтология», но и в постоянном и активном использовании таких понятий, как «гибридизация», «метисация», «реликтовые типы», «размножение языков», «разновидности языков», «мутации» и, наконец, «скрещение языков», как понимал его Марр: «простой по составу, то есть «нескрещенный» язык, как слабое существо в борьбе за жизнь, обрекался бы на гибель»[84]. Это были уже не аналогии и не метафоры. Марр мыслил в тех же категориях, что и идеологи «мичуринской биологии». Но в понятиях этой активистской романтической биологии мыслили тогда многие. В своем языковедческом трактате Сталин даст расширенное определение марксизма как революционной науки – науки политических преобразований, науки не объяснения, но изменения мира. Как пояснял Георгий Александров, это наука о том, «как изменять законы жизни, как надо сбрасывать одряхлевший, старый мир капитализма и строить новый – молодой и здоровый, крепкий и растущий мир социализма, коммунизма»[85]. Марксизм может быть понят поэтому как социальная наука жизни, своего рода социальная биология.
Поскольку для Лысенко развитие растения – продукт взаимодействия со средой, мутации, приспособления к среде, а не наследственности и действия генотипа,
задача ученого, – замечает Константин Богданов, – состоит в том, чтобы направить эту мутацию в нужное русло – создать условия, в которых растение само улучшит свою природу. ‹…› В мире растений, если понимать этот мир как целое, развитие тотально и бесконечно. В нем – так же, как и в языке, – «все содержится во всем», поэтому «все» может быть сведено ко «всему»: языки Грузии к языкам Северной Америки, яблони к сливам[86].
Борис Гаспаров поставил теорию Марра в еще более широкий философский контекст, где
теория Марра, с ее яростной и не лишенной проницательности критикой сравнительного языкознания, выступала как одно из проявлений романтико-революционного духа, противостоящих позитивистской науке «викторианского века». ‹…› Сама марксистская идеологическая основа метода Марра, к которой яфетидология стала апеллировать со все большей настойчивостью в 1920‐е годы, вытекала из «динамической» интерпретации марксизма, столь популярной в то время в различных интеллектуальных кругах, – интерпретации, подчеркивавшей те аспекты концепции Маркса, которые сближали марксизм с левым гегельянством, то есть с традицией немецкой классической философии[87].
Обратил внимание Гаспаров и на связь Лысенко (а через него и Марра) с языковой концепцией Бахтина:
Полемика Лысенко с «формалистической генетикой» поразительно, пункт за пунктом, сходна с аргументами, выдвигавшимися М. М. Бахтиным и его последователями В. Н. Волошиновым и П. Н. Медведевым в конце 1920‐х годов в полемике со структурной (соссюрианской) лингвистикой и формалистической концепцией литературы и литературной эволюции ‹…› Параллели между этой филологической дискуссией и биологической полемикой несомненны. Иногда кажется, что споры с «формальным методом» в литературе и биологии находятся в отношениях метафорической парафразы. В самом деле, заменив «биологический организм» на «литературное произведение», «природную среду» – на «социальное окружение», «гены» – на «приемы», «эволюцию видов» – на «литературную эволюцию» (или наоборот), мы придем к двум почти взаимозаменяемым парадигмам представлений о природе «органических» явлений, характере их образования и путях их развития во времени[88].
Критика Марром позитивистской лингвистики (а с ним и бахтинская философия языка) не только была связана с неоламаркистской биологией Лысенко через общую для них «„бергсонианскую“ структуру мышления, сторонники которой пытались в первой трети столетия (как в биологии, так и в филологии и эстетике) выработать альтернативу тому, что они рассматривали как новую (авангардную) версию позитивистского, „механического“ подхода, на который изначально и был обращен критической пафос Бергсона»[89], но и прямо формировала самую метафорику Марра.
Несомненно, что последний утверждал «органический» (в противовес «формальному») подход к языку. Отсюда – интерес к происхождению и истории языка и критика «формальной грамматики», в которой Марр видел продукт средневековой схоластики, идеализма и формализма. Для человека, который находил отражение классовых отношений, отношений господства и подчинения в подчинении предиката подлежащему, в степенях сравнения прилагательных (так, низшая степень сравнения означала низшее сословие, средняя – среднее сословие, а превосходная – высшее сословие), грамматика не могла не представляться мертвой дисциплиной («Итак, долой грамматику? Зачем? Заменить изучением динамики языка, его стройки»[90]). Старая грамматика определялась им как «материальная грамматика»[91], что заставляет вспомнить о «материальной эстетике», против которой в 1920‐е годы выступал широкий фронт – от РАППа и «Перевала» до Бахтина. Можно предположить, однако, что романтическое «органическое» историзирование было компенсацией за отказ от рационалистической языковой классификации, третируемой как «фикция» и «миф».
С другой стороны, замена «механической» парадигмы «органической», столь очевидно заявившая о себе в литературе[92], вела к торжеству романтической истории. В частности, к постоянному акцентированию в ней момента «творческого» взаимодействия со средой как у Лысенко, так и у Марра. В обоих случаях результатом было создание параллельной реальности и отказ от «объяснения» мира во имя его «изменения» – расширение художественного фантазирования сопровождалось радикальной интерпретацией марксизма.
В этом смысле можно говорить о том, что сталинская культура оказалась не просто наследницей, но наиболее радикальной реализацией модернистского политико-эстетического проекта. Как замечает по этому поводу Б. Гаспаров,
время «индустриального» строительства нового мира и нового человека, основанного на обдуманной и научно обоснованной селекции «правильных» компонентов, прошло. Человека больше не рассматривали как винтик в машине; в нем скорее предполагали клетку организма. Человек и его труд больше не воспринимаются как деталь, которая либо подходит работающему механизму, либо отвергается; напротив, он постоянно востребован, он остается в состоянии непрерывного творческого усилия органически «врасти» в непрерывно изменяющийся новый мир. Либо он преуспеет в своем органическом возрождении, либо – на какой-то стадии процесса – будет отвергнут организмом, однако оба результата, будучи проявлениями непрерывного функционирования и развития организма, имеют положительное значение. Процесс не допускает исключений – не потому, что он «универсален», а потому что органически всеохватен. Усилия нового человека под стать усилиям лысенковского растения, старающегося переделать себя по более полезному образцу, или марровского языка, приспосабливающегося к вечно новым экономическим и идеологическим проблемам; путь к «жизни» поэта-акмеиста в воронежской ссылке напоминает путь крестьянина в колхоз. Безличный рационализм и бескомпромиссный детерминизм утопии 1920‐х годов проложили путь коллективности и всеохватной целостности утопии 1930‐х[93].
Метод философской интерпретации рассматриваемых научных концепций помогает понять связь между ними, но не позволяет ответить на вопрос о том, почему спустя два года после санкционированной Сталиным окончательной победы Лысенко вождь лично участвовал в разгроме научной империи Марра. Ответы следует искать, как представляется, не только на эстетическом (литературном) и философском уровнях, но и на уровне политической идеологии, частью которой эти учения были.
Споры вокруг Марра как в начале 1930‐х, так и в начале 1950‐х годов вращались вокруг его «марксизма». Провозглашенное настоящим воплощением марксизма в языкознании на рубеже 1930‐х годов его «новое учение о языке» было низвергнуто с марксистского пьедестала главным идеологическим судией в 1950 году. Сталин заявил, что «Марр много кричал о марксизме, но он не был марксистом» и назвал его «вульгаризатором». Так обычно называли марксистов в постклассовую эпоху сталинской державности. И хотя самое понятие «марксистский» имело совершенно разное наполнение в Советской России в 1920‐е и в 1950‐е годы, если видеть в марксизме определенную концептуальную и категориальную раму и сравнить подобные же аппликации в философии, истории, литературоведении, искусствознании, правоведении и мн. других дисциплинах в 1920‐е – начале 1930‐х годов, если поставить лингвистические дискуссии эпохи формирования «нового учения о языке» в контекст дискуссий на других культурных и научных «фронтах», в широкий контекст идеологических споров тех лет, можно определенно утверждать: Марр был одним из представителей именно «марксистского языкознания» (подобно Покровскому в истории, Крыленко и Пашуканису в правоведении, Переверзеву и Фриче в литературоведении и т. д.). То обстоятельство, что это учение было фантастическим, непоследовательным или научно непродуктивным, а его адепты обвиняли друг друга в «социал-фашистской контрабанде», конечно, не делает его «антимарксистским».
Марр широко использовал категории марксистской социологии не только в своих исторических фантазиях, но и в собственно языковых. Поскольку «от преломления сдвигов в базисе намечаемых социально-экономических преобразований возникают системы в оформлении соответственного мышления, системы языков на подлежащих стадиях»[94], «не только понятия, выраженные словами, но и сами слова и их формы, их фактический облик, – полагал Марр, – вытекают из общественного строя, его надстроечных миров, и через них из экономики, хозяйственной жизни»[95]. Так, к «строю общественности тех далеких творческих эпох»[96] он относил рождение грамматических категорий: «Так же увязана своим образованием с конкретным уже производственно-социальным процессом и соответственным мировоззрением такая также отвлеченная грамматическая категория, как основной объективный падеж»[97], «Прямые и косвенные падежи – ведь это „падежи“ пассивные и активные, т. е. собственно социально расцениваемые величины, поскольку на предшествующей ступени стадиального развития это две различные категории коллектива»[98].
Марр не мог смириться с деидеологизацией грамматики, с формальной природой грамматических категорий.
Части речи, вообще грамматические категории, – негодовал он, – еще более отрешены от жизни, чем все надстроечные общественные ценности ‹…› Грамматические части речи отрешены от какой бы то ни было материальной действительности, как в корне схематические абстракции и, естественно, ни в одной живой душе не вызывают массово ничего, кроме равнодушия, именно потому, что явления изучаются исключительно формально, в полном разрыве с общественно-творческими факторами, создавшими речь[99].
Он искал «одушевления» схоластической грамматики, избавления от «равнодушия» формальной науки, непосредственного отражения в генезисе грамматических категорий социальных процессов. Так, категория рода для Марра объявлялась «лишь отражением форм общественного строя»[100]: «род мужской и женский, равно и члены определительные и неопределенные характеризовали не слова, которые снабжаются соответствующими признаками… а общественные категории, к которым они относились или были сопричастны, – различные классы общества»[101]. «Степени сравнения, – согласно Марру, – социального происхождения. Они надстройки классового, сословного строя»[102]. «Прилагательные, распределенные по трем степеням сравнения, являются, – по Марру, – принадлежащими природно трем соответственно социально расположенным различным сословиям, выработавшимся из трех племен, тотемными названиями которых по принадлежности являлось каждое из подлежащих прилагательных»[103].
«При таком непонимании действительной сущности грамматических категорий, – замечал Н. Поспелов, – Марр должен был видеть в теоретической грамматике только досадную „обузу“ для своих семантико-палеонтологических изысканий и наполнять грамматические категории любым более или менее подходящим идеологическим содержанием»[104]. Но не только обузу: грамматика превращалась в настоящий склад политических метафор. И здесь – одна из причин краха марризма: формальная, деидеологизированная грамматика идеологически и политически куда полезнее неподконтрольной семантической марровской грамматики, оперировавшей не столько языковыми реалиями, сколько политико-идеологическими метафорами. Первая была продуктом исчисления и нормализации, тогда как вторая вообще не поддавалась цензурированию.
Марр возводил к классам не только грамматические категории, но абсолютно все уровни языка, вплоть до фонетики. Так, он полагал, что благодаря его элементному анализу «открылась материальная база речевой надстройки и с нею возможность идеологического по стадиям разъяснения (палеонтология речи) не только слов, но и морфологии, более того – фонетики, как генетически социальных явлений, в конечном счете – отражений законов производства и производственных отношений»[105]. В другом месте он утверждал, что «идеологические смены определяют звуковые изменения»[106]. Все эти связки (звуки/идеология, падеж/классовая структура и т. д.) требовали особого отвлеченного дискурса. Он и был выработан Марром на основе отождествления языка с мировоззрением и – прямо с производством. Так, в статье «Язык и мышление» Марр заявил, что «синтаксис, строй – это само производство, трудовой процесс, и лишь с ‹…› обращением в надстройку материального базиса, производства и производственных отношений, т. е. выработкой разлученного с базисом тотема, получился синтаксический строй речи, того же производства, только в осознании»[107]. Иначе говоря, синтаксис – это самое производство, которое с превращением в надстройку стало языком, но хотя и абстрагировалось, сохранило в себе все черты производства. В подобных метафорах Марр подходит к чистому производственничеству, а от его «классовой грамматики» лишь шаг к «классовости» математики или к «пролетарской геометрии» Богданова). В приложении марксистских категорий к истории языка Марр пошел до конца.
Эти категории идеально отвечали марровской интернационалистской концепции (а именно в ней находили выход его травмы). Из домена национальной идентичности язык становился вненациональным феноменом и проводником классовости. Марр полагал, что «не существует национального, общенационального языка, а есть классовый язык, и языки одного и того же класса различных стран, при идентичности социальной структуры, выявляют больше типологического сродства друг с другом, чем языки различных классов одной и той же страны, одной и той же нации»[108]. Национальный язык был объявлен фикцией, подлинной реальностью становились только классовые языки. Это была последовательно интернационалистская (хотя и далекая от реальности) концепция языка.
Это и был «марксизм в языкознании», по-настоящему «марксистский подход к языку». Сталинизм же основывался на традиционной национальной модели. Апеллируя к национальному языку и лишая его классового ореола, Сталин реконструировал концепцию «народа» и нации, в определении которых язык играл ключевую роль (стоит помнить, что в сталинском определении нации язык стоит на первом месте как важнейший признак нации). Поэтому Сталин писал об «общенародной позиции» языка, о том, что язык служит не классам, но нации в целом. Столкновение этих двух концепций было лишь делом времени.
Марровская классовость стала удобной мишенью в постклассовую эпоху. Особое негодование Сталина вызвало обнаружение Марром классовой дифференциации уже в палеолите и утверждение наличия классов в первобытном обществе. По Марру выходило, что бесклассового языка вообще никогда не существовало, что язык зародился как акт магии, а сами маги были первым эксплуататорским классом, что с выделением человеческого коллектива из мира животных появляется классовый язык (как источник господства): «Нельзя не только молчать, но и нерешительно говорить о том, что внеклассового языка доселе не было, язык был классовый с момента его возникновения, с момента возникновения звукового языка, это был язык класса, завладевшего всеми орудиями производства тех эпох, в том числе и магиею – производством»[109].
Иначе говоря, согласно Марру, классовое общество существовало в эпоху позднего палеолита, а не возникло в эпоху разложения родового строя (здесь Марр вступал в открытую полемику с Энгельсом). И если Сталин встал на защиту Энгельса (которого не любил и сам открыто критиковал), то потому лишь, что отсюда следовали важные политические импликации: согласно официальной советской доктрине, коммунизм был своего рода возвращением к первозданности – к социальной справедливости «первобытного коммунизма». Теперь же оказывалось, что никакого первобытного коммунизма вообще не было, что уже первобытное общество было классово. Иначе говоря, что общество вообще не может быть неклассовым (по крайней мере, исторически классовость и социальность родились одновременно), что классовость (а соответственно, и «эксплуатация человека человеком») заложена в самой человеческой природе. Распадался важнейший аргумент марксизма о том, что бесклассовое общество естественно, тогда как эксплуататорское – продукт искажения человеческой природы. Теперь оказывалось, что говорить надо не об искажении, но о реализации этой природы. В этом случае критика марксизма направлена не по адресу: претензии надо предъявлять не «эксплуататорскому обществу», но самой человеческой природе. Так последовательный марксизм вступал в противоречие с политической целесообразностью и тем самым становился идеологической обузой. Дело, таким образом, не в том, был ли марризм «марксизмом в языкознании» (несомненно, был), но в том, что в постреволюционных культурах исходные принципы отступают перед сугубо политическими приоритетами. И в этом смысле марризм должен быть понят как феномен политической идеологии.
Именно в этом качестве он сохранял преобладание негативного содержания над позитивной программой. Марр выступал прежде всего против индоевропеистики, традиционного понимания природы языка и языкового развития. Большая часть выступлений как самого Марра, так и в особенности его идеологических опричников, состояла из критики «лженауки». Причем «наука» и «лженаука» конструировались самими марристами по зеркальному принципу. Примечательно не только то, что «позитивная программа» была негативным отражением постулатов отвергаемой «лженауки», но и то, что, отстраивая новую реальность, критики «лженауки» вынуждены были заново отстраивать связи между реальностью и новой языковой картиной создаваемого ими мира – чем глубже шла критика, тем больше вздорных объяснений языковой реальности приходилось выдумывать Марру. Так, если согласно традиционным представлениям язык связан с национальной культурой, то по Марру он представляет собой идеологическую надстройку и имеет классовую природу; если традиционная индоевропеистика рассматривала историю языка в контексте внутренней языковой эволюции, то Марр выдвинул идею стадиального развития языков и утверждал, что с переходом общества от одной общественно-экономической формации к другой происходит переход языка в новое качество (через языковые революции, скачки и т. п. взрывные процессы); если согласно принятым взглядам единый праязык постепенно распался на отдельные, хотя и генетически родственные языки, то Марр утверждал, что языковое развитие шло в обратном направлении – от множества к единству.
Это влекло за собой необходимость пересмотреть целый ряд производных положений. Например, объяснить появление разных языков. Марр утверждал, что они возникали независимо друг от друга, так что языки, считавшиеся безусловно родственными (даже диалекты одного и того же языка), таковыми на самом деле не являются – они не только не родственны, но и изначально были самостоятельно возникшими языками. Очевидные сходства языков объявлялись продуктом скрещения (разные языки в результате взаимодействия образовывали новый язык – наследник обоих предков). Отбросив теорию праязыка, Марр оказался перед необходимостью заполнить образовавшееся зияние. Так возникла идея, согласно которой все языки мира возникли из четырех элементов, а задача языковеда сводится к «языковой палеонтологии», то есть к поиску этих элементов в глубинах истории всех языков.
Поскольку теории подобного рода отстраивались не в результате анализа материала и не были продуктом позитивного знания, но изначально создавались как контртеории, они рассыпались при столкновении с реальным языковым материалом, что требовало их постоянных увязок с реальностью. Однако негативизм марристской схемы (подобно лысенковской агробиологии, теории живого вещества Лепешинской и т. п.) имел в качестве образца самую марксистскую доктрину, в которой, как известно, слабость позитивной программы компенсировалась интенсивностью критики капитализма.


