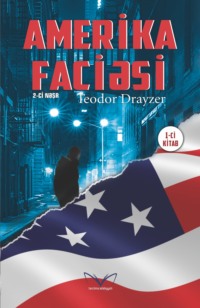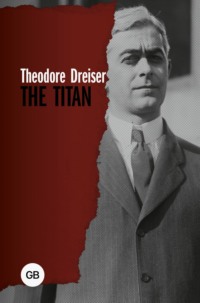Полная версия
Финансист. Титан. Стоик
Она тотчас же написала Фрэнку о перемене в своих планах и уехала, а он облегченно вздохнул, вообразив в эту минуту, что буря промчалась мимо.
Глава XXXIX
Между тем близился день, когда должно было слушаться дело Каупервуда. Он не сомневался, что суд, о чем бы ни свидетельствовали факты, сделает все возможное для вынесения ему обвинительного приговора, но не находил выхода из создавшегося положения. Разве только бросить все и уехать из Филадельфии, но об этом не стоило и думать. Единственная возможность обеспечить себе будущее и сохранить дружеские отношении с рядом лиц из финансового мира заключалась в том, чтобы как можно скорее предстать перед судом, в надежде, что если он и будет осужден, то со временем друзья помогут ему снова встать на ноги. Он много говорил со Стеджером о возможности лицеприятного отношения к нему состава суда, но адвокат не разделял его опасений. Во-первых, присяжных не так-то просто подкупить; во-вторых, большинство судей, несмотря на различие политических убеждений, люди честные и не пойдут дальше того, что им подскажут лидеры партии, а это, в конце концов, не так уж страшно. Судья, который должен был председательствовать на этом процессе, Уилбер Пейдерсон, – участник квартальной сессии, прямой ставленник республиканской партии и, следовательно, кругом обязан Молленхауэру, Симпсону и Батлеру, но, с другой стороны, Стеджер слышал о нем только как о честном человеке.
– Не понимаю, – говорил Стеджер, – почему этим господам так хочется покарать вас? Разве что в назидание всему штату. Выборы-то ведь прошли. Кстати, говорят, что уже сейчас принимаются меры к тому, чтобы вызволить Стинера, в случае если он будет осужден, чего ему, конечно, не миновать. Судить его им волей-неволей придется. Ему дадут год или два, самое большее три, а потом он будет помилован, не отбыв и половины срока. То же самое, в худшем случае, предстоит и вам. Они не смогут выпустить его, а вас оставить в тюрьме. Но до этого не дойдет, помяните мое слово. Мы выиграем дело в первой же инстанции, а нет – так наша кассация будет удовлетворена в верховном суде штата. Тамошняя пятерка судей ни в коем случае не поддержит этой вздорной затеи.
Стеджер искренне верил в то, что говорил, и Каупервуда это радовало. До сих пор молодой юрист отлично вел его дела. И все же мысль о том, что Батлер преследует его, не давала ему покоя. Это обстоятельство весьма осложняло дело, а Стеджер о нем даже и не подозревал. Слушая оптимистические заверения своего адвоката, Каупервуд все время помнил о Батлере.
Слушание дела взбудоражило чуть ли не весь город с населением в шестьсот тысяч человек. Каупервуды решили, что никто из женщин их семьи не будет присутствовать на суде. На этом настаивал Фрэнк, не желая давать лакомую пищу газетным репортерам. Отец пойдет в суд, ибо он может понадобиться в качестве свидетеля. Накануне пришло письмо от Эйлин. Она сообщала о своем возвращении из Уэст-Честера и желала Фрэнку удачи. Исход его дела так волнует ее, что она не в состоянии оставаться вдали и вернулась в Филадельфию не для того, чтобы присутствовать на суде, раз он этого не желает, но чтобы быть как можно ближе в минуты, когда решается его судьба. Ей хочется прибежать к нему, поздравить, если его оправдают, утешить, если он будет осужден. Она понимает, что столь поспешное возвращение, вероятно, усугубит ее конфликт с отцом, но тут уж она ничего поделать не может.
Миссис Лилиан Каупервуд находилась в положении весьма трудном и фальшивом. Ей приходилось разыгрывать любящую и нежную жену, хотя она и понимала, что Фрэнку вовсе этого не хочется. Он интуитивно догадывался теперь, что она знает о его отношениях с Эйлин, и только ждал подходящей минуты, чтобы объясниться с ней начистоту. Проводив мужа до дверей в то роковое утро, Лилиан обняла его сдержанно, как все последние годы, и не могла даже заставить себя поцеловать его, хотя и сознавала, сколь тяжкое ему предстоит испытание. У него тоже не было ни малейшего желания ее целовать, но он этого не показал. Потом она все же коснулась губами его щеки и произнесла:
– Я надеюсь, что все кончится благополучно!
– Право, тебе незачем тревожиться, Лилиан, – бодро отозвался он. – Все будет в порядке!
Он сбежал с лестницы, направился к Джирард-авеню, по которой проходила ранее принадлежавшая ему линия конки, и вскочил в вагон. Он думал об Эйлин, о том, как искренне она соболезнует ему и какой, в сущности, насмешкой стала теперь его семейная жизнь, думал, окажутся ли присяжные заседатели здравомыслящими людьми, и так далее и так далее. Если ему не удастся, если… Да, день предстоял нелегкий!
На углу Третьей улицы он вышел из вагона и торопливо зашагал к себе в контору. Стеджер уже дожидался его.
– Итак, Харпер, настал решающий час! – мужественно произнес Каупервуд.
Суд первого отдела четвертой сессии, в котором должно было слушаться дело, помещался в знаменитом Дворце независимости (на углу улиц Шестой и Честнат), где тогда, так же как и сто лет назад, сосредоточивалась вся судебная и административная жизнь Филадельфии. Это было невысокое двухэтажное здание из красного кирпича; центральную его часть венчала белая деревянная башня то ли в староанглийском, то ли в голландском стиле, квадратная у основания, круглая посередине и с восьмиугольной вершиной. Само здание состояло из центрального корпуса и двух боковых крыльев, каждое из которых образовывало букву «Т». Окна и двери, с мелко застекленными полукружиями наверху, были выдержаны в стиле, который так восхищает любителей «колониальной архитектуры». В этом здании и в пристройке, известной под названием «Государственные ряды», впоследствии снесенной, но тогда тянувшейся от задней стены главного корпуса по направлению к Уолнат-стрит, размещались канцелярии мэра, начальника полиции, городского казначея, залы заседаний городского совета и прочие важные административные учреждения, а также все четыре отдела квартальных сессий суда, слушавших уголовные дела, в недавнее время очень участившиеся в Филадельфии. Гигантская ратуша, впоследствии выросшая на углу Брод-стрит и Маркет-стрит, тогда еще только строилась.
Для того чтобы придать не слишком просторным судебным залам более торжественный вид, в них соорудили возвышения из темного орехового дерева, на возвышениях стояли ореховые же судейские столы, но весь этот замысел оказался не слишком удачным. И столы, и места для присяжных заседателей, и барьеры были слишком громоздки и несоразмерны с помещением. Наиболее подходящим цветом для стен при темной ореховой мебели почему-то сочли кремовый, но время и пыль сделали его крайне унылым. В залах не было ни картин, ни каких-либо иных украшений, если не считать пышных и вычурных газовых светильников на столе «его чести» да люстры, свисавшей посередине. Раскормленные туши судебных приставов и судейских чиновников, озабоченных только тем, как бы не потерять своих выгодных должностей, тоже не скрашивали этого унылого помещения. Два пристава, находившиеся в зале, где должно было слушаться дело Каупервуда, только и делали, что наперебой бросались подавать судье стакан воды, если он за ним тянулся. Один, похожий на тучного, обрюзгшего нудного мажордома, предшествовал «его чести», когда тот отправлялся в туалетную комнату или возвращался оттуда. На его обязанности лежало при входе судьи в зал громко возглашать: «Суд идет – обнажить головы! Прошу всех встать!» Когда судья садился, второй пристав, стоя слева от него между местами присяжных заседателей и свидетельской скамьей, невнятной скороговоркой произносил ту прекрасную и полную человеческого достоинства декларацию обязанностей, налагаемых обществом на каждого своего представителя, которая начинается словами: «Слушайте же! Слушайте все! Слушайте все!» – и заканчивается: «Всякий, кто имеет справедливое основание для жалобы, пусть приблизится, и он будет выслушан!» Но здесь эти слова, казалось, утрачивали свое значение. Привычка и равнодушие превратили их в какую-то нечленораздельную скороговорку. Третий пристав стоял на страже у дверей совещательной комнаты. Кроме приставов, в зале находились стенографист и секретарь суда – маленький человек, чахлый, с бескровным лицом, бесцветными, как разбавленное молоко, глазами, жидкими волосенками и бородкой цвета свиного сала, похожий на американизированного и дряхлого китайского мандарина.
Судья Уилбер Пейдерсон, тощий как селедка, председательствовавший еще при слушании дела в следственной инстанции, когда присяжные решали вопрос о предании Каупервуда суду, был довольно любопытным типом. Внимание к себе он привлекал прежде всего своей необычайной худобой и худосочием. Технику судебного дела и законы он знал хорошо, но понятия не имел о том, что знают мудрые судьи, то есть о подлинной жизни, о том неуловимом сплетении обстоятельств, которые взывают к сердцу судьи, опрокидывая все писаные законы, а временами даже свидетельствуя о полной их непригодности. Достаточно было взглянуть на этого сухопарого педанта, на его курчавые седые волосы, голубовато-серые рыбьи глаза, правильные, но неодухотворенные черты лица, чтобы сказать, что он начисто лишен воображения. Правда, он бы вам не поверил и… оштрафовал бы вас за неуважение к суду! Старательно используя каждую мелкую удачу, извлекая выгоду из каждого мало-мальски удобного случая, рабски прислушиваясь к властному голосу своей партии и угодливо повинуясь всесильному капиталу, он сумел достигнуть своего нынешнего поста. Впрочем, это было не такое уж большое достижение! Жалованья он получал всего-навсего шесть тысяч долларов в год, а его скромная известность не выходила за пределы тесного мирка местных адвокатов и судейских чиновников. И все же он испытывал величайшее удовлетворение, чуть ли не ежедневно видя свое имя в газетах, сообщавших, что мистер Пейдерсон председательствовал в суде, разбиравшем такое-то дело, или вынес такой-то приговор. Он считал, что это превращает его в заметную фигуру. «Смотрите, я не такой, как все!» – часто думал он и радовался. Он бывал очень польщен, когда на повестке дня у него оказывалось какое-нибудь громкое дело, и, восседая перед тяжущимися и публикой, мнил себя поистине важной персоной. Правда, время от времени необычное сплетение житейских обстоятельств смущало его ограниченный ум, но и во всех таких случаях он неизменно помнил о букве закона. Достаточно было порыться в папках старых процессов, чтобы узнать, как разрешали такие вопросы умные люди. Кроме того, все адвокаты – великие проныры. Они подсовывают судье под нос судебные решения, не заботясь о его мнении и взглядах.
– Ваша честь, в томе тридцать втором судебных решений штата Массачусетс, страница такая-то, строка такая-то, дело Эрандела против Бэннермена, вы найдете… – и так далее и так далее. Как часто это можно слышать в суде! Много думать в большинстве таких случаев уже не приходится. А святость закона между тем вознесена, подобно стягу, во славу властей предержащих. Пейдерсона, как правильно заметил Стеджер, вряд ли можно было назвать несправедливым судьей. Но, как и всякий судья, выдвинутый определенной партией, в данном случае республиканской, он был предан ей до мозга костей, и потому был судьей пристрастным. Всем обязанный партийным заправилам, он готов был, конечно, по мере своих сил, на что угодно, лишь бы способствовать интересам республиканской партии и выгоде своих хозяев. Большинство людей не дает себе труда поглубже заглянуть в механизм, называемый совестью. Если же они и удосужатся это сделать, то им, как правило, недостает умения распутать переплетенные нити этики и морали. Они искренне верят в то, что подсказывает им дух времени или деловые интересы власть имущих. Кто-то однажды обмолвился: «Судья, душою преданный концернам». И таких судей множество.
Пейдерсон тоже принадлежал к их числу. Он благоговел перед богатством и силой. В его глазах Батлер, Молленхауэр и Симпсон были великими людьми, а кто могуществен, тот и прав. Он давно уже слышал про растрату, в которой участвовали Каупервуд и Стинер, и благодаря своему знакомству со многими политическими деятелями довольно точно нарисовал себе общую картину этого дела. Республиканская партия, по мнению ее лидеров, была поставлена в весьма затруднительное положение хитроумными махинациями Каупервуда. По его милости Стинер уклонился от пути праведного гораздо дальше, чем это дозволено городскому казначею; и хотя он был инициатором всего дела, главная ответственность падала на Каупервуда, толкнувшего казначея на этот гибельный поступок. Кроме того, республиканской партии нужен был козел отпущения, и для Пейдерсона этим одним уже все было сказано. Правда, теперь, когда выборы прошли и стало очевидно, что партия никакого существенного ущерба не понесла, Пейдерсон не совсем понимал, почему в это дело так настойчиво втягивают Каупервуда, но, полагая, что у лидеров имеются на то достаточные основания, не слишком ломал себе голову над этим вопросом. Из разных источников он слышал, что Батлер питает к Каупервуду личную неприязнь. В чем тут было дело, никто точно не мог сказать. Общее же мнение склонялось к тому, что Каупервуд вовлек его в какие-то сомнительные спекуляции. Так или иначе, все понимали, что этому делу решено было дать ход в интересах республиканской партии и для острастки рядовых ее членов. Ради вящего морального воздействия на общество Каупервуд должен был понести не меньшее наказание, чем Стинер. Стинеру же предстояло получить наивысший для такого рода преступлений срок заключения, дабы все поняли, как справедливы республиканская партия и суд. Впоследствии губернатор мог своею властью, если он того пожелает и если ему на это намекнут лидеры партии, смягчить наказание. В наивном представлении широкой публики судьи квартальной сессии были подобны воспитанницам монастырского пансиона, то есть жили вне мирской суеты и не ведали того, что творилось за кулисами политической жизни города. На деле же они были прекрасно обо всем осведомлены, а главное, зная, кому они обязаны своим положением и властью, умели быть благодарными.
Глава XL
Когда Каупервуд, свежий, подтянутый (типичный делец и крупный финансист), вошел в сопровождении отца и адвоката в переполненный зал суда, все взоры обратились на него. Нет, не похоже, подумалось большинству присутствующих, чтобы такому человеку был вынесен обвинительный приговор. Он, несомненно, виновен, но столь же несомненно, что у него найдутся способы и средства обойти закон. Его адвокат, Харпер Стеджер, тоже показался всем умным и оборотистым человеком. Погода стояла холодная, и оба они были одеты в длинные голубовато-серые пальто, по последней моде. Каупервуд в ясную погоду имел обыкновение носить бутоньерку в петлице, но сегодня он от нее отказался. Его галстук из плотного лилового шелка был заколот булавкой с крупным сверкающим изумрудом. Если не считать тоненькой часовой цепочки, на нем больше не было никаких украшений. Он и так всегда производил впечатление человека жизнерадостного, но сдержанного, добродушного и в то же время самоуверенного и деловитого, а сегодня эти его качества выступали как-то особенно ярко.
Каупервуд с первого взгляда охватил всю своеобразную обстановку суда, теперь так остро его интересовавшую. Прямо перед ним находилась еще никем не занятая судейская трибуна, справа от нее – тоже пока пустовавшие места присяжных заседателей, а между ними, по левую руку от кресла судьи, свидетельская скамья, где ему предстояло сейчас давать показания. Позади нее уже стоял в ожидании выхода суда тучный судебный пристав, некий Джон Спаркхивер, на обязанности которого лежало подавать свидетелю потрепанную и засаленную Библию и после принесения присяги говорить: «Пройдите сюда». В зале находились и другие приставы. Один – у прохода к барьеру напротив судейского стола, где обвиняемый выслушивал приговор и где помещались места адвокатов и скамья подсудимых; другой пристав стоял в проходе, ведущем в совещательную комнату, и, наконец, третий охранял дверь, через которую впускали публику. Каупервуд тотчас заметил Стинера, сидевшего на свидетельской скамье. Казначей так дрожал за свою судьбу, что решительно ни к кому не питал злых чувств. Он, собственно, и раньше не умел злобствовать, а теперь, очутившись в столь незавидном положении, только бесконечно сожалел, что не последовал совету Каупервуда. Правда, в душе его все еще теплилась надежда, что Молленхауэр и представляемая им политическая клика в случае обвинительного приговора будут ходатайствовать за него перед губернатором. Стинер был очень бледен и порядком исхудал. От розовощекой дородности, отличавшей его в дни процветания, не осталось и следа. Одет он был в новый серый костюм с коричневым галстуком и тщательно выбрит. Почувствовав пристальный взгляд Каупервуда, он вздрогнул и опустил глаза, а затем принялся как-то нелепо теребить себя за ухо.
Каупервуд кивнул ему.
– Знаете, что я вам скажу, – заметил он Стеджеру, – мне жаль Джорджа. Это такой осел! Впрочем, я сделал для него все, что мог.
Каупервуд искоса оглядел и миссис Стинер – низкорослую женщину с желтым лицом и острым подбородком, в очень скверно сшитом платье. «Как это похоже на Стинера – выбрать себе такую жену», – подумал он. Браки между людьми, не слишком преуспевшими и вдобавок неполноценными, всегда занимали его воображение. Миссис Стинер, разумеется, не могла питать добрых чувств к Каупервуду, ибо считала его бессовестным человеком, загубившим ее мужа. Теперь они опять были бедны, собирались переезжать из своего большого дома в более дешевую квартиру, и она всеми силами гнала от себя эти печальные мысли.
Несколько минут спустя появился судья Пейдерсон, сопутствуемый низеньким и толстым судебным приставом, похожим скорее на зобастого голубя, чем на человека. Как только они вошли, пристав Спаркхивер постучал по судейскому столу, возле которого перед этим он клевал носом, и пробормотал: «Прошу встать!» Публика встала, как встает во всех судах всего мира. Судья порылся в кипе бумаг, лежавших у него на столе.
– Какое дело слушается первым, мистер Протус? – отрывисто спросил он судебного секретаря.
Покуда тянулась длинная и нудная процедура подготовки дел к слушанию и разбирались разные мелкие ходатайства адвокатов, Каупервуд с неослабевающим интересом наблюдал за всей этой сценой, в целом именуемой судом. Как он жаждал выйти победителем, как негодовал на несчастное стечение обстоятельств, приведшее его в эти стены! Его всегда бесило, хотя он и не показывал этого, судейское крючкотворство, все эти оттяжки и кляузы, так часто затрудняющие любое смелое начинание. Если бы его спросили, что такое закон, Каупервуд решительно ответил бы: это туман, образовавшийся из людских причуд и ошибок; он заволакивает житейское море и мешает плавать утлым суденышкам деловых и общественных дерзаний человека. Ядовитые миазмы его лжетолкований разъедают язвы на теле жизни; случайные жертвы закона размалываются жерновами насилия и произвола. Закон – это странная, жуткая, захватывающая и вместе с тем бессмысленная борьба, в которой человек безвольный, невежественный и неумелый, так же как и лукавый и озлобленный, равно становится пешкой, мячиком в руках других людей – юристов, ловко играющих на его настроении и тщеславии, на его желаниях и нуждах. Это омерзительно тягучее и разлагающее душу зрелище – горестное подтверждение бренности человеческой жизни, подвох и ловушка, силок и западня. В руках сильных людей, каким был и он, Каупервуд, в свои лучшие дни, закон – это меч и щит, для разини он может стать капканом, а для преследователя – волчьей ямой. Закон можно повернуть куда угодно – это лазейка к запретному, пыль, которой можно запорошить глаза тому, кто пожелал бы воспользоваться своим правом видеть, завеса, произвольно опускаемая между правдой и ее претворением в жизнь, между правосудием и карой, которое оно выносит, между преступлением и наказанием. Законники – в большинстве случаев просвещенные наймиты, которых покупают и продают. Каупервуда всегда забавляло слушать, как велеречиво они рассуждают об этике и чувствах, видеть, с какой готовностью они лгут, крадут, извращают факты по любому поводу и для любой цели. Крупные законники, в сущности, лишь великие пройдохи, вроде него самого; как пауки, сидят они в тени, посреди своей хитро сплетенной сети и дожидаются неосторожных мошек в образе человеческом. Жизнь и в лучшем-то случае – жестокая, бесчеловечная, холодная и безжалостная борьба, и одно из орудий этой борьбы – буква закона. Наиболее презренные представители всей этой житейской кутерьмы – законники. Каупервуд сам прибегал к закону, как прибег бы к любому оружию, чтобы защититься от беды; и юристов он выбирал так же, как выбирал бы дубинку или нож для самообороны. Ни к одному из них он не питал уважения, даже к Харперу Стеджеру, хотя этот человек чем-то нравился ему. Все они – только необходимое орудие: ножи, отмычки, дубинки и ничего больше. Когда они заканчивают дело, с ними расплачиваются и забывают о них. Что касается судей, то по большей части это незадачливые адвокаты, выдвинувшиеся благодаря счастливой случайности, люди, которые, вероятно, во многом уступили бы красноречиво разливавшимся перед ними защитникам, случись им поменяться ролями. Каупервуд не уважал судей – он слишком хорошо знал их. Знал, как часто встречаются среди них льстецы, политические карьеристы, политические поденщики, пешки в чужих руках, конъюнктурщики и подхалимы, стелющиеся под ноги финансовым магнатам и политическим заправилам, которые по мере надобности и пользуются ими, как тряпкой для обтирания сапог. Судьи – глупцы, как, впрочем, и большинство людей в этом дряхлом и зыбком мире. Да, его пронзительный взгляд охватывал всех, находившихся перед ним, но оставался невозмутимым. Единственное спасение Каупервуд видел в необычайной изворотливости своего ума. Никто не сумел бы убедить его, что этим бренным миром движет добродетель. Он знал слишком многое и знал себя.
Покончив наконец с множеством мелких ходатайств, судья приказал огласить дело по иску города Филадельфии к Фрэнку А. Каупервуду, и секретарь возвестил о начале процесса зычным голосом. Деннис Шеннон, новый окружной прокурор, и Стеджер поспешно встали. Стеджер и Каупервуд, а также Шеннон и Стробик (последний в качестве истца, представляющего интересы штата Пенсильвания) уселись за длинный стол внутри огороженного пространства, между барьером и судейской трибуной. Стеджер – больше для проформы – предложил судье Пейдерсону прекратить дело, но его ходатайство было отклонено.
Немедленно был составлен список присяжных заседателей – двенадцать человек из числа лиц, призванных в течение месяца отбывать эту повинность, – и предложен на рассмотрение сторон. Процедура составления списка была в этой инстанции делом довольно простым. Она состояла в том, что секретарь, похожий на китайского мандарина, писал на отдельном листке фамилию каждого кандидата в присяжные заседатели на данный месяц – всего их было около пятидесяти человек, – опускал эти билетики во вращающийся барабан, несколько раз его повертывал и вытаскивал первый попавшийся: такой ритуал восславлял случай и определял, кто будет присяжным номер один. Рука секретаря двенадцать раз погрузилась в барабан и извлекла имена двенадцати присяжных заседателей, которых, по мере того как объявлялись их фамилии, приглашали занять свое место.
Каупервуд наблюдал за этой процедурой с глубоким интересом. Да и что сейчас могло интересовать его больше, чем люди, которым предстояло его судить? Правда, все делалось так быстро, что он не мог составить себе точного представления о них, хотя и успел заметить, что все они принадлежат к средним слоям буржуазии. В глаза ему бросился только один старик лет шестидесяти пяти, сутулый, с сильной проседью в волосах и в бороде, с косматыми бровями и бледным лицом; он показался Каупервуду человеком по натуре доброжелательным, с большим житейским опытом за плечами, такого при благоприятных обстоятельствах и с помощью достаточно убедительных доводов, пожалуй, можно будет склонить на свою сторону. Другого, по-видимому, торговца, низкорослого, с тонким носом и острым подбородком, Каупервуд почему-то сразу невзлюбил.
– Надеюсь, не обязательно, чтобы этот тип вошел в состав присяжных? – тихо спросил он Стеджера.
– Конечно, нет, – отвечал Стеджер. – Я отведу его. Мы имеем право, так же как и обвинители, на пятнадцать отводов без указания причин.
Когда места присяжных наконец заполнились, секретарь протянул защитнику и прокурору дощечку с прикрепленными к ней записками, на которых значились фамилии двенадцати присяжных в том порядке, в каком они были выбраны: в верхнем ряду – первый, второй и третий, затем – четвертый, пятый, шестой и так далее. Поскольку представителю обвинения дано право первому отводить кандидатов, то Шеннон встал, взял дощечку и начал спрашивать присяжных об их профессии или роде занятий, о том, что было им известно о деле до суда, и не настроены ли они заранее в пользу той или другой стороны.
Стеджер и Шеннон стремились отобрать людей, которые хоть как-то могли бы разобраться в финансовых вопросах, а следовательно, и в этом не совсем обычном деле, и притом не питали бы (в этом был заинтересован Стеджер) предубеждения против человека, разумно попытавшего защититься от финансовой бури, или же (в этом был заинтересован Шеннон) отнеслись бы сочувственно к средствам защиты, которые он пустил в ход, поскольку средства эти наводили на мысль о вымогательстве, плутовстве и бесчестных махинациях. И Шеннон, и Стеджер вскоре заметили, что среди присяжных преобладает та мелкая и средняя рыбешка, которую в таких случаях вытаскивают на поверхность судебные сети, закинутые в океан городской жизни. Это были преимущественно управляющие предприятиями, всякого рода агенты, торговцы, редакторы, инженеры, архитекторы, меховщики, бакалейщики, коммивояжёры, репортеры и представители других профессий, чей богатый жизненный опыт делал их пригодными для выполнения обязанностей присяжных. Людей с высоким общественным положением среди них почти не было, зато многие обладали тем примечательным качеством, которое именуется здравым смыслом.