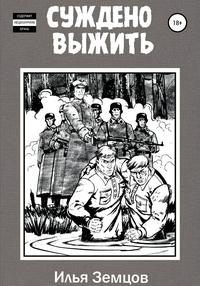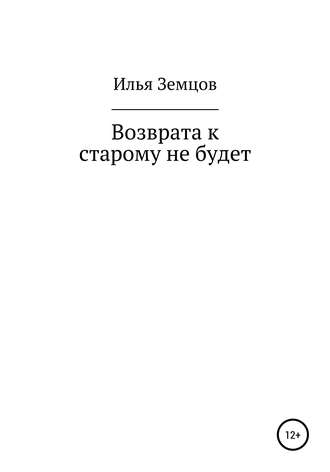 полная версия
полная версияВозврата к старому не будет

Апрель 1945 года. Война далеко откатилась на запад, за пределы России. Больше не пахали русскую землю снаряды и не боронили пули. Не горели города и села. Затихли артиллерийские канонады. Дым пожарищ колыхал уже на вражеской земле. Но наши люди продолжали умирать, оставались на всю жизнь калеками. Ручьями текла человеческая кровь.
Николай Васин шел с железнодорожного разъезда в родную деревню. Он возвращался с войны из госпиталя домой. Шел он медленно по слабо наезженной, разрушенной теплом снежной дороге. Сильно хромал на правую ногу и опирался на деревянную трость. В полях снег осел, дорога возвышалась над окружающей полевой равниной. Идти было тяжело, местами снег не выдерживал, и ноги проваливались. Васин вошел в лес. Снег там лежал не тронутый теплом, рыхлый, зимняя дорога сохранилась хорошо.
Лес во всякое время года красив, а населяющая его фауна еще более украшает. Шел Васин не спеша. Сосновые боры сменялись еловыми раменями с остроконечными кронами пихт и елей. Местами виднелись белые стройные стволы березы и серые обросшие лишайником, как бородой, осины. Лес, казалось, был мертв. Не слышно было птичьего гомона, только временами раздавался стук дятла и шум падавшего с крон деревьев снега.
Николай возвращался в родную стихию. Война, бои, госпитали остались далеко позади, и вспоминать о всем пережитом не хотелось. Он думал, вот еще три километра и увидит свою деревню, родной дом. Знакомые лица родных и селян. Разнообразные, но похожие чем-то друг на друга деревенские дома и ветряные мельницы на окраине деревни. Он вспоминал давно исчезнувшие овины, крытые соломой. Запахи пряного дыма с ароматами копченой соломы и запахи распаренных в снопах зерен ржи и ячменя. Ему хотелось бы возвратиться в давно ушедшее детство, в те далекие нэповские времена, когда их небольшая деревня увеличивалась, разрасталась, строились красивые добротные дома с резными наличниками.
В 1934 году в деревне организовался колхоз, и она начала постепенно редеть. Дома увозились в город, появлялись пустые усадьбы, заросшие бурьяном и крапивой. Деревня уже больше не строилась. Многие рвались в город, так как в колхозе на трудодни получали по 500-600 грамм зерна и больше ничего.
Николай думал: «Если бы мне доверили руководство колхозом, я бы эту землю поднял. Она стала бы давать больше, чем мужику».
Три с половиной военных года он не был в деревне. Из скупых коротких писем отца знал, что большинство мужиков было убито, немногие пришли калеками.
Он думал не о себе, а о земле, о большом хлебе, чтобы все были сыты. Поэтому поля представлял такими, как в те нэповские времена, то есть заполненными морем цветущей ржи и ячменя.
Вышел на поле, близкое, родное, окруженное со всех сторон лесом. Вдали за перелеском показалась родная деревня. Каждое поле с самого его освоения получало свое название. Справа от деревни за рощей раскинулась Вязовая. Это большое поле с добротной землей. Ежегодно крестьян радовало большими урожаями. Когда-то на месте этого поля, говорили старики, росли громадные трехсотлетние вязы. Вяз мужики вырубили, древесину пережгли на поташ, пни выкорчевали, стало поле. Вяз в этих местах даже памяти о себе не оставил. Во всей округе не сыщешь ни одного дерева. В свое время мужики за вязом охотились как за большой ценностью, и он был полностью истреблен, уничтожен.
Деревня расположилась на невысоком бугре с уклоном на юго-восток. Свое название она получила от небольшой речки Боковая. Первые поселяне назвали ее Забоковская, так как она находилась, как им казалось, за речкой.
Много разноречивых разговоров было между мужиками, кто же первый поселенец и откуда он появился. Старики утверждали, что это были два брата, которые ехали со всем своим скарбом и семьями в Сибирь из Курской губернии. По неизвестным причинам не доехали до Сибири, остались в Вятской губернии. Не одно поколение мужиков стремилось сделать деревню красивой, засадить улицу деревьями. Они приживались и росли, но немногие сохранялись. Их уничтожали лошади и козы, проходившие стадами без присмотра.
Николай вышел на проталину среди поля. Ему казалось, где-то вдали, поднявшись ввысь, пел жаворонок, курлыкали журавли, раздавалась однотонная тетеревиная песня. Воздух был чист и прозрачен, дышалось легко, приятно. Васин присел, поцеловал родную землю, негромко сказал:
– Вот я и дома.
Дома – по-русски обычная встреча солдата-фронтовика. Слезы и хлопоты матери. Как на чудо смотреть приходило по очереди все население деревни.
Через день-два началась обычная деревенская жизнь. Весна вступала в свои права, колхоз готовился к весенне-полевым работам.
Деревенские бабы говорили Николаю:
– Как тебе повезло. Пришел жив и здоров. Подумаешь, половину ступни правой ноги отняла война.
А некоторые, с острыми языками, утверждали:
– По-видимому, Николай высоко закидывал ноги, когда бежал от немцев, вот и угораздило в ступню. Ведь ступня-то почти всегда на земле. Все, чем убивает, – осколки, пули – летает выше земли.
– Да бросьте вы, бабы, издеваться над человеком! – говорила недавно избранная председатель колхоза Пашка Мироносицына. – Пришел человек с фронта, все должны радоваться. А вот мой Саня уже никогда не вернется, – вытирала глаза уголком платка, – оставил мне пятерых детей, да двух из них калек. Как хочешь, так и живи.
Пятнадцатилетнего Бориса пришлось отдать в трактористы. Парню скоро восемнадцать, надсадил себя, не растет, все маленький, поэтому прозвали трактористы Воробьем. На днях Витька Ванин, они на одном тракторе работают, подошел к окну и кричит: «Воробей, ты дома? А ну пошли!» Борис откликнулся: «Иду». А меня это так разозлило, я схватила ухват и за Витькой, ну где же такую дылду догонишь. Вырос с коломенскую версту, а сверстник Борису.
– В нашем полку прибывает, – говорили мужики. – Седьмой человек возвращается демобилизованным по ранению. Первым пришел Ваня Гришин. Ему не повезло, ногу отняли под самый пах. Куда он годен? Хорошо, что грамотный. Вот уже второй год учится в лесном институте.
– Все правильно, – говорил Николай, – но было бы лучше, если бы учился в сельскохозяйственном. Выучился бы, приехал к нам в деревню, нашли бы ему дело. Сельское хозяйство будем поднимать.
На полях снег растаял, но ни пройти, ни проехать было нельзя. В лесу он еще лежал нетронутым, как зимой. Бабы каждое утро собирались не в правлении колхоза, а на улице. Старики в правление заходили редко, а на разнарядки и всяческие сборы на улице приходили все. Сначала решали хозяйственные вопросы, а затем переключались на личные. Судачили о вернувшихся с фронта по ранению, кто на какую работу способен. Затем многие бабы пускали слезу, говорили: «А мой хоть бы без рук и ног пришел, с удовольствием бы приняла. Стала бы ухаживать за ним, слушала бы его голос, советы, чувствовала бы близкое, дорогое сердцу тело».
Из сорока пяти ушедших на фронт мужиков на тридцать два пришли похоронные. Деревня осиротела. В каждом доме горе, в каждом доме слезы. Старые и малые с утра умывались слезами, вспоминая близких погибших. Но каждый чего-то ждал, надеялся на какое-то чудо. Чуда не было, мужики с фронта не писали. Надо было жить, думать о жизни, кормить и воспитывать детей. Надо было обуваться, одеваться, а где взять? Всему кормилица земля-матушка, родное деревенское поле.
В колхозе в распутицу делать пока было нечего, и Николай ходил на тетеревиные тока. Выдвигался в два часа ночи, садился в шалаш и ждал рассвета, появления первых тетеревов, петухов, по-деревенски «косачей».
Хороши весенние ночи. Воздух чист, прозрачен. Легкий мороз постепенно пробирается к телу. Еще не светает, но белесый горизонт востока говорит о приближении утра. Тихо, еще все спит.
Неподалеку от шалаша журчал обмелевший за ночь от заморозка ручей. Временами со стороны поля набегали легкие порывы ветра. Шалаш стоял на самом краю поля, под одинокой кудрявой сосной. Время шло медленно. Николай считал до ста. Сначала по-русски, затем по-немецки, по-фински. Занимался физкультурой, чтобы не зябнуть.
Восточный край горизонта стал светлеть. Затем он медленно заалел. Где-то в лесу визгливо с хрипотцой залаял лис. Как бы откликаясь, загугукал, осмелев, заяц. На другом конце поля глухо, как покойник, захохотал филин.
Вдруг над самым шалашом, часто хлопая крыльями, пролетела тяжелая птица. С шумом опустилась в десяти метрах от Николая. Это токовик – тетерев-косач. Стрелять его нельзя. Убьешь токовика – может ток нарушиться. Больше ни один не прилетит. Косач высоко поднял голову, осмотрелся кругом, затем распустил хвост и крылья веером, издал грозный шипящий клич и затянул свою бесконечную булькающую тетеревиную песню. На его клич и песню отозвались со всех сторон несколько тетеревов. Появились три косача. Краснобровые красавцы побежали, шурша растопыренными крыльями, и устремились друг на друга. Пригнувшись к земле, они неистово кружились на одном месте, награждая друг друга тумаками, пуская в ход клюв, крылья и ноги. Ток начался. Всюду стоял шум, хлопанье крыльев и сплошное бормотание, похожее на рокот десятков родников.
Становилось совсем светло. Николай три раза выстрелил. Три тетерева лежали убитые. Остальные продолжали весеннюю брачную драку и песни, невзирая на выстрелы.
Солнце одним краем вылезло из-за горизонта. На ток прилетели несколько светло-коричневых рябых тетерок. Раздалось их квохтание и разговор «ко-ко-ко». Шум усилился, все слилось в единую брачную песню.
Косачи со вздыбленными лироподобными белыми хвостами на фоне черного наряда, как надутые упругие мячи, налетели друг на друга. Один прилетел и сел на шалаш. Николай просунул руку сквозь лапник и поймал его за ноги. Косач махал крыльями, крутил головой, но был без пощады протащен сквозь хворост в шалаш и живым положен в вещевой мешок.
Николай сидел словно зачарованный, заколдованный. Просидел полтора часа, наблюдая за брачным обрядом птиц. Забыл про алчность и звериную природу охотника. Солнце уже высоко поднялось, ток заглох, птицы разлетелись, но песня их продолжалась. Они пели одиночками на деревьях, в поле и на болоте.
Николай шел домой под впечатлением тока и нес четырех птиц, а мог бы настрелять больше. У околицы его догнали Витька и Борис. Витька нес одного убитого косача и хвалился:
– Я влет убил.
А вот Воробью не повезло. Борис ростом был похож на двенадцатилетнего пацана и чем-то напоминал воробья. Он виновато улыбался, оправдывался:
– Если сегодня не повезло, то завтра обязательно убью. Да мы и вышли поздно, проспали. Когда пришли к шалашам, ток уже начался. Кругом раздавалась тетеревиная уркотня. Я и к шалашу не пошел. Витька вопреки осторожности направился к своему шалашу, всех поразогнал, и больше уже не прилетели. А ты вроде стрелял и не один раз? – обратился Воробей к Николаю.
– Да, стрелял. Трех штук убил, а четвертого живым поймал на шалаше.
– Вот это здорово, – сказал Витька. – А мы с тобой, Воробушек, даром сходили. Позавтракаем и пойдем в МТС, нам с тобой надо будет протопать еще семь километров. А ну, покажи!
Николай снял с плеча вещевой мешок, развязал и показал тетеревов. Витька с Воробьем широко заулыбались, говорили:
– Молодец!
На следующее утро на ток Николай не пошел. Витька с Воробьем ушли в час ночи. Принесли они по одному тетереву. Убили токовика, ток разогнали. Больше на том месте тока не стало, да и поблизости нигде не было. Николай несколько раз ходил и возвращался с пустыми руками. Только один раз повезло, убил одного, севшего на сосну, под которой находился шалаш.
Девятого мая, в День Победы, все население деревни собралось на излюбленное деревенское место, где встречали и провожали все праздники. Собрались старые и малые. Еще утром всем было известно, что кончилась война. Те, у кого с фронта было кого ждать, радовались. Говорили:
– Бог услышал нашу молитву. Сейчас придут наши, германцев, видно, совсем побили.
Те, кому некого было ждать, плакали об убитых, на душе у них тоже была радость, сквозь слезы они улыбались и говорили:
– Слава богу, война кончилась.
К обеду в деревню пришел инструктор райкома партии. Правый рукав шинели у него был пуст. Женщины тихонько говорили:
– Вот жизнь, ни одного целого мужчины не встретишь.
Он сделал доклад о победе нашей армии над гитлеровской Германией. Говорил более часа и в заключение произнес:
– Вечная память погибшим за честь и независимость нашей Родины.
После доклада председатель колхоза Пашка, обращаясь к народу, сказала:
– Конец войны – это очень радостная весть. Мы все рады и будем работать не покладая рук уже не на войну, а на благо нашего народа. Но дела в нашем колхозе идут из рук вон плохо. До сих пор мы еще не приступили к посевной, не спахано ни одного гектара, не посеяно ни одной сотки. Правда, осенью мы вспахали под зябь двадцать два гектара. Вручную мне запретили засеивать эту площадь, а тракторов не дают. Не вывезено ни одного грамма навоза под картошку, да и на чем возить. В колхозе одна непригодная для работы лошадь.
Никаких сил больше нет. Ну какой же я председатель – безграмотная баба. Выбрали меня на смех курам. Бабы, давайте переизбирайте меня. Вот Николай немного оправится, изберем его председателем. А то, чего доброго, возьмет и смотается из деревни, да еще вдобавок за собой какую-нибудь девку утащит. Сколько их уже приходило, месяц-два покантуются у родителей, то учиться, то работать уезжают.
Вы знаете, в деревне остались трудоспособны одни бабы, а остальные – старые да малые. Давайте, бабы, делать что в наших силах. Директор МТС Скурихин и разговаривать со мной не желает, говорит: «Ваши пески будут ворочать самыми последними».
Женщины, воспользовавшись паузой Пашки, заговорили все разом:
– Все будем делать, все. Если не дадут тракторов, на себе пахать будем.
Чуть поодаль стояли четыре старика. Старшему из них, Андрею Никулину, было 82 года. Ростиком он был маленький, но старик шустрый, его длинную бороду до сих пор почти не тронула седина. Он хорошо слышал и прекрасно видел. В колхозе со дня организации ни одного дня не работал. Когда колхоз организовался, ему было за семьдесят. Поэтому его никто на работу не приглашал. Колхоз Андрей Никулин называл коммуной, колхозников – безбожниками. Работать в колхозе считал большим грехом. Но без дела он сидеть не мог, плел лапти, пилил и колол дрова. Впрочем, по хозяйству для себя делал все.
Второй – Афоня Данилов, ему было 80 лет. Год назад старик ослеп. Люди ему казались какими-то тенями. Деревенские дома для него сливались в единый бесконечный забор.
Третий – Федор Матвеев, он считался самым грамотным мужиком на деревне. Отец с дядей когда-то оставили ему большое наследство – более двухсот ульев пчел, два дома и так далее. Получил он и образование – окончил гимназию и военное медицинское училище. С детства его не приучили работать физически. Он больше двадцати лет учительствовал. Учил детей в своем доме, отданном под школу. Медициной не занимался, не любил. Все нажитое отцом и дядей прожил. Вступил в колхоз, но почти не работал. Перед войной уехал из деревни на Урал. В 1942 году голод угнал его снова в деревню.
И четвертый – Алексанко, так его звала не только своя деревня, но и вся округа. Настоящее его имя Александр, отца он не помнил, воспитывался у отчима, а затем подростком взял его к себе дядя, чтобы обучить ремеслу. У дяди он вырос и жил до женитьбы. Они с Федором Матвеевичем были сверстники, им было по шестьдесят семь лет. Старик был шустрый, еще с допризывниками Витькой и Воробьем бегал на обгонки и на дистанции три километра прибегал первым. Старик еще заглядывался на женщин и крутил любовь с Марьей Тиминой. В колхозе он не отказывался ни от каких работ. Ремонтировал телеги и сани, конюшил. Он был кузнец, мельник и сторож.
Также Алексанко кормил колхозную лошадь в возрасте двадцати лет. Ноги у нее в коленных суставах не гнулись. Работать на ней было нельзя. Она часто падала, а сама встать не могла. Держали ее лишь потому, что в колхозе должна была быть хотя бы одна лошадь.
Еще Алексанко кормил колхозного быка, который до войны был производителем. В войну все коровы перевелись, и быка стали запрягать как лошадь. Надевали специально сделанный Алексанко хомут, седелку, дугу и так далее. Бык послушно возил сани, телегу, только не хотел таскать плуг и борону.
После председателя Пашки на середину площадки, где собрался народ, вышел Николай. Он кашлянул в кулак, наступила тишина.
– Товарищи колхозники, а вернее женщины, что будем делать? Хлеб, лен, мясо, молоко и картошка стране нужны как никогда. В городах рабочие и служащие получают скудный паек хлеба, пятьсот-шестьсот грамм и минимум жиров. Народ в городах голодает, да и вы невесело живете. Собираете на картофельном поле прошлогоднюю картошку, смешиваете с травой. Из этой смеси печете хлеб. Вам тоже трудно. Почти что каждой вашей семье война принесла горе. Не вернулся муж, брат, отец. Потерять близких горе очень большое, но с ним надо справляться. Вы не одни, на вашем иждивении остались старики и дети. Поэтому, засучив рукава, надо браться за работу, за землю. Надо поднимать всю землю, засевать ее выгодными для нас культурами и добиваться получения максимума на трудодень.
Бабы тихонько перешептывались между собой:
– Глядите, как война его наловчила. Раньше народу боялся, в ответ слова не добьешься, а сейчас целую речь закатил, как прокурор на суде. Надо, бабы, избирать его председателем. Человек свой, землю любит. А то райком грозится прислать кого-нибудь. Пришлют инвалида, остатки все пропьет, да еще и нас, вдовушек, будет в искушение вводить.
Снова заговорила Пашка:
– Вот ты, Николай, говоришь: «Давай за дело браться», а чем – подскажи. Скурихин тракторов не дает.
– Давайте сеять вручную. Алексанко нам эти двадцать два гектара зяби за три дня посеет, а мы на себе забороним.
Заговорил всегда молчавший дед Алексанко:
– Дак, говоришь, Скурихин наши земли называет «пески ворочать»? Да знает ли он, пузан, что наши земли до колхоза кормили деревню – сорок семей с населением до двухсот пятидесяти человек, восемьдесят лошадей, больше двухсот голов крупного рогатого скота, до четырехсот голов овец и коз, а сколько было свиней. А сейчас что осталось? Двадцать коров у колхозников, одна колхозная безногая лошадь и бык. Сенокосы все зарастают. Пахотные земли пустуют, заросли сорняками, а кое-где уже появляется береза и сосна. Если мер мы никаких принимать не будем, через десять лет наши поля превратятся в лес. Все мы помним, как мужики деревни делили эту землю между собой. За каждый вершок дрались. Сейчас голодаем, а нашу кормилицу забросили. Никому она стала не нужна.
Алексанко взмахнул правой рукой, как оратор, раскрыл рот, собирался еще что-то сказать, но раздумал, спрятался за стариков. Дед Андрей Никулин, опираясь на палку, стоял позади стариков. Казалось, он был безразличен ко всему окружающему. Смотрел полутусклым взглядом куда-то вдаль, в сторону от собравшихся.
– Правильно говорит Алексанко! – закричал он скороговоркой.
Все старики зашевелились и тоже говорили:
– Правильно, правильно!
– Ты, дед, не кричи, а выйди и скажи, что тебе не нравится, – сказала председатель.
Осмелевший дед вышел на середину площадки и глухо, срывающимся голосом заговорил:
– Что хотите со мной делайте, а я выскажу все, – голос его окреп, стал звонким. – Никого я не боюсь, ни Сталина, ни НКВД. Вначале советская власть любила мужика-труженика. Многое она для нас сделала. Сменила нам деревянные сохи и бороны на железные. Продала мужику сеялки, молотилки, жатки, веялки, косилки. Все продавали дешево. Мужики, одному не под силу, покупали артельные на десять и больше хозяйств. Мужик голову поднял. Бедный да умный и трудолюбивый за три года креп и подоспел к раскулачиванию. А потом, вы знаете, начиная с 1930 года, за два года всех мужиков разорили. Меня тоже в те времена называли кулаком. Отняли двух коров в коммунию. Двух лошадей покойный сын Николай увел и бросил на базаре. А в 1934 году, когда мы вступали в колхоз, были уже бедняки. Одна корова и одна лошадь остались на семью из одиннадцати человек. Лучшего мужика-труженика признали кулаком и выгнали из деревни.
– У тебя, дед, контрреволюционные разговоры, – сказал инструктор.
Женщины закричали:
– Пусть дед скажет, душу отведет. Все полегче ему станет.
Дед говорил, подбирая слова:
– Оставили на селе голь перекатную – Гришек, Мишек и Иванов, которые в своем хозяйстве не хотели работать. Чьи полосы не сжаты и не паханы стояли? Их. Чьи сенокосы не выкашивались? Их. Вот они все и записались в коммунию, все награбленное от богатых мужиков съели, и коммуния разбежалась кто в лес, кто по дрова. Перед войной все они уже в городе были. Стали и их заставлять работать.
– Тебе, дед, надо трибуну поставить для выступления, – смеялись бабы. – Смотрите, как стрижет всех.
– Вы, бабы, не смейтесь, я правду говорю, – говорил Андрей. – Я вот этими руками поля корчевал, да не только я, все корчевали. Пусть старики скажут, как тяжело нам каждый аршин земли доставался. Все делали топорами, лопатами и березовым дрыном. А вы, коммуния, эту землю отняли у нас, истощили, запустошили и совсем забросили. Я навозу столько вывозил в поле в былые времена, что вы всем колхозом ни один год не возили. Я его покупал в соседних деревнях и вывозил. А вам и вывезенный никакой пользы не давал. Возили больше зимой, складывали небольшими кучами. Он до запашки выветривался. После таяния снега вместо навоза оставалась куча сухой трухи. Бабы разгребали эти кучи по полю, да еще неделями сушили, ждали трактора. Какая от такого навоза польза? Вы все помните, кроме вот этих, – Андрей показал рукой на детей, – не так давно, пятнадцать-семнадцать лет тому назад, сколько деревня собирала хлеба? Государству сдавали, скот кормили и себе хватало. Как ваш поганый колхоз организовали, не только государству перестали сдавать, но и сами ходили голодные. Не будет толку от вашего колхоза, вот умереть мне на этом месте. Вам никому ничего не надо, вы думаете каждый только о себе. В уборочную страду мы ночей не спали. Уходили в поле до восхода солнца и приходили после заката. Трактористы пашут глубоко. Весь плодородный слой нашей почвы закопали, как мертвеца, в могилу. Все маленькие участки еще далеко до войны забросили. Они уже заросли лесом. Вы только и умеете каждый день совещаться, решать, считать и спорить. Вот и досчитались до одного быка.
– Да тебя, дед, за такие слова могут упрятать, куда следует, – закричала Пашка.
– А твой муж Саня, ни пены, ни пузыря ему, царство ему небесное, если он жив, – сказал Андрей, – перед войной пятерых мужиков упрятал. Так все и сгинули. Они в колхозе-то пригодились бы. И меня сажайте, стреляйте. Я все равно последние дни на этом свете доживаю. Сноха меня хлебом из травы кормит, я его не ем. Умру, но в рот не возьму. Никогда не думал, что в глубокой старости придется умирать с голоду.
– Напрасно ты на него кричишь, Прасковья, дед Андрей правду говорит, – возразили колхозники. – Трудолюбивый дед всю жизнь трудился, не давая себе отдыха и покоя. В его хозяйстве с незапамятных времен были две рабочие лошади, а в отдельные годы и по две головы молодняка. Крупного рогатого скота с молодняком было до десяти голов. Овец – до двадцати штук. Ежегодно выкармливалось до десяти голов беконных свиней. Мяса хозяйство продавало до пятидесяти пудов в год. Семья же ела рожки да ножки. Все продавалось. А семья была все время большой, девять-десять человек. Семья жила только за счет земли, других побочных доходов не было. Но за услугами ни к кому не обращались. Для себя делали сани, телеги. Он плотник, кузнец и бондарь. Всю жизнь для семьи плел лапти и корзины. Без дела никогда не сидел. Всю жизнь, все время в работе.
Ходили по деревне и нехорошие слухи про Андрея, якобы в молодости жульничал. Топленое масло продавал с примешанной картошкой. Продавал мясо овец, задранных волками. Андрей всю жизнь держал в запасе водку. Многие утверждали, что в нее он добавлял воды. В деревне магазина не было, поэтому кое-кому приходилось брать взаймы. В этом он никому не отказывал.
Дед Андрей выступил перед собравшимися, перекрестился и, опираясь на палку, не спеша ушел домой.
– Вот старик, а душа-то болит о земле, – говорил инструктору райкома Николай Васин.
– Но взгляды-то у него кулацкие, и вообще-то он, по-видимому, из кулаков, – сказал инструктор.
– Какой он кулак, – в разговор вмешалась Пашка. – Всю жизнь в лаптях, домотканых штанах и рубахе. Всю жизнь жадничал, хранил на черный день. Семья цельного молока в праздничные дни не ела, не говоря о мясе.
Народ расходился по домам. На месте сходки остались председатель, бригадир Лида, Николай и инструктор. Инструктор спросил Николая: