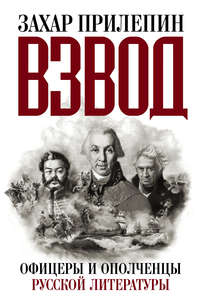Полная версия
Истории из лёгкой и мгновенной жизни
Замените всё это на женский род, и умилитесь: как вам кинокартина «Служили две подруги» или роман «Три подруги»? Как-то сразу не верится, что там пойдёт речь об удивительной дружбе. Какие-то совсем другие ожидания от произведений с такими наименованиями.
В «Трёх подругах», после пылкого периода дружбы и удачных замужеств, героини обязательно разойдутся по своим делам – длить и длить женскую дружбу нет никакого смысла; зачастую это противоестественно.
«Четыре подруги двадцать лет спустя» или «Четыре подруги тридцать лет спустя» – это просто кошмар какой-то: я б и не рискнул такую книгу открыть.
Женская дружба уживается, как правило, в форме родства – отсюда «Три сестры» Чехова и «Сёстры» Алексея Н. Толстого (первая, и лучшая, часть «Хождения по мукам»).
Женщины дружат с детьми и мужьями. Женщины ждут их.
А мужчины к жёнам и детям – возвращаются: разница.
Женщины вполне могут никого не ждать, желая сохранять свою свободу, – ну, тогда к ним никто и не вернётся.
Можно сколько угодно сердиться на мой мужской шовинизм, но проверяется сказанное мной до банального просто. Мужчина, отдавший жизнь за друга, – это обыденность, таких случаев – тысячи, они увековечены в мировой мифологии, истории, поэзии, об этом написаны тома книг.
«Отдать жизнь за други своя» – признак высшего состояния мужского (человеческого) духа.
Женщина, которая жертвует жизнью за свою подругу, – это алогизм, моветон, это нелепица какая-то. Зачем ей вообще было этим заниматься – у её подруги, что, не было парня, чтоб пожертвовать собой?
Если хорошенько порыться в мировых литературных сокровищницах, то, конечно, можно найти примеры и на этот счёт – но зачем? Лично мне категорически не хотелось бы, чтоб женщины занимались такой ерундой, как самопожертвование, измеряя свою дружбу мужскими категориями. У женщины много других занятий, где они дадут фору мужчинам.
Если вы по-прежнему категорически не согласны со мной, то вспомните одну песню вроде «Если друг оказался вдруг…», только про женщин. Или хотя бы строчку наподобие «Друга я никогда не забуду, если с ним повстречался в Москве…».
Если вспомните – буду счастлив.
Но вы не вспомните, потому что поэзия не врёт.
Мужская дружба – поэтична, женская годится только для фривольного сериала.
Мужчинам, говорю, лучше всего дружить на войне; но вообще можно встретить друга в горах, как в песне у Высоцкого, или в Москве, как в другой вышеприведённой песне, или в тайге, или у чёрта на куличках.
Труднее всего дружить во времена, когда достаток и успех стали понятиями определяющими, а вернее – подминающими любую суть.
Проще всего дружить либо когда у друзей нет ничего, зато есть радость о бытии (иногда оборачивающаяся тоской о несделанном), – либо когда у друзей есть всё, плюс радость о бытии (но и она тоже иногда оборачивается тоской о способах уже достигнутого ими).
Не позавидуешь мужчинам, которые пребывают в состоянии соревнования – один богаче, другой бедней, один талантливый, другой не очень, один забравшийся наверх, другой задумчиво расположившийся внизу. Какая уж тут дружба – для поддержания таких отношений нужно иметь крепкие нервы.
Мужской дружбе претит дух соревнования. Едва он появляется, в мужской дружбе неизбежно проступает что-то женское. Когда мужчина дружит, он не должен оглядываться на своё отражение, проходя мимо любой стеклянной поверхности, и вообще задумываться о том, как выглядит.
Настоящий мужчина всегда лучше всего выглядит, когда он равен себе. В то время как для женщины это – единственный вид роскоши, который может не прибавить ей шарма.
В советские времена (сейчас несколько читателей хмыкнут) мужская дружба была куда более демократична, чем сегодня. В нашем деревенском доме за одним столом, вокруг моего отца, сидели председатель колхоза, поэт из большого города, комбайнёр, собиратель краеведческого музея, водитель с овощной базы. Сам отец был директором школы. Все товарищи отца были равны.
Ничем особенным друг для друга они не могли быть полезны.
Дружили за так и помогали товарищам просто так: исключительно из чувства душевного родства.
На мой вкус, возможность таких отношений – и есть главная демократия, все остальные демократии от лукавого.
Помимо демократии, для дружбы необходим некоторый излишек свободного времени – и он тоже имелся: восьмичасовой рабочий день – штука крайне важная.
Ещё для дружбы нужна музыка – музыка звучала.
Помню, у мамы был день рождения, тридцать лет, а отец забыл купить ей подарок – впал в состояние непобедимой дружбы за неделю до праздника, и забыл из него выйти.
Утром, когда пришло время накрывать праздничный стол, отец вдруг понял, что ситуация критическая. Выйдя покурить на крыльцо, он попросил друга – того самого водителя с овощной базы – съездить в город и купить большое зеркало: у нас не было, а мама хотела на себя любоваться.
Ситуация усугублялась тем, что водитель, равно как и папа, в этот момент находился в бодрой и радужной степени алкогольного опьянения. Вдобавок к тому – он имел уже два прокола в правах, и третий прокол оставил бы его без работы.
Но это ему не помешало сорваться на своём грузовике в город.
В городе выяснилось, что сегодня выходной – а советские магазины имели обыкновение по воскресеньям закрываться. Друг проявил до сих пор скрытые способности детектива и нашёл директора магазина – могучую женщину с бетонным характером.
Невиданными обещаниями – впрочем, овощная база предоставляла некоторые возможности, – уговорил её открыть магазин на пять минут.
Денег не хватило – и он оставил в залог свои часы, перочинный нож и обручальное кольцо.
Купил, или, в некотором роде, обменял зеркало.
Дальше ситуация совсем вышла из-под контроля. Его едва не поймали работники государственной автоинспекции – они помчались вслед, когда грузовик не остановился на взмах волшебной палочки, и почти уже нагнали правонарушителя, но там, где дорога с асфальта свернула на просёлочную, милицейские «жигули» влезли в грязь и временно погибли.
Ладно бы только это! Зеркало друг моего отца положил в кузов грузовика – даже не закрепив его: мужчины не склонны думать о таких мелочах. Всю дорогу, включая погоню и бешеную езду по осенним лужам и прочим буеракам, зеркало летало по кузову взад-вперёд и наискосок.
Но не разбилось. Мужская дружба сохранила его.
Друг практически подвески королевы доставил в урочный час моему отцу – разве это не прекрасно?
У меня ещё сто подобных историй хранится в памяти.
Да, дружбы имеют обыкновение прекращаться – в том числе и мужские. У мужчин не настолько много здоровья, как им кажется. Здоровье периодически заканчивается непосредственно в процессе дружбы.
Иногда – насовсем.
И тогда, наконец, приходит черёд женским дружбам.
Все, кто сидел у моего отца за столом, – умерли. Зато живы жёны этих друзей, наши матери.
Теперь они дружат за мужей. Теперь они дружат – про мужей.
Музыки стало чуть меньше, бравады несравненно убавилось, не звучит отцовский аккордеон, и никто не катается по деревне на грузовике, пугая кур.
Но всё перечисленное присутствует незримо в нас, рядом с нами и над нами.
Теперь я привожу в деревню своих новых друзей. Жёны моих друзей присматриваются друг к другу.
Всё сбылось
В паспорте написано, что я родился в деревне Ильинка Скопинского района Рязанской области. Это не совсем так. Семья моя действительно жила в Ильинке, и там я провёл детство. Но родили меня в роддоме городка Скопин, в десяти километрах от моей Ильинки, где роддома не было.
Это случилось 7 июля 1975 года; три семёрки в дате моего рождения, считаю, чуть иронизируя над самим собой, время от времени приносят мне удачу.
В Скопине в своё время родились автор песни «Эх, дороги…» композитор Анатолий Новиков, маршал СССР Бирюзов, кинорежиссёр Лукинский, философ Хоружий, в том же городке жил и учился будущий российский политик Владислав Сурков.
Я был крещён вскоре после рождения в церкви села Казинка – это соседнее с Ильинкой село, откуда происходил родом мой дед по матери.
Отец мой, Николай Семёнович Прилепин, преподавал в соседней с Ильинкой деревне Высокое историю и одновременно был директором школы. В летние каникулы он брал заказ на ремонт школы и вдвоём с каким-нибудь приятелем красил здание, менял окна, штукатурил и тому подобное. Он всё умел делать, в том числе виртуозно играл на гитаре и баяне, и как баянист (если был аккордеон – то как аккордеонист) был званым гостем на всех свадьбах; рисовал, в том числе на заказ, но чаще дарил свои картины за так, или за «банку вина», как он это называл. Практически все его работы, за исключением нескольких, утеряны.
Отец научил меня ценить живопись: более всего Константина Коровина и Петрова-Водкина.
Отец был под метр девяносто ростом, во всех компаниях, где я его видел, он всегда был самым сильным и самым умным. Рядом с ним я никогда и ничего не боялся.
В юности отец хотел стать художником, и музыкантом он тоже хотел быть, и, кажется, ещё поэтом – я видел несколько его стихов, в рубцовском стиле написанных; потом они тоже потерялись.
Никем из перечисленных отец не стал, и это его со временем надломило. Он выпивал, как и многие мужики в те времена, но выпивал безжалостно к самому себе.
Впрочем, пока он был молод и полон сил – это не было так заметно.
Мы держали в Ильинке небольшое хозяйство: кур, уток; у нас был огород.
Огород отец вспахивал сам: запрягал лошадь – и пахал; я смотрел на это.
Крестьянский труд, как и любой другой, давался ему легко.
Родом отец происходил из села Каликино Добровского района Липецкой области – до появления Липецкой области село числилось в Тамбовской губернии. В Каликино я проводил бо́льшую часть лета с самого раннего детства до шестнадцати лет, и считаю эту деревню своей родиной в поэтическом смысле. Там, на окраине деревни, есть высокие холмы, куда я уходил и сидел там целыми днями, не зная зачем, глядя на простор и заходящее солнце.
Деда моего звали Семён Захарович, он тоже был высок, белёс, степенен, необычайно силён физически, имел басовитый голос, слышимый за целую улицу. Великую Отечественную он начал артиллеристом, командиром орудия, летом 1942 года, отвоевав полгода, попал в окружение и в плен, и сидел в немецких лагерях до конца войны. Освободили его американцы. Когда его выпустили – он весил 47 килограмм. К своим он пошёл пешком. Деда допросили и отпустили восвояси.
Со своей женой – моей бабушкой – он поженился ещё до войны, и она, не получив от него ни одной весточки, кроме письма в 1942 году, ждала его всю войну – и дождалась.
Письмо это я видел и читал. Там дед писал, что был в страшном бою, они отражали танковую атаку, но теперь всё хорошо и он просит жену ждать его.
Бабушку звали – Мария Павловна, она была настоящая русская женщина, богомольная, терпеливая, никогда и ни при каких обстоятельствах не повышавшая ни на кого голоса. Читать она едва умела, и в школе училась то ли класс, то ли два. Бабушка была, как и дед, каликинская.
Письмо деда тоже потерялось. Оно было на открытке.
Позже добрые люди провели исследования и восстановили мою родословную по отцу до XVII века. Выяснилось, что Прилепины происходили из однодворцев: было такое сословие, набираемое из боярских детей, казачества и монастырских крестьян для охраны окраин государства. Прилепины не были детьми боярскими – они происходили из монастырских крестьян. Предки по линии бабушки тоже были из однодворцев – удивительно, но даже после двух с лишним десятилетий советской власти, в силу традиции, бывшие однодворцы всё равно заключали браки внутри своего сословия.
Кто-то из Прилепиных, согласно документам, ещё в XVII веке ходил в походы на Крым; это, в силу некоторых обстоятельств моей биографии, кажется мне забавным и знаковым.
Мать моя, Татьяна Николаевна, в девичестве – Нисифорова, работала в сельской ильинской больнице. Рядом с больницей стояла не разрушенная, но ещё не открытая тогда церковь. Я часто гулял вокруг этой церкви. Она казалась мне высокой и загадочной.
Напротив церкви стояла двухэтажная школа – потом её разрушили, – где я начал учиться.
Моего деда по матери звали Николай Егорович Нисифоров, они с бабушкой жили в пригороде Скопина – в пору моего детства это место называлось совхоз им. Мичурина. Потом совхоз переименовали в село Успенское.
Дед с бабушкой (мы называли её бабукой) были хлебосольны, постоянно собирали гостей, устраивали огромные застолья. Держали хозяйство: две коровы, несколько свиней, кролики, утки, гуси, куры.
Дед был охотником.
Ещё он научил меня косить. Всё лето я и мой двоюродный брат Колёк, будущий герой многих моих рассказов, занимались крестьянским трудом; думаю, это пошло мне на пользу.
Дед прошёл почти всю войну: начал воевать под Сталинградом и встретил победу в Венгрии. Он был пулемётчиком, и потерял только вторых номеров пять или шесть человек. Вообще же, из его пулемётного расчёта погибло более двух десятков солдат. Когда они форсировали Днепр, снаряд попал в плот, на котором они плыли, и все погибли, деда выбросило в воду – он не был ранен, но и плавать не умел, чудом уцепился за какое-то бревно и доплыл.
В 1946–1947 годах дед дослуживал на территории Западной Украины, и всю жизнь ненавидел бандеровцев; «бандера» – с маленькой, потому что это произносилось как синоним «негодяя» или потенциального предателя, – было у него одним из самых ругательных слов.
Когда дед вернулся с фронта, мать его не узнала; на него ещё в 1942 году пришла похоронка. Писем домой он всё это время не писал. Говорил, что тогда он едва умел писать. В школе он тоже учился то ли один класс, то ли два.
На самом деле, сильно контуженного в боях под Сталинградом деда подобрала какая-то баба, и он у неё сначала оклемался, а потом ещё жил какое-то время – дрова, говорит, рубил.
В общем, когда он вернулся, его во второй раз оформили на службу – уж не знаю, как он исхитрился объяснить, куда он делся на несколько месяцев. Видимо, по этой причине дед старался не попадаться никому на глаза и даже писем домой не писал.
Он был награждён медалями «За отвагу» и «За взятие Будапешта».
Родители моего деда работали на даче у наркома Ворошилова и видели Сталина. Надеюсь, что в каких-нибудь документах рано или поздно обнаружатся садовники Нисифоровы – это мои.
Бабушку мою, жену деда, звали Елена Степановна, она была родом из-под Воронежа; говорила, что казачка, и навела меня на мысль почитать книги про Степана Разина – она сама читала романы и Чапыгина, и Злобина. Чапыгин ей нравился больше.
Мать моей бабушки, моя прабабка, родом из центральной Украины – и говорила исключительно на суржике; фамилия её была Толубеева, звали Марией. Я её не застал, она умерла молодой, но бабушка так рассказывала.
В конечном итоге я считаю себя одновременно и рязанским, и липецким, и тамбовским, и воронежским. И заодно немного малороссом.
Бабушка знала песни на украинском и пела их иногда.
Они устраивали с моим отцом концерты – он на семиструнной гитаре, она на балалайке; играли «Страдания» – это было бесподобно.
Когда отец и бабука играли вместе – так выглядело моё счастье.
В Ильинке у нас был проигрыватель грампластинок, на котором мы непрестанно, целыми днями, крутили два первых диска Александра Дольского, которые отец привёз из Рязани. Пластинку Дольского «Государство синих глаз» 1980 года я до сих пор считаю чудом. Много позже я встретил Дольского и сказал ему об этом. Он был первым поэтом, которому я дал почитать свои стихи. Дольский перезвонил мне и сказал, что я талантлив. Я до сих пор благодарен ему за это.
Мы прожили в Ильинке до 1984 года и переехали в Дзержинск тогда ещё Горьковской области, где у матери жил брат, писавший ей, что в городе дают молодым работникам бесплатное жильё и можно найти хорошую работу.
Сначала в Дзержинск переехал отец и устроился преподавателем в ПТУ номер 44 на проспекте Дзержинского.
Потом приехали мы всей семьёй: мать, старшая сестра и я. Мать устроилась в Дзержинске на завод «Корунд». Мы жили в общежитии на проспекте Дзержинского, 36, это был последний дом в городе, дальше начиналась заводская зона.
В Дзержинске, в возрасте девяти лет, я впервые открыл синий томик Сергея Есенина, хотя мама читала мне его вслух ещё в Ильинке, и я, к примеру, был тогда уверен, что «хатывризахобраза» – это одно волшебное слово.
В доме нашем имелось много другой поэзии, отец любил и собирал стихи, но Есенин был, как и я, рязанский, и это повлияло на мой выбор. Я начал читать его сам – и едва не потерял от чего-то неизъяснимого рассудок. До сих пор я могу продолжить любую строчку из стихов Есенина по памяти и сказать, в каком году эти стихи написаны.
В том же году мне попалась в нашей библиотеке книга писателя Злобина «Степан Разин», вся пожелтевшая, в переплёте, сделанном из жёлтой в чёрную крапину занавески, – про этот роман мне говорила бабука, теперь я прочитал его, и был совершенным образом потрясён.
Немногим позже я нашёл романы о Разине Чапыгина и Шукшина, они мне тоже нравились, но Злобин больше всех. В детстве я перечитывал эту книгу, быть может, двадцать или тридцать раз. Она тронула меня больше, чем «Остров сокровищ» или «Робинзон Крузо».
Хотя, конечно, два американца – Лондон и Твен, два британца – Конан Дойл и Киплинг, и два француза – Дюма и Жюль Верн, – доставили мне много удивительных минут: лучшее из написанного ими – в чистейшем виде волшебство.
Другой моей любовью был Аркадий Гайдар. Помню: я болею, простыл, и мама мне читает «Школу» Гайдара – прекрасно.
Я стал тем, что я есть, благодаря этим книжкам, моему деревенскому детству и моим трудолюбивым, незлобливым, щедрым старикам. Все они – Семён Захарович, Мария Павловна, Николай Егорович и Елена Степановна – очень сильно повлияли на меня, я всех их очень и по-разному любил.
В девять лет я начал писать стихи.
Первое из написанных мной стихотворений завершалось так: «Люблю я Русь, клянусь». Ничего принципиально нового я с тех пор не придумал.
Учились мы с сестрой в школе номер 10 на площади Маяковского. Из школьного коридора был виден отличный памятник Маяковскому. Напротив моей школы был роддом, в котором, скорей всего, родился в 1943 году Эдуард Лимонов, но тогда я ещё об этом не знал.
К тринадцати годам я был совершенно сдвинут на поэзии Серебряного века. Целыми днями я читал стихи и едва не бредил ими. Отец подарил мне печатную машинку – и я понемногу собрал антологии русских футуристов, символистов и акмеистов, перепечатывая их собственноручно, двумя пальцами.
Если стихи Маяковского и Каменского (футуризм), Блока и Брюсова (символизм), Городецкого и даже Ахматовой (акмеизм) были доступны, то Мережковского, Белого, Сологуба и Бальмонта, Хлебникова и Бенедикта Лившица, и тем более Гумилёва найти было куда сложнее.
Но я находил.
Во-первых, в разнообразных советских поэтических антологиях, где почти все вышеназванные появлялись время от времени.
Во-вторых, у нас было советское собрание сочинений Корнея Чуковского, и там были, о, чудо, в отличной статье о футуристах – множество примеров футуристических стихов, иные даже целиком; ещё там была статья про Фёдора Сологуба, тоже с целыми стихами в качестве примеров; там я обнаружил блистательную статью про Игоря Северянина – и странным образом влюбился в его стихи, которые собрал в отдельную, собственного изготовления, книжку. Почти всего классического, начиная с «Громокипящего кубка» и года до 17-го Северянина я знал наизусть (сейчас я думаю – с некоторой, быть может, печалью, – что это очень средний поэт).
В-третьих, какие-то редкие издания перечисленных поэтов я обнаружил в запасниках дзержинского Дома книги, где иногда сидел целыми днями, понемногу прогуливая школу; а что-то к 1987 году начало появляться в периодике.
В любом случае, когда отец прошил и переплёл собранные мною антологии символистов, футуристов и акмеистов, – их в России не существовало вообще: собрали их и начали издавать только лет десять спустя.
Двоюродная моя сестра Саша училась на филфаке – и носила туда мои антологии, потому что других учебных пособий по теме русского модернизма начала века просто не было.
В 1989 году я увидел в кинотеатре работу Алана Паркера «Сердце Ангела» с Микки Рурком в главной роли, и пересмотрел его несколько десятков раз, будучи поражён эстетической безупречностью фильма и явственным ощущением чего-то потустороннего. Рурк там играл гениально.
У сестры Саши был парень – Геннадий, носивший прозвище Ганс, – Ульянов. Он был музыкантом. Музыка стала новой моей страстью.
В пятнадцать лет я начал учиться играть на гитаре и сочинять песни – скажем, песню «Вороны» я придумал в 16 лет, записал на аудиокассету, а спустя 25 лет извлёк, немного переделал текст и записал: её исполнил рок-бард Бранимир.
С Геной мы были неразлучны года четыре подряд. Я нещадно прогуливал школу, мы целыми днями слушали музыку, пили пиво и мечтали о скорой славе.
Стены моей комнаты в квартире на улице Терешковой, 10, полученной матерью от завода, где она работала, были украшены плакатами с изображениями Александра Башлачёва, Бориса Гребенщикова, Виктора Цоя и Константина Кинчева. Чуть меньшее пространство занимали Вячеслав Бутусов, Дмитрий Ревякин, Михаил Борзыкин и Александр Скляр.
Тогда же я начал слушать и собирать все записи «Cure», «A-HA», «Depeche Mode». Многие годы любимейшим моим исполнителем был Марк Алмонд, удивительными казались поздний Брайн Ферри и ранний Крис Айзек; пару лет спустя в моей фонотеке появился и утвердился на многие годы Игги Поп.
По-прежнему и я, и мои родители много слушали Александра Дольского, очень любимого моей матерью Владимира Высоцкого и открытого для меня отцом Александра Вертинского, которого я обожал.
К 1990 году мы сочинили с Гансом штук тридцать песен, некоторые из них мне до сих пор кажутся очень хорошими. В том же году наша с ним группа впервые начала выступать на рок-фестивалях, хотя сам я на сцену ещё не выходил.
Если говорить о литературе, то в тот год я начал узнавать греческую поэзию XX века, которую люблю по сей день, особенно мне близки Яннис Рицос и Тасос Ливадитис. Восхищают они меня нисколько не меньше, чем ключевые фигуры столетия вроде Хэма или Экзюпери.
В прозе я тогда же открыл для себя Гайто Газданова, пожалуй, любимого моего писателя по сей день. Все девяностые я был увлечён сочинениями Генри Миллера.
В эти годы я вдруг начал, как остервенелый, качаться, и за пару лет достиг каких-то удивительных результатов: я мог целыми днями отжиматься и подтягиваться, бегать по лесу с гантелями, бить боксёрскую грушу, и находил это крайне увлекательным.
Ещё в 1990 году я прочитал Лимонова. В Скопине, на книжном развале, я увидел книгу «Это я, Эдичка» – и, зная, что автор из Дзержинска, купил. Лимоновский роман стал для меня потрясением, в чём-то даже сравнимым с первой реакцией на есенинские стихи. Но там я был ещё ребёнком, а тут уже вытянулся в подростка. Лимонов был отличным писателем до тюрьмы и в тюрьме, а потом расхотел, но это уже его дело.
В периодике тогда мне стали попадаться антиперестроечные статьи Лимонова – и я сразу безоговорочно им поверил.
Отец мой был настроен консервативно, хотя в бесконечных политических спорах той поры не участвовал. Тогда все вокруг нас поголовно были демократами, – а отец, ни с кем не споря, уходил что-нибудь читать, закуривая по дороге «Астру».
19 августа 1991 года мы с моей сестрой, по дороге из российского ещё Крыма, попали в Москву, – я помню, как весь день бродил по городу и, встречая колонну демократических демонстрантов, испытывал явственное чувство отторжения.
Закончив школу, я пошёл на филфак. Учиться там я не любил, латынь и языкознание еле сдавал, и всё надеялся, что вот-вот мы с Гансом станем известны, и мне можно будет оставить мой университет в Нижнем – кажется, Горький тогда уже переименовали в Нижний Новгород. Филфак располагался сначала на площади Минина, а потом переехал на Большую Покровку.
Но вместо музыки, неожиданно для самого себя, я занялся совсем другим.
Наверное, на меня очень сильно повлияла смерть отца, – он умер в 1994 году в возрасте 47 лет.
Ещё в 93-м вышел странный указ Бориса Ельцина о пополнении рядов МВД учащимися вузов. Студенты, начиная с третьего курса, могли, прослужив полгода в армии, устроиться на разные должности в милиции.
Прослышав об этом, я решил подать документы: возьмите и меня.
Помню, что в милицию я пришёл с длинными волосами – я же был музыкант. И ещё с серьгою в ухе, в виде крестика. Удивительно, но принимавший документы подполковник не выгнал меня вон.
В итоге, когда таких, как я, набралось достаточное количество, для нас создали в лесу на реке Линда специальную воинскую часть. Я взял академ в университете и пошёл служить. Это был 94-й год.