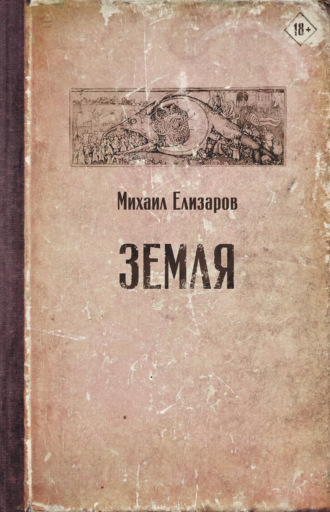
Полная версия
Земля
Я бежал по утоптанной земляной дороге к ближнему посёлку, справедливо полагая, что где-то рядом должна находиться и железнодорожная станция с пригородной электричкой.
Посёлок просыпа́лся – поскрипывал, хлопал дверьми и ставнями. За невысокими заборами горланили сиплые петухи. В отцветающих кустах сирени свиристели утренние птицы. Воздух был дымчатым и полусонным.
Я ужасался моему ослушанию. Однако нутро подсказывало – всё делается правильно: “Если повезёт, я успею добраться до города раньше, чем вожатые поднимут нашу палату. Отец простит мне моё бегство, сообщит дирекции лагеря, что я дома, и всё закончится если не хорошо, то по крайней мере без громкого скандала…”
Я промчался по окраине посёлка и выбежал на широкое грунтовое шоссе. Сразу за ним в негустом перелеске посвёркивало серебрянкой местное кладбище. Я выдохся и минут десять шёл заплетающимся шагом, пока не успокоилось надорванное дыхание.
Вскоре послышался далёкий железный перестук товарного состава. Ветер принёс запахи шпал, угля и смолы. Показался мост через глубокий овраг и высокая, обросшая редкой травой железнодорожная насыпь. Я вскарабкался наверх. По другую сторону насыпи простирались поля и дачные участки. Виднелось большое извилистое озеро с одинокой резиновой лодкой и сутулым, как окурочек, рыбаком в ней.
Станции я не увидел. С одной стороны обзор заканчивался дальним поворотом, и буйная зелень вдоль полотна не давала ничего рассмотреть. Я повернул в зрячую сторону.
Примерно четверть часа я добирался до облупленного бетонного перрона. Последние сотни метров опять летел во весь дух, потому что вдалеке змеилась юркая электричка.
Я вбежал в тамбур вагона. Электричка тронулась. Задыхаясь, я смотрел на красный рычаг стоп-крана, похожий на кровавый кабаний бивень. Потом зашёл в вагон и без сил рухнул на деревянную лавку. Субботний вагон был пуст и билеты, разумеется, в такую рань никто не проверял.
В город я приехал к семи утра, как показывали вокзальные куранты. Через десять минут я уже бежал по ступеням нашего дома на четвёртый этаж. Чуть постоял у двери, слушая невнятные голоса родителей на кухне. Судя по повышенным тонам, они вздорили. Потом позвонил, заранее готовя оправдательные слова.
Дверь открыл отец. Первые секунды он смотрел на меня непонимающим взором. Из кухни выбежала мать.
– Вовка, что ты здесь делаешь? – с каждым словом голос её поднимался от удивления к гневу.
Я распахнутым ртом прокричал отцу:
– Пап, я забыл часы завести, – и кинулся в комнату к серванту.
Часы лежали на полке, там, где я их оставил. Я схватил их и первым делом глянул на циферблат. О, счастье! Секундная стрелка была жива, она двигалась, но, как мне казалось, из последних сил.
Резко повернул заводную коронку. Она совершила оборот и застопорилась.
– Я сам завёл их вчера, – произнёс за моей спиной отец. – Не крути, сломаешь!
Я повернулся. И поразительно – мой хмурый отец широко улыбался.
– Плохо, что ты не подумал заранее о проблеме, – сказал он. – Но хорошо, что изыскал возможность её решить. Я… – отец чуть задумался и выдал совсем неожиданное. – Горжусь твоим поступком, сын.
Мать металась по квартире, негодовала:
– Куда звонить и кому!? Вот сам, – заявляла отцу, – и вези его обратно!
Но мне уже было не страшно, а, наоборот, радостно – отец впервые гордился мной.
Подъём в лагере был в восемь, а мы опоздали всего на десять минут, так что переполох ещё не вышел за пределы нашего корпуса. Я увидел на веранде вожатых: зарёванную Свету (она держала в руках моё прощальное письмецо) и пунцового от злости Эдика.
К крыльцу мчался кто-то из моих сопалатников:
– Нет его в туалете! Я в девчачьем тоже смотрел!
Первым меня увидел Толик Якушев, завопил:
– Вот он! – тыча пальцем. – Они… – досчитал отца.
Вожатые развернулись на палец и замерли. Отец мирно, даже смиренно произнёс:
– Молодые люди, можно вас на минуту?
Света растирала слёзы по розовым, будто нахлёстанным щекам, Эдик гневался и робел одновременно. Взгляд его стремительно перескакивал с меня на отца, потом снова на меня, словно Эдик следил за стремительной теннисной партией.
– Молодые люди… – повторил отец. Перешёл на деловой шёпот: – Я всё объясню, это полностью моя вина…
Пока он говорил, настойчиво и очень тихо, я ловил на себе восхищённые взгляды сопалатников. Никто не решался ко мне подойти – я был ещё вне закона. Лишь Якушев отчаянно жестикулировал, изображая какой-то конец света.
Я услышал стесняющийся голос отца:
– И в качестве небольшой компенсации за ваши нервы… – он вытащил из кошелька несколько купюр и вложил в отнекивающуюся руку Эдика. – Я прошу, – сказал отец. – Вас, девушка, простите, как зовут? Светлана Николаевна? Тоже очень прошу. Возьмите, конфет себе купите…
Рука Эдика сдалась, он спрятал деньги, затем повернулся ко мне:
– Кротышев, марш в палату, с тобой будет отдельный разговор!
Отец крикнул вслед:
– Не беспокойся, сынок, пока ты в лагере, я присмотрю за ними…
– За чем?.. – спросила гундосая от слёз Света. Она ещё не решила, куда пристроить свою взятку, комкала её. – За чем присмотрите?
Голос отца улыбнулся:
– За утюгами…
* * *Конечно, эпизод с побегом сам по себе был ярчайшим в моей невыдающейся жизни, но в ту лагерную смену я впервые оказался на кладбище, и оно, как сказали бы мои будущие наставники, “поздоровалось со мной”. И встречу, как ни крути, подстроили “биологические” часы.
Заканчивалась первая неделя смены. Обещанный Эдиком разнос так и не состоялся. Вожатые предпочли сделать вид, что ничего не произошло. Несмотря на все липучие расспросы, я никому не признался о часах – даже лучшему другу Толику.
Слухи о моём геройстве, конечно же, расползлись по лагерю. После завтрака меня подозвали старшие Якушевы – Семён и Вадим. Им уже было по четырнадцать, и они перешли в девятый класс.
Семён, дружески подмигнув, спросил: видел ли я поселковое озеро?
Я сказал:
– Видел, – и как умел нацарапал палочкой на земле план местности: вот дорога через посёлок, трасса, тут кладбище, там железная дорога, а за ним уже озеро.
– О, – ухмыльнулся Семён, – и кладбище есть! Интересно…
– А зассышь, – спросил кто-то, – на кладбище ночью?
– На что спорим? – Семён даже не обернулся. – На ракетку твою спорим?
– А как докажешь, что там был? – спросили насмешливо за его спиной.
Семён чуть подумал:
– Ну, ленточку с венка срежу… Спорим?
Тогда Семён и предложил пойти вместе с ними ночью. Сперва на кладбище, а потом уже к озеру. Польщённый таким неслыханным доверием, отказаться я не мог, хотя Толик завистливо отговаривал:
– Ну и дурак! Поймают и точно выгонят!..
Я соорудил из одеяла и полотенца спящую куклу, чтобы моя койка не выглядела пустой. В полночь, сверившись с часами соседа, я покинул палату. Почему-то через окно, хотя, уже спрыгивая с подоконника, сообразил, что мог бы выйти через дверь, как нормальный человек. Никто же не запрещал нам ночные посещения туалета.
Прислушиваясь к шумам и шорохам, на полусогнутых ногах я припустил к условленному месту за кинотеатром. Обратная сторона как раз граничила с забором. Я увидел Якушевых и ещё двоих незнакомых ребят из старшей группы. Семён шикнул:
– Чё опаздываешь-то? – замахнулся, обозначив подзатыльник.
Я чуть вжал голову в плечи и примирительно пояснил:
– Ждал, когда наши заснут.
Он критически оглядел меня:
– Зря ты, малой, в шортах припёрся. Там наверняка всё в крапиве. Ноги пожжёшь. А на кладбище крапивушка злая, зубастая.
– На мертвяках выросла, – добавил Вадим.
Я заметил, что Якушевы в отличие от меня практично облачились в одинаковые спортивные костюмы. Но только я вознамерился бежать обратно, чтобы переодеться, два спутника Якушевых зашипели, что времени нет, я или иду с ними сейчас, или просто возвращаюсь в лагерь.
Пытаюсь вспомнить, как выглядели те сварливые двое, и не могу. Перед глазами пара безликих овалов. У одного был фонарик. Он то включал, то выключал его, закрыв ладонью, и кожа руки набухала воспалённым малиновым светом…
Я заверил Семёна, что плевать хотел на крапиву. Мы по очереди перелезли через забор, потом ещё пробежали метров сто, чтобы случайно не попасться на глаза сторожу, бессонным вожатым или случайному туалетному ябеде.
Когда лагерь остался позади, мы пошли обычным шагом. “Овал” с фонариком вытащил пачку сигарет. Старшие с важностью, будто отрекались от детства, закурили. Мне же “овал” заявил:
– А тебе не предлагаю… – хотя я и не думал стрелять сигарету.
Ночь была светлой, рассыпчато-звёздной. Под жестяными конусами фонарей кружились маленькие смерчи комарья. Мне в лоб врезался подслеповатый мотылёк. Я поймал его – он был тяжёлый, как гайка, весь обвалянный в белой пепельной пудре.
Мы, не крадучись, шли. Дворовые псы, слыша наши шаги и голоса, не лаяли, а лишь негромко дребезжали своими цепями, укладываясь на другой бок.
Посёлок закончился. Ветер принёс железную россыпь далёкого поезда. По шумному гравию проехала полуночная грузовая машина. Мощные фары высветили серебрянку крестов на противоположной стороне.
За шоссе оказалась незаметная ранее канава, полная топкой и гнилой влаги. Чертыхаясь, с промокшей обувью, мы ступили на кладбищенскую землю. “Овал”, владелец фонарика, подсветив снизу лицо, изобразил покойницкий стон, но тут же схлопотал крепкого пинка от Вадима и немедленно заткнулся, даже не подумав выругаться.
– Ограды нет, – удивился Семён. – Ничего себе…
– Это только в городе заборы… – еле слышно отозвался “овал” с фонариком. Второй “овал” одними губами пошутил, что и без ограды мертвецы никуда не разбегутся.
Странно, но все без подсказок и договорённостей перешли с голоса на шёпот.
Я вдруг понял, что старшие нервничают, и мне тоже сделалось неуютно. До того я был совершенно спокоен, потому что чувствовал себя защищённым их невозмутимым взрослым присутствием.
Кладбище не имело чётких границ. Тумана не было, но пространство будто бы лишилось прозрачности и перспективы. Тут царила неподвижная мутная темень, словно над кладбищем нависало другое, незвёздное небо.
Нервный и бледный луч фонарика, шарящий по могилам, почему-то вызывал тревогу.
– Выключи! – приказал Семён.
– Почему? – спросил “овал”, но немедленно погасил фонарик.
– Разбудить кого-то боишься? – пошутил второй “овал” и вдруг осёкся.
Зашелестел ветер, но звуки он породил совсем не лиственные. Словно бы мы стояли на сцене и невидимый зал призрачных зрителей рукоплескал нам. Я ощутил, как по спине пополз вкрадчивый, потный холодок.
Мы замерли. Я слышал лишь, как настырно звенят возле моего уха комары, похожие на далёкие радиосигналы. Точно кто-то пытался пробиться через шумы и помехи, выйти на связь.
Мы прошли не больше полусотни метров, но, когда я оглянулся, шоссе уже потерялось. Где-то, далёкий, гремел поезд, но звук рассеивался, и было непонятно, в какой стороне шоссе. Нас окружал тесный лабиринт могил.
– Вы как хотите, а я обратно, – выдохнул братьям “овал” с фонариком.
– Иди, – пожал плечами Семён.
“Овал” поёжился и сделал вид, что ничего не говорил.
Неожиданно мы налетели на пустую могилу – или разрытую старую, или же новую, только ждущую своего постояльца. Как в булочной пахнет только хлебом, оттуда пахло одной землёй. Это был скупой, голый запах без примесей травы, кустов и прочей радостной зелени, населяющей поверхность. Пахло внутренностями земли, её тяжестью и сыростью.
– Сём, а тебе обязательно ленту? – я отважился на слова. – Может, банку возьмешь с цветами?
– Не, не поверят, – с сожалением произнёс Семён. – Банки и цветы можно где угодно найти. Нужна конкретно свежая могила с венками…
– С краю должны быть, – подсказал Вадим.
– А край где? – Семён огляделся. – Возле дороги? Или с другой стороны?
– Сёмыч, – взмолился второй “овал”, – давай свалим отсюда. Хочешь, я тебе свою ракетку отдам… До конца смены!
– Вот ты бздо!.. – весело удивился Семён.
Из туч неожиданная выглянула луна, но прибавила не света, а жути. Могилы обступали со всех сторон – их клыкастые кривые оградки скалились в каком-то полушаге от нас.
– Где-то же должна быть аллея, по которой люди ходят… – бормотал Вадим. Глянул в моё напряжённое лицо и вдруг дружески потрепал за волосы: – Чё, малой? Тоже ссышь? Держи, – и протянул коробок спичек, будто находящийся в нём запас огня был средством от страха.
Мы медленно двинулись обратно, потом свернули по колючей крапивной тропке куда-то в сторону.
Я не один раз пожалел, что надел шорты. Ноги горели, словно я пробирался через заросли колючей проволоки.
Через минуту мы вышли на утоптанную дорожку с редкими кочками старого асфальта. Тут “овалы” заартачились, мол, дальше не пойдут. И, честно говоря, я их прекрасно понимал. Семён и Вадим отправились на поиски венка, я остался с “овалами”. На дорожке по-любому было спокойнее.
Снова зажёгся фонарик, “овал” положил его на землю, и точно разлилось зыбкое лунное пятно, дымчатое от тумана, ставшего заметным лишь при дополнительном освещении. Стелившийся блёклым маревом туман не был цельным и плотным, а походил, скорее, на облачность, которая вдруг осмысленно потянулась к человеческому теплу и электрическому свету. Я оглянулся на “овалов”. Они курили, и казалось, это кладбищенские облачка поднялись и окутали собой их помертвевшие лица.
Моё внимание привлёк невысокий обелиск. Среди чугунных и деревянных крестов, железных тумб со звёздами и могильных плит нынешнего времени он смотрелся земским, из прошлого века, интеллигентом, каким-нибудь учителем или агрономом.
Заросшая буйными сорняками, могила напоминала доброе, бородатое лицо. Оградки не было, я подошёл вплотную к обелиску, стараясь не наступать на условный контур могилы: насыпь давно сровняло время.
Спичка не зажигалась, шаркала по коробку, и звук был громким, будто кто-то старательно вытирал подошвы о коврик. Крошечный сполох осветил табличку и погас, словно невидимое неслышно дохнуло на спичку. Я успел прочесть только фамилию – Мартынов.
Могила была заброшенная, запущенная, но мне подумалось, что в местной покойницкой иерархии, существуй такая, мёртвый Мартынов наверняка бы пользовался особым уважением. Ведь даже кладбищенский туман почтительно замер в нескольких метрах от обелиска.
Лишь с третьей спички я смог прочесть, что Мартынова звали Иваном Романовичем. Ниже находились довоенные ещё даты его начала и конца. Привычного фотоовала на обелиске не было.
И пока горела спичка, я переживал странное, очень тревожное ощущение, точно я был яблочным воришкой, который прокрался в ночной сад и с размаху налетел на старика-сторожа – такого, который сначала взгреет крапивой, а потом уже насыплет полную кепку крыжовника…
Спичка лизнула жгучей болью кончики пальцев и погасла. В этот же миг я испытал резкий толчок в грудь, словно кто-то отпихнул меня, чтобы я не загораживал дорогу. При этом я понимал, что толчок идёт изнутри, а не снаружи – это вздёрнулось от страха и неожиданности сердце. Но раньше толчка, а может, одновременно с ним, раздался долгий, как комета, вопль – вначале пролетел его звуковой ком, а потом и панический хвост.
Я выронил коробок. Через пару секунд показались Семён и Вадим, они неслись по дорожке к нам, их сплетённые голоса переливались весельем и ужасом:
– Бежи-и-и-им!!! Бежи-и-и-и-и-им!!!
“Овалы” дуэтом подхватили панику – добавили истеричного визгу и тоже помчались по дорожке за Семёном и Вадимом, а я, молчаливый, следом…
Неожиданно и быстро мы вылетели за границы кладбища, оказавшись недалеко от шоссе. Бегство завершилось одышливым хохотом. Семён говорил, что они с Вадимом нашли-таки свежую могилу. Семён, конечно, не предусмотрел, что ему понадобится складной ножик. Подошёл вплотную к завалу из венков – и взялся отрывать кусок ленты, венки поползли вниз, а придурок Вадим пошутил, цепко схватил Семёна за щиколотку.
Вадим, хохоча, клялся, что не хватал и Семён нарочно это выдумал, чтобы оправдать свой вопль и испуг.
Мне оставалось лишь порадоваться, что Семёну не удалось его кощунство. Интуитивно я понимал – похоронные аксессуары красть с могил не следует. Оглядываясь на кладбище, я потирал болезненный ушиб в области сердца.
В историях о киношном гуру кунг-фу Брюсе Ли часто всплывала тема, что шаолиньский монах-киллер прикончил актёра тайным ударом, который убивает не сразу, а запускает в организме механизм смерти, растянутый на долгие месяцы.
Я не провожу никаких параллелей, мол, умерший полвека назад Иван Романович Мартынов стал для меня таким роковым монахом. “Смертельный удар” мы получаем сразу с нашим рождением, и вопрос лишь в том, кто или что нам на этот факт укажет. Байку эту я привожу исключительно как метафору взросления – осознание “личной смерти”. Ведь именно с той кладбищенской ночи я впервые задумался, что однажды умру. Детство кончилось.
*****До двенадцати лет никто не называл меня Кротом, хотя кличка вроде бы валялась на поверхности – бери и дразни. А если учесть ещё очки, так вообще непонятно, почему в моей рыбнинской школе и в пионерском лагере меня называли хоть и на разные лады, но исключительно по имени – Вовкой, Вовчиком, Вованом. “Кротом” я стал в московской школе уже после развода родителей.
Я рад, что мы успели подружиться с отцом до того, как наша семья окончательно развалилась. После летнего лагеря он будто заново увидел меня. Стал общаться, помогал с уроками, дарил книги, купил роликовые коньки, которые я, неуклюжий, увы, не освоил.
Отец к тому времени уволился из школы и второй год промышлял репетиторством – преподавал математику, физику и английский, который ещё с институтской поры очень недурно знал. Зарабатывал хорошо. В доме у нас появились новые холодильник, телевизор и видеомагнитофон…
Гроза разразилась посреди шестого класса. Мать, так уж получилось, долгое время оставалась студенткой-недоучкой, но потом, ради карьерного роста на работе, снова поступила в вуз – на заочное отделение московского инженерно-экономического института. Там же она познакомилась (или, как сказала бабушка Вера, “спуталась”) с местным преподом.
Всё произошло как в скверной мелодраме. Мать вернулась после зимней сессии и призналась отцу, что “полюбила другого”.
Помню безобразные сцены с битьём посуды, после которых на полу валялись фарфоровые осколки, похожие на ископаемые акульи клыки. Отец точно волк выволок из шкафа и “задрал” мамину каракулевую шубу, которую сам же ей подарил месяц назад.
В итоге моя жизнь изменилась нелепо и быстро. Как ни грозился отец, что не отдаст меня матери, шестой класс я заканчивал в Москве.
Материного избранника звали Олег Фёдорович Тупицын. Не буду говорить, сколько литров желчного сарказма излил отец по поводу его фамилии, хотя Олег Фёдорович, конечно же, тупицей не был, а даже, наоборот, кандидатом наук. По мнению отца, мать специально, для пущего оскорбления, предпочла действующего столичного Тупицына отставному научному работнику, “скатившемуся” до репетиторства.
За время совместной жизни отец, по-видимому, изрядно достал мать, и она вцепилась в мужчину, полностью отличного от мужа. Большой, белый, рыхлый отец казался вылепленным из брынзы. Олег Фёдорович был невысоким, смуглым, поджарым, как богомол. Отец был типичным “физиком”, а “лирик” Олег Фёдорович преподавал право. Отец не умел водить машину, а у Олега Фёдоровича имелась иномарка “опель”. В отличие от вечно хмурого отца, Олег Фёдорович постоянно шутил, напевал. За те полтора года, что мы прожили вместе, он ни разу не повысил на меня голос, хотя поводов было достаточно. К себе он просил обращаться не по имени-отчеству, а просто “Олег”.
Нужно признать, человек он был неплохой. Обожал туризм и особенно подводное плавание. В первое же лето вывез нас с матерью в Крым на какую-то биостанцию. Мать, как заклинание, бубнила мне в ухо:
– Олег – классный мужик, – игриво толкала локтём, – тебе будет с ним ужасно интересно, вот увидишь!..
Но интересно мне с Олегом Фёдоровичем так и не стало. Он поначалу всё подсовывал мне маску и ласты, пытаясь приобщить к своему водоплавающему хобби. Но поскольку я не проявил интереса, Олег Фёдорович деликатно устранился.
Отцу я звонил редко, почувствовав однажды, что он обижен на меня. Быть может, отец ждал, что я повторю подвиг с лагерем и сбегу от предательницы в Рыбнинск. Но я почему-то этого не сделал.
Развод родителей дурно сказался на мне. Я впал в какое-то ленивое, полусонное состояние. Возвращался из школы домой и закрывался в своей комнате. Иногда читал, но больше смотрел по кабельным каналам фильмы – всё подряд.
Мать пыталась примирить меня со столицей:
– Не чужой тебе город, Вовка. Когда ты был совсем маленький, мы жили тут почти полгода. Ты и в садик здесь ходил, помнишь?.. – но Москва всё равно казалась чужой и враждебной.
На первой же перемене меня нарекли “Кротом”. Масла в огонь подлила классная руководительница, подивившись месту моего рождения:
– Кротышев! А город Суслов – это где?
Класс угорал: Кротышев из Суслова! Это при том, что название Суслов, конечно же, происходило не от грызуна, а от недобродившего пива – “сусла”. Да, собственно, и фамилия Кротышев, по моему мнению, не имела ничего общего с кротами.
На второй неделе одноклассники дошли до рукоприкладства. Без видимых причин. От настоящих побоев уберегли мои же очки – они почти сразу слетели на пол и хрустко раздавились под чьим-то ботинком.
Раньше я не знал такого обращения. Кое-как дотянув до лета, я наотрез отказывался осенью возвращаться в негостеприимную школу. Олег Фёдорович уговаривал потерпеть, мол за каникулы все подросли, дразнить больше не будут, что ко мне уже привыкли.
История с “кротом” и прочими мелкими издевательствами повторилась и в новом учебном году. Разве что к зиме азарт травли пошёл на убыль. Мать поговорила с классной руководительницей, та согласилась, что действительно меня “приняли в штыки”, но тому есть объяснение: большинство ребят вместе с первого класса – устоявшийся, очень амбициозный коллектив, а тут мало того что чужак, так ещё и двоечник…
Это было правдой. Успевал я из рук вон плохо – сразу по всем предметам.
*****Память старательно замалевала белым весь московский класс. Лиц не осталось: просто три десятка скорлуп. Коллективная фотография, похожая на яичный лоток. Если поднапрячься, то всплывут разве что первые фамилии переклички: Анисимов, Арутюнова, Богатикова, Волошин, Гоготов…
…Но была мёртвая сентябрьская ласточка, тленный индикатор и указатель, что жизнь чётко ведёт меня по направлению к кладбищу.
Глумливцы Волошин и Гоготов подсунули птицу в мой портфель. Крикнули в самом начале урока:
– Элеонора Васильевна, а попросите Кротышева показать, что у него в портфеле!..
Миниатюрная географичка Элеонора Васильевна оказалась любопытной. На клювастых туфельках подсеменила ко мне. Я поставил на парту портфель. Уже открывая, почувствовал мусорный, гнилой запах. Ласточка лежала полузавёрнутая в тетрадный клетчатый разворот поверх учебников.
Элеонора Васильевна на радость классу взвизгнула:
– Фу! Кротышев! Что за гадость ты таскаешь! Выйди! Выбрось немедленно!..
И пока я плёлся к двери с трупом на бумажном лафете, вслед мне неслось:
– Крот убил ласточку!..
– Бедная Дюймовочка!..
– Птичку жалко!..
Веселилась даже Элеонора Васильевна. У шутников, оказывается, был не просто птичий мертвец, но ещё и драматургия с художественным прицелом на Андерсена.
Я вышел в коридор и направился к туалету. Раньше мне повстречалась учительница английского. Увидев, что я несу, крикнула вдогонку:
– Это инфекция! Поди во двор и выбрось в мусорку!
Баки для мусора куда-то подевались. Был вариант избавиться от ласточки, просто бросив её под дерево на садовом участке, но туда можно было попасть только через спортивную площадку, где проводили урок физкультуры, а я не хотел, чтобы меня увидели с мёртвой птицей.
Я и сам не заметил, как оказался за пределами школы. Очки застилала испарина слёз. Мне было очень обидно. Для себя я принял решение больше не возвращаться – ни на урок, ни в школу вообще. Я также пообещал себе не притрагиваться к осквернённому портфелю.
Со стороны для прохожих я выглядел, наверное, просто излишне жалостливым подростком. Я слышал, какой-то любопытный малыш вопрошал:
– Бабуля, птичка умерла? – а бабушка отвечала ему: – Нет, просто заболела…
Я по возможности сворачивал на те улицы, где было меньше народу. Пару раз пытался избавиться от ласточки, но попадался кому-то на глаза и тушевался.
Я свернул в очередной закоулок и очутился перед невысоким забором. За ним начиналась игровая площадка – пустая и неухоженная. Вповалку трухлявел деревянный “мухомор”, с корнем были выкорчеваны ржавые качели. Двери и окна двухэтажного здания заколотили досками и листами фанеры. Очевидно, раньше тут был детский сад.









