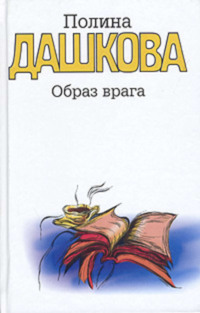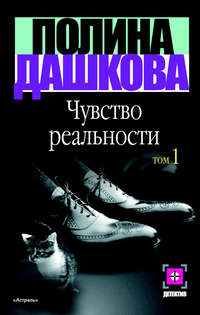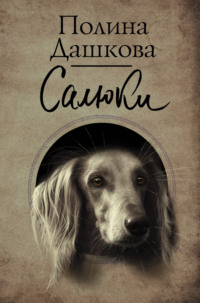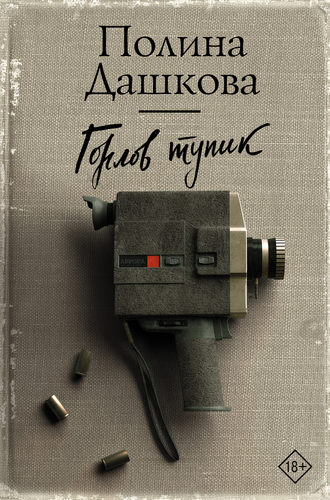
Полная версия
Горлов тупик
Оксана Васильевна считала, что Вика не ценит ее героических усилий, заикается, толстеет и сутулится нарочно, ей назло. Вика тяжело переживала упреки, заикалась еще больше, не могла произнести ни слова, лишь отдельные слоги, так что, когда она говорила отцу: «А я с ней не ссорилась», была по-своему права.
В девятом классе, после очередного скандала, Вика ушла к бабушке Нате, матери Вячеслава Олеговича, в коммуналку в Горловом тупике, и домой больше не вернулась.
Бабушка Ната в свои семьдесят пять осталась вполне бодрой и самостоятельной, правда, окончательно оглохла. Проблемы со слухом у нее начались сразу после войны, из-за перенесенного менингита. Довольно долго спасал слуховой аппарат, но теперь она совсем ничего не слышала, и то, что мать одна, а рядом чужие люди, соседи, все больше беспокоило Вячеслава Олеговича. Он уже давно ломал голову над этой проблемой. Характер у старухи был непростой, не получалось даже на дачу ее привезти, они с Оксаной Васильевной больше суток под одной крышей находиться не могли, а вот Вика с бабушкой Натой ладила. Когда они стали жить вместе, Галанов испытал большое облегчение. Во-первых, мать не одна. Во-вторых, девочке полезно почувствовать ответственность за того, кто слабее. Всю жизнь ее баловали, заботились о ней, теперь пусть она позаботится о старенькой бабушке. В-третьих, дома стало тихо. Оксана Васильевна не сомневалась: дочь выдержит не больше месяца, сама ведь ничего не умеет, привыкла, что все за нее делают Клавдия и мама. Вернется как миленькая. Надо просто подождать.
И она ждала. Первая бежала к телефону, замирала, услышав гул лифта, шаги на лестничной площадке. Вячеслав Олегович замечал на лице жены такое же тревожно-обиженное выражение, какое бывало у маленькой Вики, когда она ждала возвращения няни Дуси.
Вика вначале звонила только отцу на работу, потом иногда домой и говорила с матерью по телефону, наконец стала забегать, но о возвращении речи не было.
Жизнь с бабушкой волшебно преобразила Вику. Она больше не заикалась, похудела, выпрямила спину, избавилась от прыщей. Если бы Вячеслав Олегович верил в магию, он бы решил, что с Вики сняли заклятие, лягушка превратилась в царевну, гадкий утенок – в лебедя. На самом деле, конечно, никаких заклятий и чудес, просто кончился переходный возраст.
Галанову удалось заполучить для них вторую комнату, выселив одинокого соседа, алкоголика-хулигана, за сто первый километр. Старый дом стоял в плане на снос, очень скоро бабушка с внучкой переедут в хорошую двухкомнатную квартиру, причем не на окраине, а почти в центре, об этом Вячеслав Олегович позаботился заранее, связи и возможности у них с Оксаной Васильевной имелись.
После десятого класса Вика поступила в Иняз. Пришлось, конечно, похлопотать, но если бы она по-прежнему заикалась, не сумела бы сдать устные экзамены, не помогли бы никакие хлопоты и ценные подарки.
На первом курсе она похудела еще килограмм на пять, отрастила и высветлила волосы. Такая прическа удивительно шла ей. Теперь это была совсем другая девочка: очаровательная, легкая, яркая, уверенная в себе. Вячеслав Олегович не мог нарадоваться, налюбоваться дочерью, Оксана Васильевна восприняла чудесные перемены как результат своей многолетней борьбы, очевидное доказательство собственной правоты и при всякой возможности продолжала благое дело – воспитание дочери. «Зачем ты куришь? Этот цвет тебе совсем не идет. Ты слишком уж стала худая, питаться надо правильно, регулярно». Вика снисходительно позволяла себя воспитывать, но иногда вспыхивала.
Месяц назад Оксана Васильевна выдала очередную порцию замечаний насчет ее внешнего вида. Нельзя так густо красить ресницы. Вульгарно! Волосы надо подкалывать, они падают на лицо и могут занести инфекцию в глаза. Негигиенично! Под пуловер следует надевать блузку, а под блузку – бюстгальтер. Носить тонкий пуловер на голое тело – неприлично!
Вика добродушно отмахивалась, отшучивалась, но Оксана Васильевна разошлась, и в итоге дочь крикнула: «Все! Надоело! Ноги моей больше здесь не будет!»
Вячеслав Олегович догнал ее, проводил до станции, уговаривал не сердиться на мать, потом, вернувшись, уговаривал Оксану Васильевну быть терпимей и тактичней. Не помогло. Или помогло? Вика все-таки приехала.
Сейчас, при гостях, обе делали вид, будто все в порядке, изредка обменивались короткими спокойными репликами, но друг на друга не смотрели.
Глава восьмая
Большая чистка открывала большие возможности для мгновенных взлетов и падений. Все суетились, расталкивали друг друга, карабкались вверх по головам товарищей, боялись упустить свой шанс, а бояться следовало совсем другого. Шансов может быть много. Падение всегда одно и всегда окончательное. Чем выше взлетел, тем больней грохнешься.
Федьке Уральцу довелось поработать в 7-м управлении, в отделении арестов и обысков. Он любил рассказывать, как проводили обыск и описывали имущество в квартире Абакумова.
Бывший министр занимал целый этаж в доме № 11 по Колпачному переулку. Федька в жизни не видел таких хором, хотя сам вырос отнюдь не в коммуналке. Чего там только не было: мебельные гарнитуры, сервизы, столовое серебро, гигантские отрезы тканей, чемоданы мужских подтяжек.
Уралец выразительно таращил глаза: «Представляешь, чулки женские шелковые, шестьдесят четыре пары, тринадцать радиоприемников и радиол, часов золотых тридцать семь штук, пятьдесят фотоаппаратов, ваз хрустальных и фарфоровых семьдесят восемь штук, ювелирки всякой три сундука. Открыли – чуть не ослепли от сверкания».
Федька не умел да и не пытался скрыть свои эмоции. На его лице читалось сразу все: изумление, уважение и зависть к богатству, мстительная радость, что богатство отняли.
Молодой капитан слушал, усмехался про себя: «Чемодан подтяжек, тряпки-побрякушки… Вот тебе и Глыба Абакумов. Рюмин такая же дрянь, только росточком не вышел и абакумовских аппетитов нагулять не успел».
Стремительный взлет Рюмина напоминал лесной пожар, вспыхнувший от окурка. Пламя до небес, треску много, искры летят, а в итоге – ничего, кроме обугленных головешек, серого пепла и вонючей гари. Рюминская схема заговора выглядела так: врачи-евреи спелись с заокеанскими толстосумами насчет реставрации капитализма в СССР и своим вредительским лечением умертвляли видных деятелей партии и правительства. Их покрывали чекисты-евреи с целью захватить власть, убить товарища Сталина и установить диктатуру Абакумова.
Сразу полезли нестыковки. Больше половины врачей-вредителей оказались русскими. Среди чекистов евреев было больше, но Абакумов русский, и с этим ничего не поделаешь. Молодой капитан придумал пару удачных формулировок: «евреи прямые и косвенные» и «евреи по крови и по духу». На одном из совещаний подкинул их Рюмину, тот ухватился, стал использовать как свои.
К началу 1952-го чекистов-евреев в органах не осталось. Врачей, «прямых и косвенных», брали одного за другим. Руководство Рюмина сводилось к беготне по кабинетам и матерным истерикам. В Управлении шло соревнование: кто выбьет больше признательных показаний. Количество арестованных и признавшихся росло. Распухали, тяжелели папки с протоколами. Врачи признавались, что неправильно лечили, бывшие чекисты – что покрывали вредительство врачей. Но где центр заговора? Кто его возглавляет? Каналы финансирования и связи с американскими хозяевами, конкретные задания от них, способы вербовки? Главные вопросы оставались без ответа.
Молодой капитан устал от тупости коллег. Неужели трудно усвоить, что дело не в количестве, а в качестве, не во вредительстве, а в шпионаже? Надо выводить этих тварей на шпионаж, на конкретику.
У него в голове возникло сразу несколько гениальных идей, как сдвинуть следствие с мертвой точки, но сначала он хотел разобраться со своими личными делами. Мысли о Шуре мешали сосредоточиться.
Он стал чаще навещать мать, иногда сталкивался с Шурой в коридоре. Она вежливо здоровалась и убегала. Он думал о ней днем и ночью, его знобило и бросало в жар, из-за нее он был постоянно будто под хмельком, хотя в отличие от своих сослуживцев не злоупотреблял спиртным. Подкатывать к ней на глазах у всей коммуналки не хотелось, он решил подстеречь ее возле издательства. На оперативном языке это называлось «секретное снятие».
Ждать пришлось долго. Выходили сотрудники, гасли окна. Она появилась в начале одиннадцатого. Заскрипела дверь, он увидел полоску света, услышал Шурин голос:
– Спокойной ночи, дядя Коля!
В ответ стариковское ворчание:
– Нет от вас никакого спокою! Все, что ли, ушли?
– Все, я последняя.
– Да ты кажный вечер последняя. Нехорошо девке в такую поздноту одной шастать.
– Работаю на полторы ставки, вот и получается поздно, а тут еще халтурка подвернулась.
– Ты, давай-ка, хватит болтать! Бежи, девонька, бежи быстрей домой!
Дверь хлопнула, стало темно. Он бесшумно пошел за ней. На перекрестке догнал, схватил за локоть. Она вскрикнула, попыталась вырваться, забормотала: «Отпустите! Что вам нужно?» Она, конечно, не узнала его в шляпе до бровей, в сером плаще. Он сильней стиснул ее локоть, прошипел: «Молчи!» – и потащил по переулкам и подворотням.
Мимо мелькали черные, косые от старости домишки, серые коробки двухэтажных бараков. Редкие прохожие смотрели под ноги, чтобы не оступиться на разбитом тротуаре, не шлепнуться в грязь. Она больше не вырывалась, молча, покорно семенила рядом. Несколько раз споткнулась и стала инстинктивно опираться на его руку. Ее беспомощность сильно возбуждала, хотелось расстегнуть на ней жакетку, задрать подол, вжать в стену в ближайшей подворотне. Но он лишь сглотнул и облизнулся. Зачем спешить? Все равно никуда не денется. Вывел ее на площадь, под фонарем остановился, снял шляпу.
– Владилен Захарович, вы… – произнесла она чуть слышно.
К нему редко обращались по имени-отчеству, в основном товарищ Любый, товарищ капитан, реже Влад. Имя-отчество ему не нравилось. Идеологически чистое, сугубо советское «Владилен» звучало как-то подозрительно буржуазно, с французским оттенком, и плохо сочеталось с простецким «Захарович». Он родился 21 января 1925-го, ровно через год после смерти Ленина, день в день. Мать верила, что знаменательная дата, помноженная на священное сочетание букв, принесет сыну счастье.
– Просто Влад. – Он обнял Шуру за талию. – Ну, здорово я тебя разыграл?
– Да, смешно, – она шмыгнула носом, – напугали до смерти.
Они пошли к метро, уже спокойно, под руку.
– Вот, – сказал он, – решил взять над тобой шефство.
– Зачем?
– Нехорошо девке в такую поздноту одной шастать, – прошамкал он, передразнивая старика сторожа.
– Спасибо, конечно, только я вас совсем не знаю…
– Зато я тебя знаю как облупленную.
* * *– Надежда, ты чего там бормочешь?
Павлик Романов подошел неслышно. Она вздрогнула, чуть не выронила пипетку Пастера, сердито огрызнулась:
– Отстань!
– Пошли покурим. – Он вытащил из кармана халата и подкинул на ладони пачку длинного «Кента».
– Какие мы богатые, – Надя присвистнула, – «Березку» ограбил?
– Ага, – Павлик самодовольно оскалился, – и всю охрану перебил.
Когда они выходили из лаборатории, зазвонил телефон. Он висел на стене у двери.
– Эй, трубочку возьмите! – крикнул из дальнего угла Олег Васильевич.
Надя и Павлик замерли, растерянно глядя друг на друга.
– Ну! – сказала Надя.
Павлик сделал страшные глаза и помотал головой. Телефон надрывался. Все повернулись в их сторону.
– В чем дело? – сердито спросила Любовь Ивановна. – Вы же рядом стоите, без перчаток, без масок, трудно, что ли, на звонок ответить?
Надя еще раз взглянула на Павлика. Он молитвенно сложил руки. Она вздохнула и взяла трубку.
– Седьмая лаборатория.
В ответ зашуршала тишина.
– Алло, говорите. – Надя сморщилась, заметив, что трубка в ее руке слегка задрожала.
Она уже хотела дать отбой, но услышала высокий женский голос:
– Добрый день. Любовь Ивановна?
– Нет. Надежда Семеновна.
– А, Надя, здравствуйте, это Галя Романова, я вообще-то ваш голос узнала, просто не ожидала услышать. Думала, вы в командировке.
Павлик стоял совсем близко, выразительно гримасничал, мотал головой и прижимал палец к губам.
– Нет, я в Москве, – глухо произнесла Надя и кашлянула.
– А Павлик сказал, вы тоже летите. Ой, знаете, я вот хотела поговорить с Олегом Васильевичем, почему Павлика так часто отправляют в командировки? Я переживаю, прямо ночами не сплю, и сын почти не видит его. Олег Васильевич на месте? Вы не могли бы ему трубочку передать?
– Его нет, извините. – Надя покосилась на Павлика.
– А когда удобно будет позвонить?
– Я не знаю. Еще раз извините, Галя, сочувствую, но, к сожалению, ничем не могу помочь. Всего доброго.
Она едва успела повесить трубку, Павлик поволок ее за руку в коридор.
– Пусти, – прошипела она и попыталась вырваться, – не пойду с тобой курить, подавись своим «Кентом»!
– Надежда, перестань, что за детский сад?
– С какой стати я должна врать, покрывать твое блядство?
– Фу, как грубо! Раньше покрывала.
– А теперь не буду!
– Почему?
– По кочану!
– А почему трубку сразу не взяла, можешь объяснить? Я – понятно. А ты?
Надя хотела рявкнуть в ответ что-нибудь злое и обидное, но вдруг поняла, что Павлик – единственный человек в институте, которому она может рассказать о звонках с молчанием, и прикусила язык.
Летом курить ходили на крышу через чердак. Зимой курилкой служила маленькая подсобка, холодная, вонючая, всегда забитая народом и окурками. Но у Павлика имелась тайная привилегия. Он очаровал парторга, цветущую моложавую даму, привозил ей приятные мелочи из каждой командировки и получил ключ от Ленинской комнаты.
Из всех помещений института Ленинская комната была самой уютной, тихой и необитаемой. Туда заглядывали только уборщица да парторг – полить свои цветочки, покормить рыбок в аквариуме, поболтать по телефону, полистать журналы «Здоровье», «Работница», «Ригас мода», которые хранились в тумбе под большим гипсовым бюстом Ильича.
Павлик открыл дверь, пропустил Надю вперед, тут же запер изнутри, отдал пионерский салют бюсту, преклонил колено и приложил ладонь к сердцу возле переходящего Красного знамени, только потом распечатал пачку.
– Ты, когда один сюда заходишь, тоже цирк устраиваешь? – спросила Надя.
– Обязательно. Это же святилище, нельзя без приветственного ритуала, иначе ду́хи прогневаются. – Павлик плюхнулся в потертое кожаное кресло и выпустил дым. – Ну, рассказывай.
– Что?
– Кто тебе звонит и молчит?
– Понятия не имею. – Надя пожала плечами. – Почти каждый вечер, между девятью и двенадцатью. Если я беру, молчат сразу. Если папа – просят меня, потом молчат.
– Голос какой?
– Разные голоса, в том-то и дело. И просят по-разному, то Надю, то Надежду Семеновну. Не угадаешь.
Павлик нахмурился, стряхнул пепел в банку с водой.
– К соседям пробовали?
– То есть?
– Трубку не кладешь, идешь к соседям и с их телефона звонишь на станцию, просишь определить номер.
– Неудобно, соседи рано ложатся, да и что толку? Ну, назовут номер. Я все равно не буду набирать, выяснять.
Павлик критически оглядел Надю и многозначительно изрек:
– А если это любовь?
– Тогда бы серенады пели. Боюсь, наоборот, ненависть. Ладно, хватит. Лучше скажи, куда ты улетел на этот раз?
– М-м, далеко, Надежда, под самые небеса. Рыжая, глазищи зеленые, ноги от ушей, тридцать лет, не замужем. – Он зажмурился и промурлыкал басом: – Такой чудесный, нежный Рыжик.
– Я тебя про командировку спрашиваю.
– А-а, ты об этом? – разочарованно протянул Павлик. – Вроде в Таджикистан. Погоди, нет, или в Узбекистан? Кошмар! Забыл!
– Ты записывай.
– В следующий раз обязательно. Сейчас уже без разницы. В понедельник-вторник все равно летим в Нуберро.
– Тебе же надо собраться, ты что, даже не заедешь домой?
– Зачем? У меня все, что нужно, тут, в раздевалке, в шкафчике, рюкзак всегда наготове.
Павликову жену Галю, простоватую, рано постаревшую хлопотунью, Надя видела раз в году, на днях рождения Павлика. Двухкомнатная квартира в панельке на Красносельской сверкала чистотой. Чешский хрусталь в серванте, подписные собрания сочинений на книжных полках. Для гостей набор одинаковых гигантских войлочных тапок, как в музее. На столе белоснежная крахмальная скатерть, сельдь «под шубой», утка с яблоками, домашние соленья-варенья, наливки, сложные пироги из дрожжевого теста. Галя не снимала фартука, не закрывала рта, рассказывала, что где достала, что как готовила. Сын Миша, толстенький, хмурый, обычно сидел под столом. Галя уговаривала его вылезти, прочитать стихотворение, жаловалась, что он плохо кушает и часто простужается.
Дома Павлик выглядел примерным семьянином, восхищался кулинарными подвигами жены, помогал ей менять посуду, ровно в десять уводил Мишу спать и потом сидел с ним, читал вслух детскую книжку.
«Вот скоро опять пригласит на день рождения, ни за что не пойду», – подумала Надя, слушая, как Павлик расписывает достоинства своей рыжей пассии.
– Главное – умная. Товаровед! – Он поднял палец и сделал важное лицо. – Не в каком-нибудь банальном гастрономе, а в книжном на улице Горького. Пастернака наизусть шпарит, знает разницу не только между Гоголем и Гегелем, но и между Кингисеппом и Каннегисером.
– А кто такие Кингисепп и Каннегисер? – рассеянно спросила Надя.
Павлик вытаращил глаза.
– Надежда, ты что? Правда не знаешь или придуриваешься?
– Правда не знаю.
– Не ожидал от тебя, – он высокомерно усмехнулся. – Кингиссеп – эстонский революционер. Каннегисер – юный поэт, застрелил чекиста Урицкого в восемнадцатом году.
– Слушай, может, ты просветишь свою Галю? Она поумнеет, и рыжие товароведы тебе больше не понадобятся.
– Издеваешься? Я же тебе много раз объяснял, Галя даже постельное белье в прачечную не сдает, сама кипятит, крахмалит и гладит. Ей не до революционеров и поэтов.
– О разводе никогда не думал? Все-таки честнее.
– Как ты вообще такое можешь говорить? – Павлик возмущенно запыхтел. – Семья для меня святое!
– Если святое, тогда зачем бегаешь по всей Москве со спущенными штанами? Врать приходится не только жене, но и этим твоим товароведам. Не надоело?
– А я никому не вру. Я жену люблю, и Рыжика люблю.
– До Рыжика была блондинка, а еще раньше брюнетка.
– Потому, что всякая любовь от Бога. Вот погоди-ка.
Павлик вылез из кресла, подошел к книжному шкафу, привстал на цыпочки и принялся разглядывать корешки книг, бормоча:
– Ну где же? Где?
– Библию ищешь? – спросила Надя. – Слева, на верхней полке, «Краткий словарь атеиста». Подойдет?
– Отстань. А, вот, нашел!
Он извлек том Энгельса вместе с облаком пыли. Дунул, чихнул, открыл на заложенной странице и стал читать вслух:
– «Если строгая моногамия является вершиной всяческой добродетели, то пальма первенства по праву принадлежит ленточной глисте, которая в каждом из своих пятидесяти-двухсот членов тела имеет полный женский и мужской половой аппарат и всю свою жизнь совокупляется сама с собой».
– Класс! – Надя легонько хлопнула в ладоши. – Только при чем здесь Бог – не понимаю.
– При том. – Павлик запихнул Энгельса на место, вытер ладони о халат, вернулся в кресло. – При том, товарищ Надежда, что Господь Бог создал мужчину полигамным. А Энгельс эту мужскую полигамию научно обосновал и доказал.
– Ну, ты и трепло, Романов! – Надя покачала головой. – Вляпаться не боишься? Я ведь случайно взяла трубку. А если бы Любовь Ивановна? Или Оля? Да в конце концов, Москва – город маленький, кто-то из знакомых увидит тебя на улице, когда ты в командировке.
– Такого быть не может. Я везучий.
– Тьфу-тьфу-тьфу. – Надя постучала по столешнице.
На самом деле существовало два абсолютно разных, диаметрально противоположных Павлика: Павлик в Москве и Павлик «в поле», в очагах эпидемий. Везучими были оба. На этом их сходство заканчивалось. Даже выглядели они по-разному.
Павлик Московский – маленький, рыхлый, с брюшком, на котором расстегивались пуговицы рубашки, бессовестный врун, неуемный бабник, бездельник, хохмач и пройдоха. Круглые птичьи глазки, всегда слегка мутные, широкий вздернутый нос, непропорционально большая плешивая голова. Постоянная плотоядная улыбочка уродовала и без того не слишком привлекательную физиономию. Надя не понимала, почему он так нравится женщинам.
Если в буфете выбрасывали что-нибудь дефицитное, Павлик умудрялся проскользнуть без очереди, при этом всех очаровать и ни с кем не поругаться. Он мог целый день слоняться по лаборатории, дразнить Любовь Ивановну хвостиком свежей завиральной сплетни, вгонять в краску Олю своими шуточками, отвлекать от работы трудягу Гнуса разговорами о рыбалке и самиздате, приставать к Наде с глупой болтовней в самый неподходящий момент. В итоге время пролетало, важная мысль убегала, и потом оставалось противное чувство, которое Надя называла «похмелье пустого дня». Но никто не сердился, даже Любовь Ивановна говорила о нем с нежностью: «Вот ведь обаятельный, подлец!»
В поле Павлик преображался до неузнаваемости. Улыбочка испарялась, лицо разглаживалось, черты становились четкими, жесткими, взгляд прояснялся, брюшко подтягивалось. Собранный, толковый, он легко переносил любые трудности, отлично соображал, брал на себя ответственность и принимал верные решения, когда другие терялись и отчаивались. Он находил общий язык с африканскими дикарями, с вождями племен, с партийным руководством Среднеазиатских республик. Может, это и был настоящий Павлик, просто в Москве впадал в спячку? Может, его бесконечные пассии чуяли в нем эту спящую силу и мужскую надежность?
Отправляясь в очередной очаг, на чуму, сибирскую язву, холеру, Надя знала: если Павлик рядом, все вернутся домой живыми и здоровыми. Она до сих пор не могла забыть первую свою чуму. Туркмения, август, днем +45. Они брели по раскаленной степи, тащили на себе ящики с инструментами, канистры с лизолом и хлорной известью. Противочумные комбинезоны, сверху два халата, клеенчатые фартуки до щиколоток. Лица закрыты респираторами – несколько слоев марли и ваты, очки-консервы. На руках по две пары резиновых перчаток. Пот тек ручьями, хлюпал внутри резиновых сапог. Со стороны они напоминали космонавтов, высадившихся на Луне.
В тот раз Надя единственная из команды была новичком. Павлик уже имел кое-какой опыт. Он смягчил ее первый чумной шок, не дал зайти в юрту, где лежали на кошмах вповалку трупы мужчин, женщин и детей с почерневшими лицами. Она осталась стоять метрах в десяти, но даже на таком расстоянии, сквозь респиратор, ударила в нос адская вонь.
Нет, не на Луну они высадились, а спустились на дно ада. Надя думала, что ее Вергилием станет Олег Васильевич. Он выезжал на очаги еще при Сталине, опыт имел богатый и разнообразный. В Москве он храбро, жадно глотал самиздат, обсуждал прочитанное только шепотом, конечно, и со своими. В очагах нервничал, срывался, боялся КГБ и партийного начальства больше, чем чумы и холеры, трясся от ужаса и отвращения, когда местные органы искали иностранных шпионов-диверсантов, устроивших эпидемию, вместо того, чтобы помогать врачам бороться с ней. Точно так же вели себя африканские вожди, только их «шпионами-диверсантами» были колдуны и злые ду́хи.
Надя понимала страхи Олега Васильевича, он принадлежал к запуганному поколению. Но ей хватало собственных страхов, поэтому на очагах она старалась держаться от Гнуса подальше.
Летом семидесятого, когда началась пандемия холеры, они вылетели в Батуми. Пандемия обещала стать грандиозной. Местное партийное начальство думало лишь о том, как прикрыть свои задницы, и с перепугу сочинило террористическую версию.
Врач санэпидемстанции брала пробы воды, ее «поймали с поличным», обвинили в заражении водоема холерным вибрионом. Местный КГБ тут же откопал каких-то американских родственников врача, о которых она сама не знала. Врача арестовали и стали лепить из нее американскую шпионку-диверсантку. Павлик тогда активно вмешался, пробился к Бургасову, замминистра, главному санитарному врачу СССР, накатал письма в ЦК, в Прокуратуру, в КГБ. В итоге врача освободили.
– Я вовсе не такой благородный и сострадательный, – объяснял потом Павлик, – просто им нельзя давать волю, иначе любой из нас может оказаться на месте этой бедолаги.
В феврале прошлого года в Эфиопии именно Павлик помог Наде добыть образцы тканей дикой ослицы, в которых потом обнаружились те самые бактериофаги.