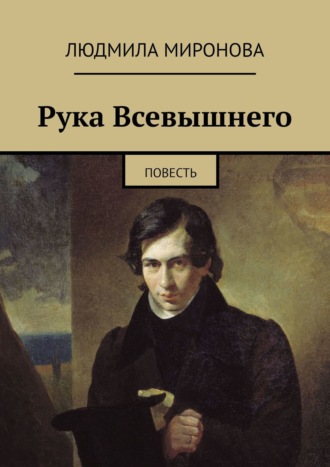
Полная версия
Рука Всевышнего. Повесть
Жизнь гимназистов била ключом. Их разум переполняли все новые и новые идеи, планы, мечты, чаянья, а сердца трепетали от чего-то необъяснимого, ранее неиспытанного и бесконечно нежного – от первой любви. На реку Остер, на берегу которой и стояла гимназия, приходили девушки стирать белье. Эти простоволосые Дуняши и Глаши становились первыми музами юных поэтов. Знакомились, назначали свидания, гуляли, а Кант и Руссо заброшенные пылились на полках.
Ждали Петра Ивановича Никольского, преподавателя русской словесности. Нестор Кукольник что-то увлеченно рассказывал, мальчишки столпились вокруг него и завороженно слушали:
– Ну, так вот. Заходим мы в глубь парка. Ни души, только птички поют. Остановились и стоим друг напротив друга. Она увидела, что я с нее глаз не спускаю, раскраснелась вся и реснички опустила.
– Да врет он все. Говорю же, сам видел, как она ему еще у ворот пощечину залепила и убежала, – вмешался Коля Гоголь-Яновский.
– Угомонись ты, – завопил кто-то.
– Не слушайте, просто он от зависти пухнет, – торжествовал Нестор.
– А дальше-то, дальше-то что было?!
– Ну, я не растерялся и поцеловал ее. А губки у нее такие алые, такие пухленькие.
– Так, так, – вдруг раздался строгий голос Никольского, – очень интересно узнать, как проводят свободное время будущие сыны отечества.
Мальчишки разбежались по своим местам.
– Я-то думал, господин Кукольник, что днем и ночью вы размышляете о том, как будете приносить пользу России и Царю-батюшке, а оказалось, ваши мысли занимает совсем не это и даже не русская словесность, – Петр Иванович стал доставать бумаги из портфеля и один листок вылетел у него из рук и упал на пол.
– Вот, кстати, стихотворение, – сказал он, поднимая листок, – которое вы сочинили и вчера изволили просить моего мнения. «Сижу за решеткой в темнице сырой. Вскормленный в неволе орел молодой»…и т. д. и т. п. Хочу заметить, мой юный друг, что оно не соответствует правилам слога. Поэзия, если кто не знает, – тончайшее искусство, требующее особенного чутья и изысканного вкуса. Это вам не метелкой махать, здесь нужен талант. А как пишете вы, голубчик, так писать нельзя.
В классе раздался оглушительный хохот.
– Петр Иванович. Это стихотворение сочинил не я, а Пушкин, – еле сдерживая смех, произнес Нестор.
Никольский покраснел, но быстро взял себя в руки.
– Пушкин – обыкновенный молодой человек. А что интересует нынешних молодых людей? То же самое, что и вас. Имел честь послушать. Другое дело Ломоносов, Сумароков – вот это я понимаю, великие мужи словесности. Не сочинители, а громовержцы, глаголом сотрясающие землю. Гении! Увы, нет сейчас талантов подобных им. Чахнет, гибнет наша великая русская литература от вольнодумства и пошлости.
Никольский был соратником Билевича, еще одним противником «интеллигентской ереси». Вообще гимназия в этот год активно делилась на два враждующих лагеря. Гимназисты, конечно, были на стороне людей нового поколения, таких как Шапалинский и Белоусов. Расхожесть мнений и взглядов на жизнь, русскую действительность, литературу, преподавание и многое другое становилась все более и более явной. Это были уже не трения, а настоящая война, разразиться которой помог случай.
Летом по окончании учебного года Билевич принимал у гимназистов экзамен по политической науке, на котором присутствовало несколько профессоров, в том числе и Николай Григорьевич Белоусов, недавно вступивший в должность инспектора.
– Сословное неравенство есть неотъемлемая черта общественного устройства. Любое цивилизованное общество должно делиться на высшие слои, так называемую «элиту» и низшие, то есть на образованных и богатых и тех, кто ничего не имея, обязан на них трудиться. Вольтер сказал: «Если народ начнет рассуждать, все погибло», – отвечал один из учеников среднего класса.
– Свобода и равенство всех перед законом вот признак цивилизованного общества, а уж никак не рабство, – перебил Николай Григорьевич.
Профессора переглянулись между собой.
– Но нам так Михаил Васильевич говорил на лекциях, – растерялся мальчик.
– Да что вы себе позволяете?! – воскликнул Билевич, краснея.
– Я позволяю себе только то, что входит в обязанности инспектора гимназии и ничего более. Продолжайте.
– Его величество есть самовластный монарх, который никому на свете в своих делах ответа давать не должен.
– Забудьте это, юноша, и заучите другое: Никто в государстве не должен самовластно управляться.
Послышались перешептывания.
– Остановите экзамен или я вынужден буду покинуть класс, – грубо, еле сдерживаясь, произнес Михаил Васильевич и вскочил с места.
– Действительно разумнее будет остановить экзамен, так как я вижу, что ни ученики, ни профессор ничего не знают.
– Нет, это уже слишком! Я жду вас у себя в кабинете, Николай Григорьевич. Немедленно, – процедил сквозь зубы Билевич, и, краснея все больше и больше, вышел из класса.
Волею судеб месяцем ранее Ивана Семеновича Орлая по службе вызвали в Москву, и обязанности директора гимназии были временно возложены на Билевича, который, оказавшись у власти, не упускал момента, чтобы расправиться со своими оппонентами, прежде всего Белоусовым.
Николай Григорьевич вошел в кабинет. Он был, как всегда, невозмутим и хладнокровен.
– Что вы себе позволяете, уважаемый инспектор? – Билевич хотел казаться спокойным, но явно проигрывал Белоусову.
– Когда ученик отвечает неправильно, мой долг его поправить, если другие не в состоянии это сделать.
– Но ученик отвечал по моим лекциям. И отвечал все верно.
– Может быть, это верно для первобытнообщинного строя, а мы живем в девятнадцатом веке.
– Ваша дерзость переходит все границы.
– Как и ваше упорство, с которым вы не хотите принимать новую Россию. Свободную от предрассудков.
– Я не собираюсь спорить с вами о политике, молодой человек, – Белоусов был на двадцать лет моложе Билевича, – Я хотел бы узнать, по какому учебнику вы преподаете. Я вижу, что это совсем не система господина Де Мартини, а что-то вольное из учений Канта и Локка. Прошу вас предоставить мне ваши конспекты для дальнейшего разбирательства.
– Я не могу этого сделать.
– Это приказ.
– К несчастью для вас, я слишком хорошо знаю свой предмет, и все мои конспекты держу в голове.
Наступила продолжительная пауза. В воздухе зависло такое напряжение, казалось, мелькни искра, и погремел бы взрыв.
– Я сниму ее с ваших плеч, можете не сомневаться.
– На этом все? Я могу идти?
– Вон, – еле слышно произнес Михаил Васильевич.
Белоусов вышел.
– Я уничтожу тебя, вшивый либералишка. Молоко на губах еще не обсохло, а сколько наглости. Ни с тем тягаться вздумал, щенок, – прошептал Билевич и с ненавистью смял лист бумаги, оказавшийся под рукой.
Невидимый колпак, под которым все это время находился Нежин, дал трещину. Один за другим в конференцию посыпались рапорты, в которых Михаил Васильевич обвинял Белоусова в вольнодумстве. Не дать делу широкую огласку помогли обстоятельства. Осенью Орлай был переведен в Одессу, а пока на его место искали достойную кандидатуру, исполняющим обязанности директора, неожиданно для Билевича, рассчитывавшего задержаться у власти, был назначен профессор Шапалинский.
Прозвенел звонок. По оживленному коридору Нежинской гимназии решительно широкими шагами шел высокий, худощавый мужчина. Лицо его было сосредоточено и выражало некоторую озабоченность. Он явно спешил. Внезапно дверь класса отворилась и задела его.
– Простите, господин Зельднер, я вас ударил – воскликнул Билевич.
– Бывает, бывает.
– А мне как раз нужно с вами поговорить.
– Нет времени, Михаил Васильевич. Совсем нет времени, – Зельднер хотел идти, но Билевич придержал его за рукав.
– У вас всегда его нет. Мне бы…
– Михаил Васильевич, голубчик, спешу, – перебил Зельднер, высвобождая руку – Я сейчас со срочным докладом к г-ну Белоусову, а потом сразу к вам, даю честное слово, – на ходу проговорил он. Билевич с подозрением нахмурился.
Егор Иванович Зельднер не первый год занимал должность надзирателя гимназии. Это был человек заурядный до крайности, напрочь лишенный каких-либо талантов. Обычно такие люди не осознают своей обделённости, но Зельднер осознавал. И это рождало в нем болезненный эгоизм, наверное, как и все в его жизни, тоже доходивший до крайности. О том, что профессора поделились на два противоборствующих лагеря, он хорошо знал, но был ни за тех, ни за других, а что называется сам за себя.
Зельднер нашел Белоусова одного в библиотеке, просматривающим какую-то книгу.
– Николай Григорьевич, у меня к вам дело, – громко произнес он.
– Слушаю вас, господин Зельднер. Что-то случилось?
– Сегодня утром мною был проведен обыск в комнатах пансионеров, и у некоторых из них я обнаружил книги и бумаги несообразные с целью нравственного воспитания.
– Говорите тише, – Белоусов отвел Зельднера в сторону и оглянулся, не подозревая, что в этот момент за дверью притаился верный противник «интеллигентской ереси», – Что вы имеете в виду?
– «Кавказский пленник» Пушкина, «Горе от ума» Грибоедова, Рылеев, журналы «Московский телеграф».
– Вы говорили об этом еще кому-нибудь?
– Нет. Согласно уставу, первым делом я обязан доложить инспектору гимназии, то есть вам.
– Хорошо, – Николай Григорьевич задумался, – Изымите литературу и передайте ее мне. Рапортом я сообщу об инциденте г-ну Шапалинскому. Только прошу вас, постарайтесь сделать так, чтобы это осталось между нами троими.
– Но…
– Я надеюсь, вы понимаете, – перебил Белоусов, – что после событий на Сенатской площади, лучше держать язык за зубами. В случае если дело получит широкую огласку, искать правых и виноватых никто не станет. Пострадает вся гимназия. Вы ведь не хотите лишиться своего места и добрый десяток лет провести в Сибири.
– Я изыму бумаги и передам вам, – голос г-на Зельднера дрогнул.
– Так будет лучше для всех.
Билевич сразу же доложил рапортом в конференцию. Белоусова попросили выдать изъятые книги и бумаги, но он отказался. Отказ грозил серьезными обвинениями в покрывательстве безнравственного поведения учеников. Кроме того, под подозрение попал Казимир Шапалинский. Дело набирало ход.
Пришла зима. Под ногами захрустел снег, своим аппетитным хрустом напоминая о солнечном лете, о румяных яблоках, которые на Нежинских базарах рассыпаются пестрым ковром, наполняя все вокруг удивительным сладким ароматом. Деревья укутались в белые шубы, река Остер покрылась льдом. Теперь сюда спешили ребятня и взрослые кататься на коньках. Шумели и веселились от души, как это умеет и любит русский народ. Дни чаще всего выпадали морозные и тихие, а по ночам беспокойно выли метели.
Нестор Кукольник стоял за конторкой в своей тускло освещенной комнатке и сочинял:
«Как оглянусь, мне кажется, я прожилКакую-то большую эпопею,Трагедию, и вот развязка…»– Нет, не то, – он все перечеркнул и отошел к окну, – трагедию, и вот…
Вдруг раздался стук в дверь. Нестор быстро собрал листки со стола и сунул их в ящик.
– Войдите, – сказал он.
Дверь отворилась, и вошел невысокий полноватый юноша.
– А это ты. Чего тебе не спится, Новохацкий? – Кукольник был явно не рад гостю и не скрывал своего недовольства.
– Я на минуточку, – нерешительно произнес тот и сел на край кровати, но, подумав, что его не приглашали, резко вскочил.
– Да сиди, чего ты, – Нестор нахмурился и отвернулся.
Александр Новохацкий учился на класс ниже Кукольника. Они часто пересекались в коридорах гимназии, оба участвовали в театральных постановках и составлении рукописных журналов, но дружить не дружили. Очень уж Новохацкий был нескладен внешне и характером. Поговаривали, что отец его в войну 1812 года перешел на сторону французов и бежал вместе с ними из Москвы. Но это были не более чем слухи, сам о себе он почти ничего не рассказывал.
– Все только и говорят о беспорядках в гимназии, – сказал Александр после некоторой паузы.
– Да. Слишком много шума.
– Чем все это кончится, как ты думаешь?
– В худшем случае Белоусова сошлют в Вятку и Шапалинского вместе с ним, в лучшем удалят от должности. Самое обидное, что эти двое стоят всех профессоров гимназии. Не понимаю, как можно быть настолько близорукими и не видеть, что России нужны именно такие люди, смелые, свободные, не боящиеся перемен, а не выскочки, застрявшие по своему умственному развитию в рабовладельческом строе.
– А с чего ты взял, что России нужны перемены?
– С чего взял!? Да, оглянись вокруг. В сегодняшней стране нет справедливости. «Человек от рождения имеет право на справедливость», – так говорит Белоусов. А на деле? Тот, кто стоит за правду, объявляется вне закона. Мой отец был таким человеком. Он многое хотел сделать на благо отечества, но ему не позволили эти ослы, которые и тени своей боятся, не то что справедливости.
– Ты хорошо говоришь.
– Хорошо говорят многие, а голову на плечах имеют не все.
Они замолчали. Только стрелки часов продолжали методично отмерять свои шаги.
– Я вот… хотел тебя попросить, – начал с нерешительностью Новохацкий и достал из кармана несколько исписанных размашистым почерком листков, – Я пишу стихи и… Может, ты посмотришь. Мне просто нужно, чтобы кто-то меня рассудил. Ты ведь….
– Я посмотрю, – перебил Нестор и взял бумаги из рук Новохацкого, – только не сейчас. Уже поздно.
– Спасибо. Ты настоящий друг.
Александр направился к двери, но вдруг замялся:
– Нестор, а если я иногда буду показывать тебе свои стихи…
– Как хочешь. Приноси.
Новохацкий ушел. Казалось, Кукольник сразу же забыл о приходе незваного гостя и продолжил сочинять:
«Как оглянусь, мне кажется, я прожилКакую-то большую эпопею,Трагедию огромную я прожил.День настает! Готовится развязка…».Бесконечные рапорты и доносы делали свое дело. Шапалинского стали всерьез обвинять в сговоре с Белоусовым и требовать решительных действий. Отступать было некуда, и Казимир Варфоломеевич пошел на хитрость. Он обратился к законоучителю гимназии протоиерею Павлу Волынскому и передал ему для составления отзыва две тетради: одну с лекциями Белоусова, другую с лекциями Билевича. Шапалинский рассчитывал на беспомощность протоиерея, как человек далекого от естественного права и напрочь лишенного красноречия, и возлагал на него большие надежды.
Состоялась уже не конференция, а настоящий суд, на котором должен был прозвучать окончательный приговор. Присутствовали все профессора гимназии. Первым выступал Билевич. Он был на удивление спокоен и говорил с несвойственной ему торжественностью. Шапалинский сразу же обратил на это внимание. Дурное предчувствие овладело им.
– Многократно в своих рапортах я указывал на падение дисциплины и нравственности среди воспитанников гимназии и на попустительства со стороны инспектора. Также некоторыми моими коллегами были замечены проявления вольнодумства у ряда учеников, что, смею подозревать, стало результатом лекций, читаемых профессором Белоусовым. Как вам известно, уважаемые члены конференции, естественное право в стенах Нежинской гимназии предписано преподавать по системе Де Мартини, в то время как г-н младший профессор Белоусов делает это по своим записям, следуя философии Канта и Шада. Более того, 18 июня на экзамене в присутствии других профессоров, самого г-на Шапалинского и при многих учениках г-н Белоусов вступил в спор с экзаменатором, то есть мной, и стал отстаивать свою методику преподавания. Посудите сами, господа, какое влияние подобный человек может оказывать на молодые незрелые умы. По моему мнению, только тлетворное, – Билевич поклонился и сел на свое место.
Дали слово «обвиняемому».
– Уважаемые члены конференции, – начал Николай Григорьевич с присущей ему решительностью, – мне очень стыдно, что стараниями отдельных профессоров наша гимназия превратилась в базар, и мы сейчас разбираем эти склоки. Но на меня жестоко клевещут, и я вынужден защищаться. Г-н Билевич указал на падение дисциплины, но я утверждаю, что мне, наоборот, удалось добиться существенных успехов в ее укреплении и наведении порядка среди воспитанников. Должен отметить, что Михаил Васильевич склонен смешивать естественное право с политикой и другим посторонними вещами. Он говорит о якобы замеченных у учеников признаках вольнодумства и приписывает это моему влиянию, но данное обвинение не имеет под собой никаких оснований. Что касается самой методики преподавания, то я категорически отрицаю связь своего учения с системой Шада. Господин Билевич слышал, что бывший профессор Харьковского университета, где я имел честь учиться, г-н Шад был выслан за границу и на сегодняшний день его естественное право запрещено. Таким образом, смею предположить, что он упомянул его фамилию без понимания сути дела, а исключительно для большей убедительности. Повторюсь, в моих записях нет ничего общего с системой естественного права Иоганна Шада. Более того, я никогда не являлся ее сторонником. Как не являюсь сторонником многих утверждений Канта, о которых Михаил Васильевич, по всей видимости, также имеет смутное представление. У меня все, – Белоусов сел. Он был доволен собой и ждал реакции оппонента, которая не замедлила последовать.
– Уважаемые члены конференции, хочу предложить вам на рассмотрение записи лекций г-на Белоусова, принадлежащих ученикам 7-ого класса: пансионеру Александру Новохацкому и вольноприходящему Ефиму Филипченко, – Билевич передал в конференцию четыре тетради, – Я подробно разобрал содержание представленных тетрадей и не нашел в них упоминания об отношении человека к Богу, к самому себе, к ближнему, к семейственной жизни, что по сути является основным предметом естественного права. Но зато отыскал следующее, я думаю, вам будет интересно послушать.
Билевич открыл свои записи и раскашлялся для большей торжественности:
– «Если представитель государства подл и во зло использует вверенною ему от народа власть, то должно такого государя низвергнуть».
Послышались перешептывания. Белоусов вскочил с места:
– Неправда! Я никогда не говорил такого!
– Неожиданно, – произнес один из членов конференции.
– Эти записи подложные!
– Успокойтесь, г-н Белоусов. Мы во всем разберемся.
Шапалинский решил, что настало время пустить в ход последний козырь.
– Господа, – вмешался он, – Я думаю, следует предоставить слово протоиерею Павлу Волынскому. По моей просьбе он составил отзыв на записи по естественному праву г-на Белоусова и г-на Билевича. Надеюсь, это поможет нам хотя бы немного прояснить дело.
– Любопытно, – послышалось из зала.
Вышел Павел Волынский, прозванный учениками «батюшечкой». Он был маленького роста, полный и имел удивительно правильную округлую форму. Протоиерей долго не начинал говорить, заметно волновался, кашлял, перебирал в руках бумаги, теребил свою длинную бороду, скрывавшую массивный нагрудный крест.
– Кхе-кхе. Мною были рассмотрены, понимаете, две тетради. Одна и вторая. Я давно уже читаю в гимназии катехизис и вообще как законоучитель, понимаете, должен сказать свое слово. Позвольте зачитать. Кхе-кхе. «В записях лекций г-на Белоусова имеются мысли и положения противные не только нравственности и религии, но и государственным постановлениям. Его учения это ничто иное, как „интеллигентская ересь“, разлагающая умы еще „неоперившихся“ юношей. Спрашиваете, откуда берутся декабристы? От нашего с вами попустительства. Мы закрываем глаза на вольнодумство в учебных заведения, пока такие вот Белоусовы открыто призывают к бунту и свержению самодержавия. Мы должны быть жестче, господа, ибо от этого зависит будущее всего отечества. Таково мое мнение. Что касается записей г-на Билевича, то в них я не нашел ничего двусмысленного или неясного, закону Божию или догматам церкви противного и с благочестием или правилами нравственности несовместного». Кхе-кхе.
Нельзя подобрать слов, чтобы описать чувства, которые в этот момент испытывал Шапалинский. Обыкновенный отчет, призванный сгладить острые углы, вдруг превратился в самый настоящий смертный приговор. Белоусов снова вскочил с места:
– Ложь! От первого до последнего слова!
– Г-н Белоусов, видите себя достойно, – строго произнес один из членов конференции.
– Господа, неужели вы сами не понимаете, что все подстроено.
– Успокойтесь.
– Нет, я не намерен участвовать в этом жалком спектакле разыгранным г-ном Билевичем, – Николай Григорьевич вышел из зала, громко хлопнув дверью.
Шапалинский схватился за голову, он никак не ожидал такого поворота событий. Война была с треском проиграна, но его ждал еще один удар.
– А что вам сказал г-н Шапалинский, передавая тетради? – со смаком спросил протоиерея Билевич.
– Ах, да, – воскликнул тот, – Казимир Варфоломеевич сказал, что, понимаете, не находит в них ничего противного религии. Таким образом, он как бы желал склонить меня на свою сторону и под покровом одобрения, понимаете, дать учению свободный ход к дальнейшему распространению.
В зале послышались разговоры. Конференция подходила к концу, но Шапалинский уже ничего не слышал, он в исступлении подскочил к Волынскому и оттащил его в сторону.
– Что вы делаете?! – запротестовал тот.
– Это я вас должен спросить, – зло глядел на него Шапалинский, – Я просил рассмотреть лекции на содержание в них положений противоречащих догматам церкви и не более того, а вы что натворили?
– Я, понимаете…
– Признайтесь, ведь отчет писали не вы, а г-н Билевич.
– Да…. То есть, нет. Какая, собственно, разница! Пустите меня! – он хотел вырваться, но Шапалинский схватил его еще крепче.
– Я рассчитывал на вас, как на честного человека.
– Я составил отчет, понимаете. Я все сделал. Это мое мнение, мой отчет. Я…
– Задушить вас мало, – прошептал Казимир Варфоломеевич, он был явно не в себе.
– Что?! – вытаращил глаза Волынский, – Я на вас заявляю. Я напишу рапорт. Я это так не оставлю, понимаете, – он вырвался и поспешил скрыться.
«Суд» состоялся. Естественное право было решено снять с преподавания, а для дальнейшего разбирательства ждали нового директора гимназии коллежского советника Даниила Емельяновича Ясновского.
Даниил Емельянович был назначен на эту должность самим графом Александром Кушелевым-Безбородко еще в феврале, но прибыл в Нежин только осенью. В молодости секретарь самого графа Румянцева, жесткий и требовательный, он был полной противоположностью Ивана Семеновича Орлая. Ясновский сразу же собрал в своем кабинете профессоров и объявил план действий.
– Мне уже известно, что происходит в стенах гимназии. Остается прояснить следующее – начал он, – прежде всего, меня интересует, почему о беспорядках не было доложено в управление Харьковского учебного округа? Насколько я знаю, г-н Шапалинский, это была ваша обязанность.
– Я бы не назвал происходящее беспорядками, скорее недопонимание между профессорами.
– Недопонимание не становится делом государственной важности.
– Если это кому-то на руку, становится.
– Кто прав, а кто виноват, г-н Шапалинский, разбираться уже не вам. Мне доложили, что у гимназистов была изъята запрещенная литература, и она находится у вас, Николай Григорьевич?
– Да.
– Сегодня же передадите мне изъятые книги и бумаги. Теперь, по поводу…
– Я не буду этого делать, – перебил Белоусов.
– Что?!
– Я имею некоторые основания удерживать их у себя.
– Какие еще основания? – в недоумении воскликнул Ясновский.
– Веские.
– Да у вас тут балаган какой-то!
Наступила напряженная пауза.
– Г-н младший профессор Белоусов, вы главный обвиняемый по делу о вольнодумстве. Читали лекции по естественному праву в восьмых и девятых классах. Правильно я понимаю?
– Лекции читал, но виновным, да еще главным, себя не считаю.
– Объявляю, что отныне помимо профессоров и преподавателей к следствию привлекаются ученики старших классов. Приказываю изъять у них тетради и записи, касающиеся естественного права и передать мне. Я внимательно изучу собранный материал, после чего будет проведен допрос некоторых гимназистов. Вести допрос буду лично я.
Билевич не скрывал своего удовольствия.
– Стоит ли прибегать к крайним мерам, – не выдержал Шапалинский.
– Моя цель навести порядок, а для достижения цели все средства хороши. Это политика, Казимир Варфоломеевич, никаких личных интересов.
Дело близилось к развязке. В течение шести дней в присутствии всех членов конференции были допрошены девять учеников, среди которых Нестор Кукольник, Николай Гоголь-Яновский и Александр Новохацкий.
– Г-н Кукольник, скажите, г-н Белоусов читал лекции по своим записям или по учебнику? – спросил Даниил Емельянович и, сложив руки за спиной, зашагал по залу.
– И по учебнику и по записям.


