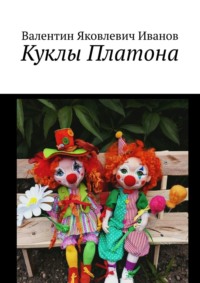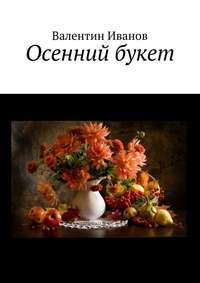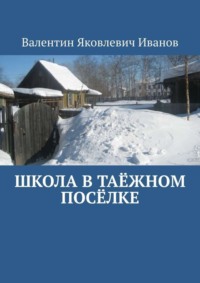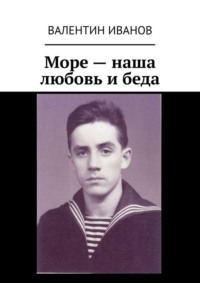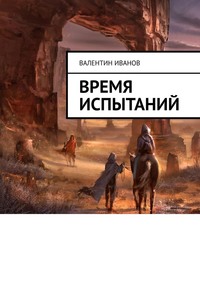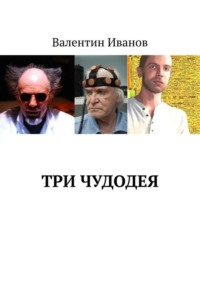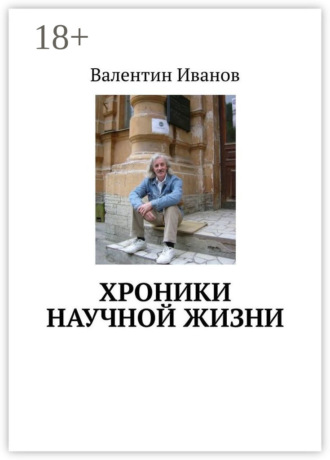
Полная версия
Хроники научной жизни
– Так может рассуждать лишь абсолютный профан, ничего не смыслящий в физике.
Наконец, доктора и член-корры выдохлись, обмякли и лишь вытирали молча вспотевшие лысины. Видно было, что они окончательно разбиты и повержены нашим доблестным Панургом.
После доклада Веня я пробился к Володе:
– Что-то я не понимаю, чем ты в ИЯФе занимаешься? Усилители какие-то дурацкие паяешь. Разве мало там своих остолопов, чтобы паять их? Почему же ты в теоретики не подался?.
Он взглянул на Веню снисходительно, как бы объясняя малышу всю его глупость:
– Сколько их, этих теоретиков? Четыре на весь ИЯФ. Они же никого к себе и близко не подпустят. А мне что-то кушать надо, квартиру надо и всё такое прочее. Вот и «лужу-паяю» за деньги. А после работы лягу в своей комнатке на диванчик, и вот она вся теоретическая наука со мной, никуда бежать не надо. Теперь понял?.
Следующая их встреча состоялась уже лет через пять на ступеньках Дома Учёных, в котором проходила какая-то международная конференция. Веня спросил Володю:
– Чем ты теперь в Институте занимаешься? Как успехи в теоретической физике?
Он обреченно отмахнулся:
– С женой развелся. Квартиры не дают. Зарплата смешная. Какая тут теоретическая физика, когда жрать нечего!.
12
Очень непростым был курс уравнений математической физики, который читал профессор Ходунов. Сам он к тому времени уже был известным ученым, крупным специалистом в области вычислительных методов аэродинамики (схемы Ходунова) и теории устойчивости решений гиперболических задач (критерий устойчивости Ходунова-Рябенького). Курс его лекций был опубликован в книжке, и читал он его толково, самозабвенно. Правда, курс был с известным перекосом в сторону гиперболических задач и разностных методов их решения, хотя для задач матфизики есть и другие не менее интересные методы, которые упоминались как бы мимоходом. С другой стороны, такими перекосами страдает большинство лекторов, поскольку они являются специалистами в конкретных областях. Непростым же курс был не столько из-за его сложности, сколько в связи с особенностями личности этого лектора. Ходили легенды, что это – змей трехглавый, потомок исторического «царя Бориса» и на экзаменах рубит студентов в капусту, как янычар неверных своим ятаганом. Две трети всех двоек ставит лично он, причём, для того, чтобы выяснить, что ты ни хрена не знаешь, Ходунову требуется минут пять, от силы – десять. Наслушавшись таких историй от старшекурсников, новички трепетали заранее. Эти же старшекурсники поучали, что на каждого Ходунова найдется свой Мамонтов. Крупногабаритный постоянно улыбающийся Мамонтов был доцентом, вел семинарские занятия и слыл добрейшим человеком.
Дожил и наш курс до экзаменов по этому страшному предмету. Студенты из соседней группы рассказали кошмарную историю. Накануне пришли они сдавать экзамен Ходунову. День был солнечный и профессор был в прекрасном настроении. Увидев, что группа малочисленная, он сказал двум своим ассистентам: «Идите сегодня отдыхать. Я и сам успею всех принять». Группа была на грани нервного срыва. В гробовой тишине встаёт вдруг бледный староста группы и говорит бескровными губами:
– Сергей Константинович, группа сдавать экзамен не готова.
– То есть как это не готова? Зачем же тогда пришли?
Староста молча пожимает плечами, мол, сами должны догадаться зачем. Ходунов ставит всем двойки и выгоняет всю группу.
– Это была плохая новость, вспонимает Веня, – хотя наша группа и не была малочисленной. Заходим все сразу, получаем билеты, рассаживаемся и начинаем готовиться. Кто-то уже вовсю списывает доказательство теоремы существования. Так, ассистенты на месте – уже хорошо. Быстренько забиваем очередь к ассистентам.
– Кто готов отвечать? – через полчаса после начала экзамена профессор обводит комнату строгим взором.
Самоубийц, естественно, не находится. Обычно Ходунов выбирает пальцем в списке случайную жертву. От этого обречённого на заклание общество ждёт только одного, чтобы он как можно дольше продержался, давая тем самым возможность остальным товарищам сдать экзамен ассистентам. Для этого жертва не должна сразу выдавать свои знания, а должна задумчиво покусывать карандаш, сморкаться в платок, кряхтеть или кашлять – словом, тянуть время.
Первым к Ходунову попадает крепыш Слюсарь. У него шея борца и такие же крепкие знания. Этот может и 10 минут протянуть. К сожалению, он получает свою законную двойку через 7 минут.
– Как медленно движется очередь, – думает Веня, – неужели я сейчас буду следующей жертвой? Уф, пронесло!
Следующим выходит студент Моторин. Этот эезамены сдаёт только на пятёрки. Длинные прямые волосы, слегка вытянутое лицо, очки и взгляд, устремлённый куда-то внутрь. По характеру замкнут, нелюдим. В разговорах нуден, всегда серьёзен, неулыбчив, с чувством юмора знаком мало. Такой своей меланхолией кого угодно усыпит. Все облегчённо вздохнули, когда он подсел за стол к профессору. Однако и Мамонтов устал. Он говорит очередному студенту, вытирая лоб платком:
– Вот приму у Вас и пойду перекусить в буфет.
Это уже катастрофа, потому что следующим за ним должен быть Веня. Наконец, и этот студент получает свою четверку. Мамонтов медленно поднимается, собираясь направиться в буфет. И тут его взгляд случайно на мгновение перекрещивается с вениным. Видно, такую муку прочел он в его взоре, что махнул рукой:
– Ну ладно, еще один – и пора обедать.
Нет, есть всё-таки студенческий бог, будь он благословен! С неимоверным облегчением Веня начинает рассказывать содержание своего билета.
Тем временем за столом у Ходунова происходит что-то невероятное. Уже пятнадцать минут сидят они с Моториным, о чем-то оживленно беседуя. Все, затаив дыхание, следят за этой необычно долгой дуэлью. Вот уже двадцать минут прошло – абсолютный рекорд. Молодец, Моторин! Вдруг Сергей Константинович обхватывает голову руками и начинает раскачиваться, как от сильной зубной боли. Потом он выходит в центр свободного пространства у доски, показывает перстом на Моторина и говорит:
– Вы видите этого студента?
Все затаили дыхание, а Ходунов продолжает:
– Это невероятно, но он выучил мою книжку лекций всю. От корки до корки. Он знает всё.. – Затем следует пауза и завершающая фраза – но он ни чер-та не понимает! И всё же за усердие я ставлю ему тройку.
Надо сказать, что Моторин действительно был зубрилой и по всем экзаменам имел сплошные пятерки. Для него это, конечно, удар, поэтому он уныло гнусит:
– Сергей Константинович, когда я смогу пересдать?
Это уже был крутой перебор, потому что зубовный скрежет можно было услышать даже в коридоре. Закалённый Ходунов не выдержал, вяло сказал ассистентам: «Остальных принимайте без меня. Я, пожалуй, отдохну» – и вышел.
Тем временем Веня закончил ответ и Мамонтов дал ему задачку, связанную с разложением решения в полукруге по гармоникам Фурье. Веня что-то набросал, но в конце запутался и зашёл в тупик. А Мамонтов подсказывает:
– Вы же уже всё написали. Решение обладает симметрией, значит нечетные гармоники выбрасываем, получая окончательный результат, – и ставит честно заработанную пятерку.
Да, это был день очень сильных ощущений.
В течение учебного года Веня подрабатывал случайными заработками, а с началом сессии устраивался на временную работу. Начинал грузчиком в отделе снабжения Института физики полупроводников. По бумагам устраивали его, естественно, как бы токарем. Это понятно. Какого-либо смысла в нашей экономической и политической системе искать не стоит – его там просто нет. Работёнка была совсем не пыльная. Первый час он сидел в самом отделе, перечитывал лекции к очередному экзамену или зачету. Затем ехали на машине получать продукты для институтской столовки. Получали совсем рядом – в подвальном помещении кафе «Под интегралом», где располагались базовые продуктовые склады. За ящиками тары «профессиональные» грузчики обычно распивали только что украденную бутылку красного или белого вина. Получать было совсем немного, больше ждать нужно было, пока шла какая-то бумажная суета с фактурами и накладными. Стаскав ящики, коробки и бидоны в кузов, ехал обратно в институт, где и разгружал всё это хозяйство. Мужики из отдела советовали всегда иметь за голенищем ложку, которой можно хлебать сметану, пока едешь в кузове до института, и никто не видит. Это казалось естественным, поскольку Веня был бедным и, само собой разумеется, голодным студентом. Ложку он не брал, и не столько оттого, что гордым был, сколько потому, что хлебать в трясущемся кузове неудобно – разбрызгаешь только, а то и подавишься на ухабе. Главная же причина честности заключалась в том, что кухонные работники кормили его бесплатным обедом, причём он мог брать любые блюда по одной порции. Конечно, надо быть неблагодарной свиньей, чтобы воровать у этих людей.
Изредка приходилось разгружать машины с научным грузом для института. Чаще всего это были мелкие посылочки с образцами материалов или стеклянная посуда, реже – бутыли с кислотами. Потом Веню направили на мелкую стройку у главного корпуса, где нужно было подносить кирпичи. Здесь у него был напарник Михеич, старик серьезного пенсионного возраста. Михеич был суров и крыл по матушке всех подряд: правительство за то, что потеряло документы о его партизанском стаже, а молодежь – за короткие юбки и «развратный» образ жизни.
– Разбаловались вы все, как я посмотрю, – разлагольствовал Михеич, – только отвернись, уже девку жмут где-то в углу. В наше время гораздо строже было. Я вот, к примеру, со своей старухой сорок пять лет прожил, а голой её ни разу не наблюдал.
Девицы в отделе снабжения прыснули со смеху, а мужчины подначивали:
– Что ж ты, Михеич, детей-то наощупь что ли впотьмах клепал?
Потом дружно решили, что столь критическое отношение к жизни у нашего деда оттого, что затерянные документы не дают ему, как всем нормальным труженикам отдыхать на пенсии, попивая чаёк из самовара, и посоветовали написать запрос в центральный архив Советской армии, а то и прямо в Министерство обороны. Даже текст обращения совместно с Веней сочинили. Михеич, видимо, отправил всё-таки это письмо, потому что на некоторое время стал тихим и задумчивым. А потом, придя однажды в институт, Веня заметил необычное оживление у доски объявлений. Протиснувшись вперед, увидел на стене белый прямоугольник плотной качественной бумаги с большой красной звездой Министерства обороны. Текст же был такой: «На запрос о партизанском стаже сотрудника вашего Института… Константина Михеича сообщаем, что с 18 апреля 1941 года по 23 марта 1946 года он отбывал наказание в колонии строгого режима за самогоноварение». С этого дня в жизни Михеича одной обидой стало больше.
К летнему сезону в университете стали формироваться студенческие строительные отряды. После первого курса не было шансов попасть в северные отряды, где можно было заработать хорошие деньги, и первокурсников обычно направляли на объекты Новосибирской области. Конкретно, отряд должен был работать на новосибирском лесозаводе, который располагается на берегу Оби в сотнях метров от железнодорожного вокзала. В отряде собралось человек тридцать ребят и шестеро девчат. Разместили всех в здании заводского клуба. Суть работы заключается в следующем. В небольшом затоне накапливается лес, сплавляемый по реке караванами плотов, которые тащат катера. Прямо в воду одним концом уходит полотно бревнотаски – металлического конвейера. Сам конвейер состоит их направляющих с полукруглыми выемками, расположенных на расстоянии метра друг от друга вдоль конвейера. Все направляющие соединены прочной металлической цепью, которую тащит лебёдка, размещённая на другом конце конвейера. На выемках покоится бревно, извлекаемое из воды. Вдоль конвейера общей длиной около ста метров расположены три площадки с пневмосбрасывателями. В тот момент, когда бревно проходит мимо площадки, нажимается кнопка и рычаги пневмосбрасывателя сталкивают бревно в сторону от конвейера. Таким образом можно сортировать бревна в три огромных штабеля.
Работа организована так. Двое человек с баграми направляют очередное бревно из числа плавающих в куче на затопленный конец конвейера, по одному человеку сидят на кнопках сбрасывателей, один включает лебёдку, по два человека с металлическими крюками работают на площадках сбрасывателей, и бригадир осуществляет общее руководство, то есть матерится с мастерами и инженерами лесозавода. На кнопках и лебёдке, естественно, размещают девочек. Работа на кнопках не пыльная, но ответственная. Чуть зазевался и не вовремя нажал на кнопку, – бревно, вместо того, чтобы плавно скатиться к штабелю параллельно конвейеру, идёт одним концом вперёд, начинает крутиться на площадке. Именно для исправления этой ситуации и стоит пара по обе стороны площадки с крюками в руках. Они должны выровнять бревно и направить его куда надо, в штабель. Если честно, то это совершенно лошадиный труд, потому что брёвна бывают по десять метров длиной и более полуметра диаметром. Намокшие брёвна весят немало, а ребята должны проводить бревно до штабеля и успеть к приёмке следующего бревна, поскольку конвейер останавливать из-за лопухов нежелательно. Кроме того, эта работа и просто опасна. Если не успеешь отскочить в сторону от катящегося прямо на тебя бревна, может переломать как отдельные части организма, так и «разгладить» его, в целом.
Ясное дело, что в первую неделю конвейер то и дело останавливается то из-за заторов, то из-за поломок и повреждений техники, которая была сработана, кажется, ещё нашими дедами до революции. Первую неделю работают в одну смену, чтобы приноровиться к процессу, затем должны перейти к круглосуточной трёхсменной работе с одним выходным днём. Все восемь часов машем своими крюками под палящими лучами щедрого летнего солнца. Девчонки в майках и шортах, ребята в старых джинсах, обнаженные по пояс. В шортах им бы ноги бревнами ободрало, будь здоров. С непривычки пьют много воды, отчего еще больше потеют и снова жаждут пить. На питание выдают талоны, однако пункт питания на заводе словом «столовая» назвать трудно. Скорее, это буфет, поскольку здесь нет горячих блюд типа борща или котлет. Холодные закуски, салаты, сметана и напитки – вот, пожалуй и всё. В какую-либо городскую столовую не успеть за время обеденного перерыва, а при такой физической нагрузке на той еде, что имеется, долго не протянешь. В отряде возникает лёгкий демократический ропот насчёт того, чтобы командир отряда и комиссар надавили на заводское начальство о лучшей организации питания.
В конце дня тело гудит и хочется отдохнуть. Начальство хлопочет о формировании из отряда трёх бригад и об организации соревнования между ними. Студенты же гнут свою линию, что, мол, неплохо бы в конце каждого дня, когда бригадиры закрывают наряды, вывешивать здесь же на стене, сколько заработали за день. Так проходит неделя. Все втягиваются в работу и начинают выходить на три смены по скользящему графику. Единственная беда – список с начислениями зарплаты всё никак не появляется. Начальники студенческих бригад оправдываются, что заводские мастера позволяют им контролировать не все наряды. Потихоньку все и сами начинаем догадываться, что их нагревают откровенно. Во-первых, поставив однажды свою девочку, вести учёт бревен и, сравнив её данные с теми, что дает учётчица с завода, обнаруживается, что студентам систематически занижают выработку. Кроме, того, на соседнем конвейере, где работают профессионалы с завода выработка почти в три раза выше. Столь высокая разница объясняется не столько их лучшими навыками работы, сколько тем, что их конвейер новее и реже встаёт. И, наконец, катера ритмичнее подгоняют к их конвейеру брёвна, не допуская простоев, как это имеет дело на студенческом конвейере. Но и это не всё. Даже если бы их выработка равнялась студенческой, они получили бы чуть не вдвое больше студентов из-за разрядов и каких-то там тарифных коэффициентов, которыми так умело крутят их бригадиры.
Назревает ропот в народе. Очень неприятно, когда понимаешь, что тебя обдирают, как липку. Особенно неприятно, если ты работаешь при этом на износ. В отличие от рабочих завода, у студентов есть всего лишь два с небольшим месяца за год, чтобы заработать на жизнь. Теперь они уже требуют от руководства отряда вывесить списки заработков сегодня же вечером, иначе завтра не выйдут на работу. Днём на участок заходит какой-то начальник, отвечающий за организацию работы отряда. Веня решил провести разведку и, подмигнув ребятам, подходит к нему с разговором о том, что студенты поиздержались порядком. Нет денег даже на курево. И тут же плавно переходит к тому, что неплохо бы выдать авансик, ну, рублей скажем 100—150. Начальник говорит:
– Я же не знаю. Может, вы и не заработали столько.
– Как же так, – говорит Веня, – отработали уже почти три недели, труд у нас тяжёлый – сами знаете, все данные в конторе есть, а Вы даже 150 рублей жмётесь выдать бедным студентам.
В это время бедные студенты с интересом прислушиваются к разговору и начинают поддакивать, что «и жратва тут никудышная, и вообще, может, мы зря здесь время теряем». Начальник обещает подумать и тут же скрывается в конторе. Вечером командир отряда понуро вывешивает список, из коего следует, что заработали они за день по пять рублей и двадцать копеек на нос. Веня молча начинает собирать свою сумку. Подходит комиссар отряда и заводит разговор об ответственности за общее дело и дезертирстве с трудового фронта. Веня рубанул с плеча:
– Мне нужно кормить семью, а сбежать я собираюсь именно на трудовой фронт. На тот, где за работу платят деньги, а не воруют их у трудящихся.
На следующий день он снова устраивается грузчиком в ИФП, бесплатно питается в столовой и ведёт с Михеичем «сурьёзные» разговоры о жизни. Зарплата небольшая, зато без обмана, как на лесозаводе.
Преддипломная пракика
Так вот в текущих и малозначительных делах и заботах доучился Веня до четвёртого курса, когда студентов начинают распределять в институты на практику. Здесь он допустил некоторую промашку, хотя если посмотреть под другим углом зрения, может быть, это была и не промашка вовсе, а наоборот – везение. В это время преподаватели, ведущие спецкурсы, проводят лёгкую агитацию, чтобы привлечь студентов в свои институты. Веня, разумеется, хотел попасть в ИЯФ, поскольку именно сокровенные фундаментальные тайны материи будоражили его воображение. Одним из преподавателей, работавших в ИЯФе был доцент Нифонтов. Ещё на втором курсе он читал курс полупроводниковых приборов. Дело своё он знал хорошо, но было у него два пунктика. Первый состоял в том, что он никогда не ставил пятёрки на экзаменах, считая, видимо, что на пятёрку знает лишь он сам, да и то не всё. Самого дотошного студента отличника он плавно снижал до четвёрки, задавая дополнительные вопросы, ответов на которые нельзя было найти в прочтённом им курсе. Вторым пунктиком было то, что у Нифонтова была одна любовь на всю жизнь – «зарядовая модель работы транзистора». Студенты, конечно, догадывались об этом не сразу. Быстренько пробежав по основным разделам полупроводниковой теории и техники, Нифонтов переходил к зарядовой модели. Рассказывал он о ней столь вдохновенно и подробно, что даже умственно отсталая мартышка могла сдать эту теорию не меньше, чем на трояк. Так и читалась теория до самого конца курса. Веня был аккуратным студентом, и у него долго ещё хранились прекрасные конспекты с изложением этой теории.
На третьем курсе Нифонтов читал импульсную технику. Быстренько объяснив наиболее характерные отличия триггера от блокинг-генератора, лектор перешёл к работе транзистора. Как только Веня понял, что запахло «зарядовой моделью», он перестал записывать, достал старый конспект и стал следить за мыслью лектора. Теория и в этом спецкурсе излагалась в полном объёме. Было ясно, что изложение продлится до конца семестра, и он потерял интерес к спецкурсу, появляясь на лекциях лишь изредка, чтобы убедиться, что зарядовая теория живёт и побеждает. В следующем семестре Нифонтов читал еще какой-то спецкурс. Веня сходил лишь на первые две лекции. Услышав вновь знакомый термин «зарядовая теория», оня в ужасе убежал, ибо слушать её в третий раз было совершенно невыносимо, хотя Нифонтова он понимал. Тот последователен в своей страсти, это вам не легкомысленный Дон-Гуан какой-нибудь. Оказалось, именно на этих лекциях прошла агитация в ИЯФ. При этом подробно рассказывалось, в каких лабораториях чем занимаются. Многие записались на практику заранее. Такие, как Веня, сделали это позже.
На распределение студентов собрали в кабинете завлаба Марлена Моисеевича. Вдоль одной из стен расселись студенты, напротив них – потенциальные руководители. Завлаб сказал, что записавшиеся заранее к конкретным руководителям, могут идти на рабочие места. Ушли чуть более половины. Затем руководители по очереди рассказывали, чем они занимаются. Заинтересовавшиеся поднимали руку, и их уводили по лабораториям. Вене же почему-то казалось, что самое интересное будет в конце, поэтому он упорно молчал. Наконец всех разобрали, остались лишь Веня и Сергей Семиколенов. Им объяснили, что остались два места в группу СВЧ-электроники. Первое направление связано с электроникой малых мощностей… «Я!» – сорвавшись с места, хриплым голосом выкрикнул Сергей. Оставшись один, Веня несколько упал духом. Ему предстояло работать в области электроники больших мощностей. Перед ним сидел практически лысый толстячок, напоминавший по комплекции рано состарившегося Карлсона. «Разрушающее действие СВЧ-излучения, – подумал Веняя, – тут не может быть двух мнений. Сначала выпадение волос, потом ранняя импотенция…». Что будет дальше – страшно и подумать. Дома он всё честно рассказал жене, пообещав твердо, что постарается близко к установке с опасным излучением не подходить, а заняться чисто теоретической работой.
Толстячка звали Серёга. Это не фамильярность – его все так звали. Установка, с которой Веню связала злополучная судьба, называлась «Гирокон». Это был перспективный генератор, который в непрерывном режиме должен был выдавать почти мегаватт мощности на частоте 181 мегагерц для питания ускоряющих промежутков накопительных колец ускорителей. Ясное дело, что создавали его впервые в мире, по инициативе директора института академика Будкера, хотя идею ранее запатентовали пронырливые американцы. Вблизи генератор напоминал больше всего готовый взлететь лунный модуль. Мегавольт ускоряющего напряжения делал установку электрически опасной, а тридцать три киловатта рентгеновского излучения превращали её и в радиационно опасную. Поэтому смонтирована она была в стальном домике, стенки которого были выложены свинцовыми кирпичами. Оказывается, действительность была куда хуже самых кошмарных предположений.
К счастью, лысых в группе больше не было, и подозрения постепенно улеглись. Из примечательных личностей запомнился Вася Кузнецов, симпатичный на вид, веселый и словоохотливый. Он был записным диссидентом, и буквально нашпигован такой информацией, которую в продаваемых в магазинах книгах найти было нельзя. Именно от него Веня впервые узнал, что в бело-финской войне мы были агрессорами, первыми напавшими на финнов, которые к нашим белогвардейцам никакого отношения не имеют. Кроме того, узнал о неопубликованном у нас томе Нюрнбергского процесса, правду о лендлизе, о караване PQ-16, о голоде и репрессиях сталинских времен и многое другое.
В ИЯФе много радиодеталей, поэтому вновь пришедшие на практику студенты сразу бросаются паять для дома мощные низкочастотные усилители и другие полезные штуковины. Это понимается сотрудниками, как неизбежная и, к счастью, временная болезнь, которая быстро проходит, если её не лечить. Веня также не избежал этой инфекции и быстренько склепал усилитель, которым можно было гордиться, потому что в выходном каскаде стояла идеально подобранная пара высокочастотных транзисторов, так что по нелинейным искажениям он мог занять приличное место на конкурсе радиолюбителей. На этой почве Веня сдружился с радиомонтажником Колей. У того были, действительно, золотые руки, и ему давали самую трудную работу, требовавшую высокой квалификации. Тому, кто понимает в этом деле хоть что-нибудь, достаточно сказать, что Коле поручали чинить кубы памяти БЭСМ-6, спаивая тончайшую вязь почти неосязаемых проводничков. Обычно при обрывах куб выбрасывают целиком, потому что малейшие дефекты пайки порождают контактную разность потенциалов, которая делает дальнейшую работу памяти на высоких частотах ненадёжной. Веня жадно перенимал у Коли приемы мастерства, и быстро научился делать приличную разводку печатных плат, освоил травление плат и деликатную пайку.
Коля был человеком простым, но и его не обошла эта дурацкая мода держать породистых собак. Когда он приобрел за немалые деньги щенка восточно-европейской овчарки «с паспортом», каждый день с утра он докладывал, что его собачка съела вчера за ужином 150 граммов докторской колбаски, пару сваренных вкрутую яиц, поливитамины, нежирный кусочек сала. А больше – ни-ни, потому что – рацион. Однажды, придя на работу, Коля уронил голову на стол и проспал до обеда. После обеда он рассказал, что собачка заболела чумкой, ей делают уколы. Ночь напролёт она воет, соседи нервничают, стучат швабрами в потолок, поэтому всю ночь он качает собачку на руках. То же повторилось и на следующий день. Коля скрипел зубами и говорил, что он бы давно повесил собачку на первом суку, утопил бы её, сволочь, в помойном ведре, но нельзя, потому, что она зарегистрирована с родословной в собачьем клубе. Самое большее, что возможно, это получить разрешение клуба усыпить собаку и везти её на другой конец города для усыпления. Еще через два дня Коля пришел на работу выспавшимся, и все поняли, что мучавшая его проблема наконец решена. Теперь, чтобы ввести Колю в экстаз, достаточно было сказать: «А не подарить ли тебе, друг, породистую собачку».