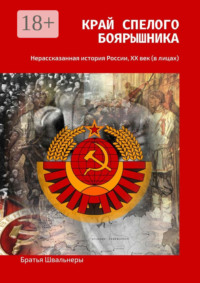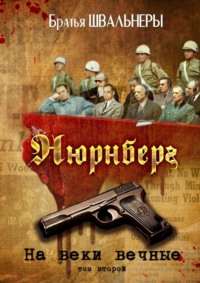Полная версия
Гоголь. Главный чернокнижник империи
– Это Хома Брут. Он из наших крестьян и обучается, не без батькиной помощи, в бурсе, что в Киеве. Вот приехал на вакансии, мать попроведать…
– …и тебя заодно!
– Что я слышу, господин писатель? Уж не ревность ли говорит вашим голосом?
– Что за ерунда?! Просто странно, что он не отходит от тебя и во всякую минуту, что мы проводим вдвоем, посылает тебе весьма недвусмысленные взгляды…
– Брось. Он всего лишь батрак батькин, какие могут быть между нами отношения?
– В любви, как показывает история, социальное равенство не всегда является главенствующим. Да и вся литература, которую ты так любишь, об этом говорит. А вообще-то – от нелюбви до любви один шаг. Хоть я вижу презрение в твоих глазах и когда он рядом, и когда просто смотрит на тебя, и когда говорим мы о нем, все же отношение это вполне может перерасти в нечто большее и существенно иное…
– Уж не пророком ли ты сделался после Иерусалима?
– Прав был великий Пушкин, что нет пророка в своем Отечестве. Просто я старше и жизнь знаю больше.
Эти слова так запали в душу Александры Ивановны, что на протяжении следующих нескольких встреч она всем видом показывала брату, что Хома – скорее ее вещь, нежели, чем человек, которого она сколько-нибудь уважает. Он влюбился в нее, чего она уже не могла да и не хотела скрывать, и она, как всякая женщина, пользуясь этим, не желала все же разорвать той невидимой связи с неведомым, но влекущим ее неотвратимо петербургским миром, что олицетворял для нее Николай Васильевич.
В один из приездов писатель с ужасом и удивлением увидал, как молодая барыня каталась верхом на Бруте. Увидев приехавшего писателя, который едва не лишился от такого зрелища дара речи, Хома ретировался, оставляя молодых наедине.
– Что же это? – с нескрываемым удивлением спросил Гоголь.
– Говорю тебе, он всего лишь вещь. Да ему и нравится такое.
– И как ты поняла? Как такое вообще может нравиться кому бы то ни было?
– Захожу сегодня на конюшню, а он там. Разговорились. И так он стал на меня пристально смотреть, что я решила над ним подшутить. Дай, говорю, поставлю я на тебя свою ножку. А он мне в ответ: «Чего же только ножку? Садись на меня сама верхом». Ну а мне, что, упрашивать себя прикажешь? Изволь, я и села. Повеселились и не более. Пусть не мечтает там себе, мне такие без надобности.
– Да, – задумчиво протянул писатель. – Отдал Христос за нас свою душу, искупая наши грехи, а мы вот так…
– Да что я такого предосудительного сделала, что ты меня уже во вселенские грешницы записываешь? – Александра говорила обиженно, надув губы, и, глядя на нее, писатель понимал, что женщина есть женщина. Достаточно провести с ней несколько дней, как она уже нафантазировала о тебе в своей голове не Бог весть чего, уже смотрит на тебя почти как на мужа, и потому всякое подозрение из твоих уст начинает живо и больно ранить ее. Он улыбнулся и поспешил перевести тему:
– Я вовсе не о тебе. Видишь ли, я думаю о центральной сути Христова учения, которое, как мы уже с тобой говорили, состоит в том, что за наши грехи, грехи наших отцов и детей Христос расплатился жизнью своей. О смерти его известно, что, будучи распятым, он пал от копья легионера Лонгина, который желал облегчить ему муки и потому заколол. Но вот, что я думаю – делал ли Лонгин благо, убивая Спасителя? Мог и желал ли Пилат пересмотреть вынесенный Ему приговор? И что было бы, останься он в живых?
– По твоей логике, наши грехи остались бы не прощенными…
– Да, но Спаситель был бы жив, и вся жизнь оттого преобразилась бы.
– Но почему ты думаешь об этом? Уж не дурак ли Хома Брут навел тебя на такие мысли?
– Вовсе нет. Видишь ли, во время путешествия в Иерусалим я отыскал наконечник копья, которое многие там и приписывают Лонгину… Вот он, – писатель достал из-за пазухи сверток и показал его Александре.
– Удивительно, – прошептала она, поводя рукой над находкой брата. – Как это удивительно и прекрасно – прикоснуться к истории столь давних времен и почувствовать себя причастным к этому… Как будто двух тысяч лет и не бывало…
В эту минуту Николай снова поймал на себе чей-то гневный взгляд. Обернувшись, он увидел позади себя Семена. Теперь и он одаривал молодых взглядами позора и презрения. Не выдержав его выпада, писатель отволок его в глубину сада и спросил в лицо:
– Послушай. Чего это ты и вся здешняя дворня так смотрите на нас, будто мы вам всю жизнь испортили, а?
– Нет, батюшка барин, – отвечал Семен, – что хотите со мной делайте, а я вам всю правду скажу. Недобрый и нехороший он человек.
– Кто?
– Дядюшка ваш, Иван Афанасьевич. Поговорил я с дворней, с поварами, с кучерами, да с кем только ни разговаривал я все дни эти и все в один голос говорят: негодяй и сатрап. Людей бьет, истязает почем зря, может и до смерти забить или зарезать. Со многими беглыми крестьянами так поступал. А куда им деваться от такого-то обращения? Только бежать и остается, хотя и знают, что цена высока – а все же здешнюю платить еще дороже выходит. Негодяй он, точно вам говорю. Пусть и неприятно вам это, пусть и родная вы ему кровь, а только скажу, и можете хоть сечь меня, а хоть и вовсе отдать ему на растерзание. Чего там, вы писатель, для вас правда должна быть дороже, а я ни словом, ни звуком не совру, ежели говорю вам, то так оно и есть.
– Положим, я не слепой и сам видел все то, о чем ты так горячо распинаешься. Но разве в этом состоял мой вопрос? Разве этой вот правды, хоть и ценимой мною, но не относимой к делу, желал я от тебя услышать? Или неразумный ты и маломысленный человек? Или горилка так на тебя действует?
– Нет, ваше благородие, я человек разумный, хоть и молодой, и вы это знаете. И правду я вам скажу, именно ту, которую вы услышать хотели, но сказать то, что я сказал, непременно надо было именно сейчас. Потому как в ином случае вы бы точно разгневались и велели бы сечь меня. Да и, правду сказать, узнал я нечто совсем недавно, когда уж видел и имел представление о господине Яновском.
– Так что же ты узнал? – Семен говорил так витиевато и сложно, что Гоголь даже задумался, не тронулся ли тот умом.
– Все видят, что вы с молодой барыней Яновской ни на минуту не расстаетесь, что все время вместе проводите.
– И что? Грешно это? Она ведь моя сестра, прошу не забывать, и не виделись мы с ней много лет. Так что же в этом предосудительного?
– Да вот только говорят, что смотрите вы на нее совсем не как на сестру, да и она на вас – не как на брата.
– А как же? – Гоголь уже понимал ответ, но ему важно было вытянуть из Семена все до последнего слова.
– Как влюбленные. Хотя и нет греха, ежели двоюродная, неполнокровная сестра с братом в отношения вступает, да вот только поговаривают… будто родня вы по крови.
– Что за ерунда? Как это?
– Я и сам не верю, только говорят, будто маменька ваша еще при жизни Василия Афанасьевича с крутым нравом его брата сладить не смогла, да и… Василий Афанасьевич, упокой Господь его душу, всегда был добр ко мне, и я и мысли такой допустить не могу, только вот вы сами спросили. И потому выходит, будто родственники вы самые, что ни на есть, прямые, а связь между вами… греховная. Вот и смотрят на вас так, будто чертей увидали.
– Так. Очень интересно. А что еще говорит твоя милая дворня?
– Вы напрасно ее милой ругаете. Дыма-то без огня не бывает. Так и говорят, что всю жизнь знавший об этом Василий Афанасьевич жить-то с этим не мог, да будто бы и сам отдал Богу душу. А еще хуже – может, брат-то родной и помог ему. Верить в такое трудно, да и чего не придумают люди от безделья, да темноты, что в здешних краях царит. Только в то, что Иван Афанасьевич мог брата своего к праотцам отправить, я каким-то тайным умом верю – вижу, как неоправданно жесток и суров он к людям, и потому представляю и как будто сильнее его ненавижу.
– Как-то странно. Речь вроде шла обо мне, так почему ты начал-то именно с Яновского? Он каким боком здесь?
– Я так рассудил. Богу – богово, и нам знать того невозможно, что на самом деле происходило перед вашим рождением, да и после, когда ушел от нас Василий Афанасьевич, добрый и прекрасный человек. И, если вдруг по божьему промыслу и разумению станется так, что вы – его сын, о чем я вас только что уведомил, как бы я стал вам рассказывать гадости про родителя вашего? Вдруг бы вы поверили в это и осерчали на меня еще пуще за правду, которая внутри меня огнем горит, как наружу просится? А так выходит, что я вам вперед рассказал, что думал и видел, а уж после о родстве вашем возможном. Значит, я не отца вашего обругал зазря, а только дядьку, о котором вы и разумения не имели столько лет, пока в Петербурге жили. Потому и выходит, как будто не за что вам особо меня ругать…
Философия Семена несколько повеселила писателя, но сильно насторожило его сказанное им, пусть даже это и было всего лишь слухи. Изможденный болезнью и переездами организм писателя не был еще готов к тому, чтобы здесь, в родных своих пенатах, подобными откровениями плевали ему в лицо, потому слова эти произвели на Николая Васильевича грустное, угнетающее воздействие. Видя, что он спал с лица после очередного возвращения из поместья Яновского, Мария Яновна решила осведомиться у сына о причинах его смурного настроения.
– Скажи, – писатель решился заговорить с матерью откровенно, – а какие отношения связывали вас все годы, что отца нет на свете, с Иваном Афанасьевым?
– Обычные, родственные, – несколько волнуясь, отвечала мать. Он не ожидал другого ответа, больше его занимала ее реакция на те слова, что будут им сейчас сказаны. – А почему ты спрашиваешь?
– Просто говорят, будто вы состояли в интимной связи, да еще и при жизни отца. А еще говорят, что я внебрачный сын Ивана. Это так?
– Господи, откуда ты только нахватался подобных глупостей?
– Дворня говорит, а дыма без огня, как известно, не бывает.
– Эту дворню Иван сечет, да мало. Следовало бы еще, как раньше, на колья сажать для ума. Наговорят черт знает что, а ты и поверишь. Ты, Николенька, слишком мало жил у нас, не знаешь здешний народец. Это с виду он добрый и покладистый, а чуть копни – греха не оберешься. Советую тебе поскорее выбросить эти мысли из головы, ибо они ложь и дрянь. А дрянные мысли приводят в ад – ты ведь у нас теперь человек религиозный…
Мария Яновна шутила, и писатель быстро подхватил ее шутку, но в глубине души его засела реакция матери на эти, не стоящие выеденного яйца, слухи. Они разозлили и очевидно взволновали ее. На пустом месте такого бы не было. Терзаемый предположениями и неразрешимыми сомнениями, писатель в эту ночь тщетно пытался уснуть – веки его сомкнулись только, когда первые петухи в округе заголосили утреннюю свою песню. Снова перепутался у него день с ночью, что не сулило его не окрепшему здоровью ничего хорошего.
Глава третья. Душа поэтов
Всякий раз, когда приезжал Николай Васильевич в имение Ивана Яновского, он волей-неволей заставал Хому Брута в компании Александры. Так уж сложились обстоятельства, что вернулись они в родные пенаты одновременно – и оба на побывку. И из двух этих заезжих земляков Александра предпочитала Хому по вполне понятной причине – наследница рода Яновских, дерзких и себялюбивых, дочь своего отца, она предпочитала не подчиняться мужчине, не меркнуть на его фоне, а выделяться на нем и командовать. И, хоть Хома при виде писателя всякий раз ретировался и исчезал, настроения это Николаю Васильевичу не добавляло. Он все чаще думал о том, что симпатия его к сестре беспочвенна, и она всегда будет отдавать предпочтение крестьянину, хоть и не свяжет с ним своей судьбы, а все же властителем ее дум не этот, так другой Хома будет всегда.

Тарас Шевченко
«Что ж с этим поделаешь? Что с этим вообще можно поделать? И надо ли? Ведь каждому круг дается по изъявлению Господа – зачастую мы не вольны выбирать свое общество. Так не прижился я в Петербурге, как прижились здесь Александра и Хома, и всегда будут вместе, и разбивать их толку нет. Можно добиться того, чтобы она отставила бурсака, выгнала из своей памяти – но подсознание ее всегда будет здесь. Так уж вышло, поздно теперь, и возраст у нее не тот, чтобы порывать ту связь с родной землей, которую я порвал, будучи мальчиком, – думал писатель. – С одной стороны, ясно, что пары из этого мезальянса не выйдет. А с другой – ведь, если человеку что-то мило, то кто сказал, что и другому должно быть мило то же самое? Всегда ли черным является на деле то, что нам видится черным? Может ли другой человек видеть иначе? А кто разрешит этот спор? Только Господь. Ему одному ведомо, что в действительности является для человека благом, а что – злом. Так что же может наш утлый разум в сравнении с Разумом Высшим? Конечно, эмоций у нас не отнять – и реагировать на Его проявления мы можем по-разному, но факт всегда будет оставаться фактом, сколько ни силься подменить его своей убогой волей».
Во время каждого разговора с кузиной писатель неизменно мыслями возвращался к виденной картине и, с горькой очевидностью, приходил к выводу о том, что он ничего не изменит – не станет моложе и красивее, как Хома; не станет дозволять Александре класть на него ноги, как Хома; не станет убого мыслить, чтобы умилять свою возлюбленную, как Хома. Неизбежностью этой он тяготился, возвращаясь домой в подавленном настроении, которому не переставала дивиться сватавшая еще вчера молодых Мария Яновна. Но поделать с этим ничего не могла. Случалось еще, что по утрам, отправляясь в имение Ивана Афанасьевича, Гоголь надеялся, что все еще может быть иначе, и сегодня он не увидит сестру в компании полуграмотного бурсака, но надежды рушились и рушились. Не отдавая себе в этом отчета, в глубине своей души писатель начал было уже ненавидеть Хому и все крестьянское, связанное с ним – но, как только удавалось ему поймать себя на такой мысли, гнал он ее от себя нещадно, чтобы только не становиться похожим на дядьку.
И снова приезжал в Сорочинцы потерянным, разбитым, и снова будто бы отступившая болезнь начала хандрой возвращаться к нему. Семен пытался подбодрить барина словами о негожей связи его с ненавидящей простой люд сестрой, но тем самым только подливал масла в огонь – разве влюбленного так просто отговорить от чувств его потому только, что объект воздыхания не есть добрый человек? Любовь застит глаза, и тому, кто впитал ее в себя, уж никого на свете лучше избранника не будет, будь он хоть черт с рогами или ведьма с хвостом на зади.
Так бы все и было, и увял бы Гоголь на своей родине окончательно, если бы не одно событие, приободрившее измаявшуюся душу поэта. Узнав, что он пребывает на Родине, ему отписал Тарас Шевченко, путешествовавший в ту пору по Малороссии. Приняв приглашение Николая Васильевича, он вскоре приехал в Сорочинцы и гостил в имении матери писателя несколько дней. Все эти несколько дней сопровождались увлекательными беседами и размышлениями о будущем России и Украины. При этом Николай Васильевич не мог не сознаться земляку в тех чувствах, что в нем как в украинце, пробуждали его стихи и картины.
– Глубоко и истинно замечательно все, что вы пишете, – говорил Гоголь.
– Петербургские критики, меж тем, так не считают, – улыбаясь в густые моржовые усы, отвечал тихим голосом Шевченко.
– Так ведь они и меня последнее время не очень хвалят. А когда? Когда я, вместо словоблудия и пустого трезвона, взялся в комментариях своих к моему «Ревизору» объяснять его истинный смысл, утраченный и читателями, и критиками за ширмой легковесного чтения, сиюминутного развлечения.
– Получается, что вы, который, в отличие от меня, принадлежит к высшему свету, тоже тяготитесь им? Понимаете теперь, что сусаль зачастую уводит читателя и критика от главного, а когда тот видит главное, оно становится ему неприятно?
– Я это давно понял. Как понял и то, что я – писатель, а долг писателя не одно доставленье приятного занятья уму и вкусу; строго взыщется с него, если от сочинений его не распространится какая-нибудь польза душе и не останется от него ничего в поучение людям.6
– Читал, читал отзывы Белинского к вашему «Разъяснению «Ревизора», и был немало удивлен. Хотя, между тем, удивляться нечему. Русский человек как представитель любой огромной национальности, всегда страдает повышенным чувством исключительности собственного кружка. Оттого он отрицает вас с вашими моральными выступлениями, что вы в основе своей все же украинец. Как бы ни маскировалось истинное отношение русского к украинцу, какие бы длительные сроки ни выдерживала надеваемая ими маска, правде все равно выплыть – такова уж ее планида. И выплывает она, как правило, тогда, когда выходит из-под пера украинца нечто, что по морально-нравственной силе своей оставляет далеко позади творения столичных мастеров слова. И тут припоминают вам все – и прошлые недостатки, и авансовые похвалы, – и вовсе выясняется, что не такой уж вы великий и сильный писатель, как виделось это ранее. Причем, пишут те же, кто вчера хвалил. Только национальная идея и национальная же рознь – в основе такой критики.
– Однако, – задумчиво парировал Гоголь. – Мне никогда бы не показалось в обычной жизни моей, что проживалась рядом с Белинским и Чаадаевым, что они видят проблемы моего писательства в моей национальной принадлежности…
– А между тем, это так! Отмечая достоинства моих стихотворений, они в один голос говорят, что это – не малороссийское, но слишком украинское творчество. Их задевает самостийность и самостоятельность нашего народа, который вовсе не является производным от русских, но представляет собой смешение и польских куренных традиций и языка, и исконно украинских, и русских – в какой-то степени. Он особ, и потому не похож ни на один другой, хотя имеет сходство со многими. Это надо понимать, уважать, с этим надо считаться… Вот взять вас. Ваши замечательные миргородские повести – что может быть прелестнее в глубоком океане творчества столичных бумагомарак? А между тем, похвалы они заслужили намного меньше, чем те же велеречиво-пространные «Мертвые души»! Почему так? А спросите простого читателя, а тем паче, живущего здесь, на нашей с вами родине – мил ли ему этот ваш сборник? Да вас на руках станут носить за него, уверяю! А в Петербурге отругают! Впрочем, вы и сами это понимаете. А сюда, говорят, приехали, чтобы собрать материал для второго такого же сборника?
– В какой-то мере, – опустил глаза Гоголь. – Вообще, я приехал сюда лечиться от малярии, что поразила меня в Иерусалиме…
– Вы были в Иерусалиме?
– Да, несколько дней. И нашел там копье Лонгина…
– Как?! – искренне удивился Шевченко.
– Не слушайте его, Тарас Григорьевич, – в разговор вмешалась сидевшая за столом Мария Яновна, достаточно критично относившаяся к очередному религиозно-ментальному колебанию в сознании сына. – Николенька отыскал там какую-то железку, и теперь вообразил себя пророком в своем Отечестве, коего, как известно, быть не может…
– Кто это сказал? Тот же русак Пушкин! Уверяю вас, Мария Яновна, что ваш сын и есть пророк. Настоящий пророк судьбы Украины, которая болью отзывается в сердце каждого из ее сыновей. А вас, Николай Васильевич, заклинаю как можно скорее приступить ко второму сборнику украинских повестей- они у вас прекрасно получаются. И сразу излечитесь, это уж точно! Ведь что может быть лучшим лекарством для художника, как не работа?!
– Но ведь здесь я лишь собираю материал. Работать полноценно здесь не получится, все время что-то будет отвлекать.
– А в Петербурге? Там светская жизнь не станет препятствием к творчеству?
– Отнюдь. Сами же говорите, критики практически отринули, отторгли меня.
– Тогда уезжайте! Если создание шедевров требует этого, уезжайте в столицу! Любую цену за новые произведения великого Гоголя!
Шевченко, как истинный поэт, говорил громко, звонко, чеканя слова и наполняя их такой прекрасной поэтической составляющей, что казалось, будто слушаешь песню, а не речь простого крестьянина, коим он был до окончания академии художеств, где учителем его был сам Брюллов! Он, даже будучи сам в незавидных жизненных обстоятельствах, всеми и отовсюду гонимый, умел будто бы морально вооружить собеседника, сподвигнуть его на великое, на борьбу нравственную и физическую, если надо – и с самим собой. Оттого и боялась его жесткая, но пугливая палка Николая Палкина7, что в его национальном сознании была удивительная способность пробудить народ к огню, к восстанию, что всегда было страшным сном безумного русского царя.
– А кстати, – внезапно перевел он тему разговора. – Почему вы, украинец, представитель редчайшего и древнейшего дворянского рода, скрываете вторую фамилию? Отчего не подписываетесь ею в назидание нашим доморощенным петербургским русофилам?
Сейчас, за столом, Гоголь отмолчался, но после, когда они с Шевченко отправились на прогулку, под сенью лип, сознался ему в том, что н всех представителей рода Яновских считает достойными, приведя в пример дядьку и его отношение к крестьянам.
– Видите ли, я сам из крестьян, и потому мне изложенные вами факты импонировать не могут. Но родню не выбирают – это раз. И второе- вы, кажется, уже поняли, как важна национальная идентичность в сегодняшней России. Своих за преступления перед своими мы после побьем, а пока все мы, украинцы, если хотим отстоять национальное единство и народную мысль, должны сплотиться. И всегда мы делали это – еще задолго до Богдана Хмельницкого – под знаменами дворян, к числу которых относятся и Яновские. Умоляю вас, верните в подпись вторую фамилию. Сейчас это особенно важно!
– Что ж, обещаю вам подумать над этим.
Поэт улыбнулся.
– Знаете, не хочется злоупотреблять вашим гостеприимством, да и дела срочные. Я не планировал посетить вас, но, коль скоро у нас не было времени свидеться в Петербурге, решил, что лучше малой родины для этого места не сыскать. Так что, с вашего позволения, я завтра утром буду собираться в дорогу. – Гоголь хотел было что-то возразить; ему очень не хотелось расставаться с этим талантливейшим и прекрасным во всех личностных отношениях человеком; более того, он чувствовал, что излечившее его сплин общество поэта нужно ему как воздух, и в его отсутствие он тут зачахнет. Но Шевченко, обычно уступчивый, видя его порыв, оставался неумолим. – Видите ли, мне необходимо еще повидать родных в Киеве. – Поэт был неумолим, видимо, его и впрямь тянуло срочное дело. Николай Васильевич знал, что в Киевской губернии в имении одного из помещиков живут его родные братья и сестры. Они были там крепостными. Входя в его положение, писатель смирился с отъездом гостя.
Чуть позже, после ужина, Шевченко объяснил истинную причину отъезда:
– Со всяким иным я бы слукавил. Предпочитаю не распространяться о своей личной жизни и считаю, что поэта познают по книгам, а писателя – по картинам. Но с вами не быть откровенным просто невозможно. Видите ли, не так давно я познакомился с дочерью киевского генерал-губернатора князя Репнина, Варварой. Между нами завязалось короткое знакомство, коих я имел великое множество и в Петербурге, но ни одно не заходило так далеко. Ни с одной из барышень не было у меня такого единодушия в чувствах и мыслях, и потому… Думаю, вы как выдающийся сын Украины, тонко чувствующий поэт и писатель поймете меня…8
– Но я не поэт, – улыбнулся Гоголь.
– Скажите об этом тому, кто не читал вашего «Кюхельгартена», господин Алов, – ловко отшутился Шевченко. – Так вот, будучи уверенным, что вы поймете меня, рассказываю я вам это. Рассказываю также и то, что, принадлежа к дворянскому сословию, Варвара – человек все же чувствующий и проявляющий глубокое понимание к моим работам и сострадание к моим героям и их прототипам в реальной жизни. Я все же надеюсь, что мое общество и моя… – он замялся, – мое тепло превратят ее в достойнейшую женщину не своего, но будущего прекрасного времени всеобщего равенства.
– Не продолжайте, умоляю вас, – Гоголь подумал о том, что мечты поэта останутся лишь мечтами, и что он сам только что напоролся на обратную истину, но в последнюю минуту решил промолчать. Потому только, что как человек тонко чувствующий, что верно было замечено Шевченко, он осознавал действительное значение слова любовь, веру в которую внутри такого человека он просто не имел права разрушить злым своим словом. – Верю, что вы будете счастливы, и потому с легкой душой отпускаю вас. Обещайте только, что отпишете мне по возвращении в столицу и станете первым рецензентом того сборника, который сами напророчили. Посвящу его вам.
Шевченко посмотрел ему прямо в глаза и расплакался, так трогательно звучали его слова. Они горячо обнялись и отправились спать, а утром Шевченко стал собираться. Гоголь решил напоследок ему услужить – и дал в сопровождение слугу Семена, чьи родственники жили в том же имении, что и родня Тараса Григорьевича. Сославшись на то, что дождется его у матери, Николай Васильевич отправил Семена вместе с Шевченко, а сам к тому же вечеру собрался и отбыл в Киев поездом. Несмотря на все увещевания матери и незнание Александры об отъезде, он принял решение взяться за перо по совету великого «Кобзаря», а для этого ему требовались уединение и покой. Он никак не мог найти их в Петербурге, и потому сразу по прибытии сел на пароход и отплыл в обожаемую им Италию, которая уж не раз спасала его от физической и нравственной смерти и щедро одаряла вдохновением. Пусть же и сейчас станет она началом чего-то великого и замечательного в жизни Николая Васильевича!