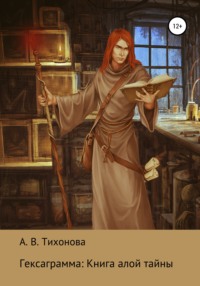Полная версия
Серебряные небеса
Мне отчётливо запомнился необъятный, громоздкий, с такими толстыми нитями грибницы, пронизывавшими почву и отчётливо различимыми, будто вены под тонкой кожей, что, казалось, весь остров держится на них, заметно очень старый, довлеющий над остальными, будто царь или местное седое божество, великан. Его верхушка была столь огромна, что между пластинами поместился бы улей, или даже птичье гнездо. При том, что они шли часто и, учитывая пропорции, относительно плотно друг к другу – даже на глазок в этом не имелось никаких сомнений. Кроме того, монстр наталкивал на предположение, что смог развиться в это не иначе, как срастив аж несколько грибных стволов, и "шляпка" подтверждала теорию многосоставности – я, даже находясь далеко внизу, отлично различал эти стыки. Гриб-король был явно во всех смыслах выше любых одобрений или порицаний, преклоняющиеся перед ним толпы даже не помешали бы ему – не тот случай, когда свита играет роль для образа правителя. Мы двигались вдоль него по широкому плоскому кольцу, напоминающему диск вокруг планеты, опоясывавшему ствол, на протяжении, пожалуй, нескольких минут – я не считал тогда, но мне так представляется. И – так и не добрались до противоположной его стороны, просто ушли на вздымавшийся рядом бугор маленького, лишь немного выше меня, грибочка. Слишком уж мы ощущали себя тревожно и неуютно в такой близости от монументальной громады этого чуда природы – того гляди, прихлопнет назойливо копошащихся поблизости приблудышей. Хотя чтобы эта фантасмагорическая колонна хотя бы пошатнулась, требовалось двенадцатибалльное – вы, вроде бы, так говорите? – землетрясение.
Однако, внезапно открывшееся нам новое зрелище изгнало дурные предчувствия, захватив нас целиком.
– Ого, вот это да! – выдохнул рулевой, позабыв даже о том, что я его раздражаю. – Тугаравари, смотри, ты когда-нибудь видел такое?!
Грибы расступились вдруг, будто посреди их толпы из ниоткуда вывалился посторонний. Они с некоей опаской огибали мирное озерцо, чуть подёрнутое бледно-лиловой ряской. Огромные, сомкнувшие лепестки, глубоко дремлющие сочно-бордовые бутоны водяных цветов каа меланхолично плавали по всей поверхности, их было несколько восьмиц. Над почти зеркальной, ничем не омрачённой гладью подымались туманные фиолетовые испарения. Хмарь, как мне померещилось, даже дышала – она вздымалась и опускалась, сонно, мерно, флегматично.
– Не прикасайтесь ни к чему! – поспешно предупредил доктор и с не свойственной ему обычно суетливостью направился к водоёму. Набрав жидкости из озера в пипетку, он наполнил ещё одну пробирку.
– Сейчас я вам скажу, почему она такого оттенка… – бормотал он. Капнул внутрь каким-то препаратом, вода стала бесцветной. – О, ага! – улыбнулся доктор. – Это было моё противоядие. Теперь я могу с уверенностью утверждать, что весь этот лес питается гибельными миазмами отсюда! Споры местных грибов не представляют опасности сами по себе, но они прорастают в земле, пропитанной смертоносными дарами этого источника. Я вычленил бактерию, способную на такое, ещё когда изучал сырьё для моего препарата, и заподозрил её наличие здесь именно по воде – там, где она кишит, всё окрашивается в такие тона, насыщенность каковых зависит от плотности данных бактерий на куболорию пространства. Здесь цвет весьма насыщен, так что к озеру лучше вовсе не прикасаться.
Новость меня совсем не воодушевила. Это что же, получается, мы безвыходно застряли на острове, где не водится никакая живность, нет древесины, и вообще ничего нет? Мы не сможем пополнять запасы еды. Хорошо, хоть дистиллятор океанской солёной воды есть… Я сжал зубы. Ну, вот ещё я не сдавался обстоятельствам!
– Возвращаемся на корабль! – велел я, и мы покинули холодную, не предназначенную для визитов и съёмок красоту.
Наутро мы нашли Тахирашвари уже остывшим. Видимо, вера в то, что я смогу вывернуться из ситуации сам и выволочь команду, у него отсутствовала в принципе. Разочаровал я его, подвёл. Но у этого хотя бы не было семьи и близких родственников, один, как статуя на холме. Проклятье, это сейчас я такой спокойный и даже философствую, а тогда я разревелся, вынимая его из петли!
Немного оправившись от нового потрясения, мы произвели опыт. Оказалось, что грибы поддаются лазерной пиле, хорошо горят, отлично держатся на плаву. Доктор попытался выварить из них яд ради того, чтобы можно стало употребить в пищу, но ему это не удалось. Даже после двух часов варки, в результате которых мякоть гриба превратилась в сплошное жижеобразное месиво, самый маленький кусочек вызвал у вызвавшегося добровольцем для пробы вперёдсмотрящего длительное расстройство желудка.
Надо было куда-то девать трупы, юнга вполне ожидаемо начинал разлагаться и попахивать. Под куском парусины искривлённые агонией черты его лица были надёжно спрятаны и не воздействовали на нашу психику напрямую, но жаркий климат мы отменить не могли, и труп стремительно портился. Боцман подал идею, и мы, связав несколько грибных тел вместе, уложили и бедного мальчика, и отказавшегося от жизни рулевого на подобие плота, подожгли и спустили на воду. Везти их до Эстенции представлялось недосягаемой мечтой, и думали мы только о том, что последний оставшийся в итоге распластается на песке или под грибом бездыханный, и останется в таком положении, пока и скелет не истлеет. Остров явно стремился остаться нехоженым, непознанным, одиноким. Низкий, но, при этом, остающийся на самой грани слышимости гул напряжённого лазерного луча пилы, вгрызающейся в мясистые, полные собственного достоинства стволы грибов, казался звуком, объявившим войну тамошнему распорядку. Мы, никто из ниоткуда, пришли туда, куда нас не звали, и принялись насаждать свою деятельность. Неудивительно, что от острова ощущалось желание нас отторгнуть.
Атмосфера у нас воцарилась, что называется, "плесень сгрызла". Все таскались понурыми, чуть ноги волочили, и смысла в своих перемещениях откровенно не находили. Если ничего не изменить – я хорошо давал себе отчёт, что и их, одного за другим, окоченевшими обнаружу. Корабль застрял на мели – с места не сдвинешь, да и пробоина в боку не являлась зрелищем, созерцанию которого я бы жаждал посвятить себя всего, до скончания века.
Остров на карту полушарий планеты никто не наносил, но я примерно мог прикинуть, в какой части океана мы находимся, определить стороны света и рассчитать, как добраться до ближайшего материка, или, хотя бы, более гостеприимного острова. Итак, реальнее всего мне виделось достижение архипелага Шальти, всего-навсего следовало плыть на юг, пока не упрёшься в него – там даже безрукий первокурсник любого факультета корабельного дела не промахнётся. И вслепую не промажешь, он огромен. Архипелаг Шальти известен шелками и острыми приправами, там так сдабривают пищу, что с непривычки можно слизистую рта сжечь, и язык отвалится… Шучу, конечно, но доля истины тут есть. Их еду необходимо запивать, причём помногу.
Но я немного отвлёкся.
Плотов мы смастерили целых три, оставшиеся съестные припасы разделили поровну – и отбыли. Разумеется, эти плоты получились гораздо просторнее тех, что мы использовали для ритуального сожжения наших покойников, мы смастерили некое подобие парусов, разрезав на лоскутья корабельные, пристроили на подобие мачт, получившееся из подручных материалов, и даже относительно прочно. Никто не переговаривался, даже на те или иные определённые действия мы указывали друг другу безмолвно, характерными жестами, условленными в нашем флоте. Да, мы так и не вернули тот корабль, к слову, посудина, где мы сейчас сидим, другая, эта стоила втрое дороже, зато и борта у неё прочнее, и грузовместимость не в пример лучше.
Кто-то мог бы вменить нам в вину, что мы бросили остров в таком состоянии, не истребив угрозу и оставив ловушку для следующих несчастных – но ведь никто из нас никогда не рвался в герои, а Тиликалафи утверждал, что изготовить такое количество антидота, чтобы хватило на весь этот никем не востребоанный кусок суши, он не может. Что же до предупреждений на берегу – то, спеша оттуда сбежать, мы до них не додумались. Некоторые ратовали за то, чтобы сжечь грибную чащобу, но я не нашёл в себе дерзости отдать подобный приказ. Природная система острова внушала глубокую инстинктивную неприязнь, но разве разрешили нам вмешиваться в то, что не нами обустроено и взращено? Мне кажется, нельзя просто крушить на своём пути всё, что не понравилось. Остров не обязан был проявлять к нам, шумным и непонятным незнакомцам, гостеприимство, мы не входили в круговорот его сложившихся за бесчисленные века реакций.
Я плыл вместе с Тиликалафи. Маленький доктор выглядел понурым, из него будто выкачали всё то приподнято-восторжённое настроение, с которым он сновал по острову. Гребное весло в его маленьких руках выглядело громоздко и неуместно, он плохо подходил для этой тяжёлой физической работы, но всё равно вкладывался весь, хорошо представляя себе, что на кону. Я догадывался, что он сотрёт себе кожу на ладонях, прежде, чем образуются защитные мозоли.
– Скажите, а как вы могли быть столь уверены, что ваше медицинское средство будет действовать? – не сумел удержаться я от давно цеплявшего меня вопроса.
– А я ввёл его себе, а потом добавил в свою кровь бациллы, они там кишмя кишели, – застенчиво приподнял он самые краешки губ.
– Что?! Вы пошли на такой риск, зная, какое значение имеете для нас? – на какие-то краткие мгновения мне стало не хватать воздуха.
Он вздохнул и обстоятельно, будто беспросветному дилетанту, каким я, впрочем, вполне и являлся, пояснил:
– Я доверял своему образованию, накопленным мной самим знаниям и всей моей науке. Никакого риска не было. Я ведь знал, что, с чем и как сочетать, чтобы добиться верного результата. Клятва, данная мной в момент получения выпускного аттестата, запретила мне раз и навсегда пользоваться кем-либо живым в целях проверки любых гипотез.
– Но…
– Складывая две цифры – мы получаем всегда одно и то же число. Допустим, я знаю, добавляя единицу к единице, что тройка убьёт меня… Но таким вычислением тройку я никогда и не получу. Или, скажем, смешивание химикатов с известным результатом. Я – врач, я должен спасать других. Но кто поверит таблетке или микстуре врача, который сам в себе сомневается? Да, вы можете сказать, что лекарство действует вне зависимости от веры… Но без неё никто его не будет принимать! Во время моей практики пациентка, страдавшая, помимо своей болезни, уже убивавшей её, обострённой манией преследования, приняла нас за какие-то образы из воспалённой части своего сознания… Она скончалась на руках у меня и практикующего врача, принимавшего мой экзамен, потому что мы так и не убедили её, что принять лекарство будет лучше ожидавшей её участи. Случай, конечно, иной, но у нашего народа, запрещающего вмешательство без согласия проходящего обследование индивида, умение убедить значит бесконечно много.
Я закусил губу. Это и впрямь верно – ведь, убеди я команду заранее не ходить по острову в одиночку, тот мальчик бы не погиб. А, не подорви я расположение ко мне рулевого, переубеди я его – и тот не сгорел бы вчера, а плыл сегодня с нами. Моя слабость и глупость убила их. Конечно, ты можешь заявить, что они были совершеннолетние и сами отвечали за свои поступки – но я капитан, я взял их на определённых условиях, скреплял контракты, в мои обязанности входило уберечь их. Доктор, смешной умник, над чудачествами которого мы поначалу долго подтрунивали, ибо он мог одеться в несочетаемые цвета и перепутать перед и зад у штанов, ходил с этими своими щипчиками за ухом и причёсывался, только если его кто-то настоятельно просил – этот доктор проявил куда большую решительность и самоотверженность, чем я.
Он, кстати, единственный, кто остался со мной, когда мы добрались до суши, остальные заявили о том, что прерывают свои контракты и списываются, мы на скорую руку разделались с формальностями в ближайшей нотариальной конторе и максимально увеличили расстояние, пролегавшее между нами. Они даже не стали дожидаться, пока я подберу им замену… Да и можно было их понять. Капитан может чуть ли не целоваться с кораблём и облизывать его, а может громогласно и прилюдно обзывать лоханкой и корытом, но ни при каких обстоятельствах не должен покидать вверившее ему себя дерево, вобравшее в себя чувства обработавших его плотников, познавшее с хозяином дожди, ветра и волны, ведь это – почти личность. Да, всё, чему уделили время и силы, одушевляется, корабль – это породистый скакун и храбрый страж, напарник и утешитель. Я завёл в безвыходную западню и бросил своего питомца, подвёл всех, кто мне доверился, и, как ни цинично это прозвучит, лишь чудом потерял лишь двоих, а не всех. В сравнении даже с морскими разбойниками я проигрывал с разгромным счётом, и это стоило мне куда больше понижения капитанского рейтинга и попадания в самый низ, там, где кучковались неоперившиеся птенцы, штурвала в руках не державшие, да самые склочные, дурновоспитанные и овеянные наихудшей славой типы, кого бы, по-хорошему, и к ведру нельзя подпускать. Да, моя команда покинула меня, и я их совсем не винил – они не обязаны были терпеть выходки и провалы неоперившегося новичка, ожидая, пока я повзрослею и наберусь практического опыта. Если бы они даже настаивали на том, чтобы остаться – я бы им не разрешил. Я был на самой грани того, чтобы покончить с профессией навсегда. Если поначалу приключения казались мне забавными и увлекательными, то теперь я понял, что поплатиться могу чем-то большим, чем кратковременный испуг или незначительные путевые неудобства. Я играл чужими жизнями. Играл и потерпел поражение.
Улица, на которой располагался дом, где нас приютили, полого поднималась от океана, где располагались главный порт и рыбацкие особняки. На архипелаге зарабатывали добычей морепродуктов, и она являлась столь прибыльной, что каждый, кто профессионально занимался ею, мог позволить себе дом в несколько этажей и с целым садовым участком. Здесь выращивали плодовые деревья, в тот период сезона, когда там оказались мы, расцветавшие с буйной пышностью. Вдоль тротуаров тянулись живые изгороди – зелёные, жёлтые и розовые в большинстве своём, причём у жёлтых имелось преимущество. Изредка попадались красные, белые и бирюзовые. Это изрядно походило на некое соревнование, этими оградами очевидно хвастались. Любовь ко всему цветущему и утончённо благоухающему там сквозила из каждой щели.
– Вам нужны новые впечатления. Окунуться в незнакомые условия, вновь вкусить жизненные сюрпризы, – определил Тиликалафи, изучив потускневшие мои глаза и ссутулившиеся плечи. Выправка – одна из визитных карточек капитана, равно как и бодрость. Та самая сила убеждения одним лишь обликом. Если ты выглядишь тряпкой, слюнтяем или прохиндеем – кто к тебе пойдёт?
– Но как я могу? После…
Он понял меня без уточнения. Посмотрел на меня так, что я моментально осознал своё истинное положение – малолетнего духовно, даром что ростом и годами вымахал, сорванца, который испортил соседу окно, в то время, как отец много дней и ночей почти не спал и не ел, пытаясь изобрести вакцину против кожеедки, от которой домашний скот стадами мрёт. Ему бы мои переживания и мой уровень проблем – говорил взгляд моего врача, все признаки рассеянности или беспечности испарились.
– Я расскажу вам, как однажды встретил чудесного подростка. Он горел своими мечтами, его замыслы были, пожалуй, не выдающейся степени новы, но я склонялся перед естественной и похвальной жаждой этого парнишки увидеть и пережить как можно больше. Я бы отдал всё, что имел, имею и буду иметь, в качестве ставки в споре о том, что он многого достигнет. Путешествуем ведь мы не столько по планете, это вторично. Можно объехать весь свет, но ничего не понять и не вынести, а можно покинуть городскую черту и на полянке, самой простой и нелепой лесной полянке постигнуть смысл жизни и глубину красоты творения. Мы двигаемся к собственному сердцу и его секретам, познаём себя, открываем новое в том, чем, как нам кажется, мы владеем, а, на деле, лишь имеем при себе… Почему же этот мальчик опустил руки, сдался и ничего больше не хочет?
– Из-за меня погибли спутники, – горько прошептал я.
Тиликалафи улыбнулся и сощурился, его глаза переполняла одна лишь только доброта – и не сиюминутная, а доброта того, кто постиг всю тщету обиды и злости, гордыни и тщеславия.
– Я врач, – просто вымолвил он тихим, но веским тоном. – Я лечу других. Но у меня за спиной – могилы и пепел тех, на кого моих скромных дарований не хватило. Среди них – мои мать и сестра.
Я онемел и уставился на него.
– Вот и отлично, – поняв меня, удовлетворённо кивнул он.
Глава 3. Рисунки жизни
Эстенция, живая, дышащая, глянцевито блестящая, полупрозрачная, насыщенная светом и кристально чистым и свежим воздухом столица, выточенная словно бы из вступивших в любовный союз и в упоении слившихся воедино золотых и серебряных лучей величественных космических тел, озаряющих планету днём и ночью. Эстенция, город стекла и зеркал, шёлка и атласа, витражных орнаментов, хрусталя и белого мрамора, разноцветных узоров мозаичных плит десятков её улиц – плит, пропитанных ещё до их закладки синтетическими красками разных оттенков, играющих в горячих солнечных потоках всем изобилием спектра, встречала начало новых суток. Она была похожа на законодательницу фасонов, обычаев и мод, наряжающуюся для того, чтобы ослепить и сразить всех, покорив навсегда, безо всякого насилия принудив поклониться ей в пояс, выражая немое восхищение. Город контрастов и яркости, то ли предельной распущенности, то ли свободы для всех и каждого. Древний город изобильных праздников и вызывающей роскоши, высокомерный город шпилей, арок, колонн, барельефов, лепнины, творчества, радостный город фонтанов и галерей. Все знали Эстенцию, но никто не мог исчерпать всех её сюрпризов. Перламутрово-жемчужное небо будто пролилось на неё, приняв зримое воплощение бесчисленных дворцов, домов, похожих на храмы, и общественных заведений, выглядевших не хуже императорских замков и чертогов всесильных и величественных фей. А ещё – огромное количество высоких стрельчатых зданий, мигающих рекламой и визуальными показателями передачи сигналов связи – такие иглообразные башни, как правило, являлись новостными центрами или государственными учреждениями, предлагающими свои услуги. Гофра были сами не свои до построек, возносящихся на абсурдную высоту, и, учитывая площадь фундамента таких небоскрёбов, оставалось необъяснимым, как они не валятся даже просто от сильных порывов ветра, словно фишки домино… Эстенция занимала почти десять тысяч миль в поперечнике, имела кольцевые улицы и двадцать уровней, сужающихся кверху, и самое высокое её здание возносилось за тысячу шестьсот метров.
Фьяринка, или, если взяться за толкование тайных смыслов имён – "взыскующая мудрости облаков", с каким-то почти слепым остервенением терзала маленьким ножичком для резки бумаги очередной холст с неудавшимся наброском. Она никак не могла уловить идею, в каждой присутствовало нечто неправильное, недостаточное или избыточное… И совершенно не то, что соответствовало бы её видению желаемого конечного результата. За такие эскизы многие художники человеческой расы отвалили бы кругленькую сумму, ведь присутствовали на них и пропорции, и перспектива, и самобытность, и подобранные с большим вкусом и гармонией оттенки. Что угодно – кроме души, и для Фьяринки, как и для любого гофра, это разом обесценивало весь труд. Старалась она во всю мочь, из сил вон выбивалась, забывала поесть и попить, трудилась, не покладая рук… Но недоставало вдохновения. Что-то мешало ей, и она никак не могла разобраться, в чём состоит это затруднение. Может быть, она избрала сферу деятельности, не соответствующую её талантам? Но с раннего детства Фьяринка, тогда ещё только Фьяр, ничем другим не увлекалась. Глядя на окружающие её красоты природного или городского ландшафта, она точно понимала, какие краски ей потребуются, чтобы изобразить подобное. Просто видела это – раньше, чем даже выучила названия оттенков, научилась обращаться с палитрой или приобрела свой первый этюдник. Она замечала малейшую фальшь и в чужих работах… И это ли не призвание?
Примечательно выглядела её рабочая студия, более чем просторная, с высоким сводчатым потолком, вполне способная вместить в себе недурных размеров спортзал и служившая хозяйке помещения по совместительству не только постоянным обиталищем, но и портретно-пейзажной галереей, составленной ею же из собственных произведений – по каковой причине Фьяринка терпеть не могла приглашать кого-то сюда, и, если уж приходилось, встречалась где-нибудь ещё, или сама ехала к кому-то, даже если приходилось плестись на другой конец столицы. Комната хорошо проветривалась и освещалась, вид из окон был великолепен – ухоженный роскошный парк, а вдали – высокие серебристые шпили и сверкавшие в лучах дневного светила голубовато-белые купола торговых центров и государственных учреждений. Хотя, дворец, в котором собирались Президент – объект её давней и безнадёжной влюблённости, – и совет всех четырнадцати министров, был с такого ракурса и расстояния почти совершенно не виден, лишь кусок сверкающей, подобно льдистому сталагмиту, иглы уходил куда-то в небеса, пытаясь проткнуть их так, будто они были необъятно большим воздушным шаром. Кстати, именно этот Дворец и являлся тем самым восхитительнейшим и грандиознейшим сооружением Эстенции… Может, в этом всё и дело? Понимая, что её кажущаяся лишь на основе возможности наблюдать со стороны причастность к собраниям – лишь самоутешение и тщеславные грёзы, она чувствовала себя полностью разбитой, будучи лишённой и таких крох. Президент был гораздо старше и образованнее, чем она, и вокруг него всегда увивался целый сонм лизоблюдов и подхалимов, а Фьяринка слишком уважала себя, чтобы смешаться с этой галдящей и рукоплещущей толпой. Что ж, таков уж её выбор, сама поставила себя в сложившееся ныне положение. Кроме того, она хорошо давала себе отчёт в том, что господину Интикашвари подберут пару одного с ним круга и воспитания, равную по статусу, умеющую и подать себя для интервью, и организовать званый банкет, и распределить график мужа так, чтобы он всё успевал, но не перенапрягался. Та, что встанет рядом с ним, обязана дополнять его, не давать выронить бразды правления системой. Фьяринка о политике понятие имела самое смутное, на уровне гадания по народным приметам и суевериям. Она даже не всех министров по именам помнила, а назначение парламента пришлось бы ей искать в социальном словаре.
Хотя, если признаться честно хотя бы наедине с собой – она частенько воображала, как случайно столкнётся с Президентом где-нибудь на выставке, и он улыбнётся ей и окажется простым, по-свойски общительным мужчиной, и, одновременно, ценителем живописи. Показывая ему новинки, она сможет блеснуть своими обширными познаниями в данной области, он покормит её в приватной кабине экстра-класса чем-то экзотическим, и она будет выглядеть смешно, но этот инцидент ничего не испортит, а, наоборот, сблизит их… А, в завершение, он позволит ей написать его портрет в полный рост с натуры. Этот портрет она повесит в прихожей, как памятный сувенир о самом лучшем свидании в мире, хоть в нём, казалось, не отыскалось бы ни капли романтики.
Закончив расправу над холстом – кисточку ей хватило ума не ломать, и краски, проглотившие при их покупке все её последние сбережения, не разбрызгивать, – Фьяринка в изнеможении уселась прямо на пол. Её лёгкое, соответствующее сухому и тёплому сезону, зелёное платье должно было от этого помяться, но на такие мелочи она уж точно сейчас решительно плевала. Тугой пучок на затылке распустился – заколка в виде цветка красной лилии расстегнулась, – и соломенно-жёлтые локоны рассыпались по плечам, несколько прядей завесили раздражённое и расстроенное лицо.
Для гофра отсутствие настоящего самовыражения звучало как синоним медленной и мучительной смерти. Кроме того, Фьяринка принципиально не использовала для бартерного обмена, принятого у них в качестве оплаты всех предметов и благ, свои картины, а других ценностей у неё почти не осталось. Скоро не на что окажется питаться, и негде спать, ибо студию государство отнимет в качестве компенсации за тунеядство. Ничего не приносишь городу – тебя будут лишать имущества… Или заберут её рисунки, что ещё хуже – по крайней мере, в её восприятии. Лучше было умереть, но обязательно вместе с ними, неотъемлемой частичкой её личности, важным элементом самоидентификации во времени и пространстве, поскольку каждая работа символизировала определённые этапы прошлого Фьяринки, и оттого превращалась в незаменимую. До сих пор она отдавала преимущественно наследство, оставленное ей бабушкой и матерью. Тех уже давно не стало – к несчастью, для гофра, цикл бытия в тридцать, максимум – сорок лет являлся пределом долгожительства; да и четырнадцать полных самой Фьяринки были вполне себе состоявшейся зрелостью. Оттого Гофра так и стремились запечатлеть память о себе в лучших проявлениях своих талантов… Но от тех изначально небогатых "сокровищ" практически ничего не осталось. Бабушка была флористом, мать – ювелиром, а она… Она жалеет свои поделки. Или втайне считает их настолько недостойными, что уверена, будто ничего на них не дадут, а её самооценку безвозвратно уничтожат? Прячется от большого и безжалостного мира в четырёх стенах, ласково гладя свои бесценные холсты, плоды многих часов работы… Разве это правильно? Разве она начинала трудиться не для того, чтобы поделиться со всеми?