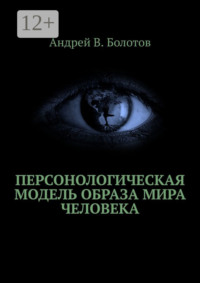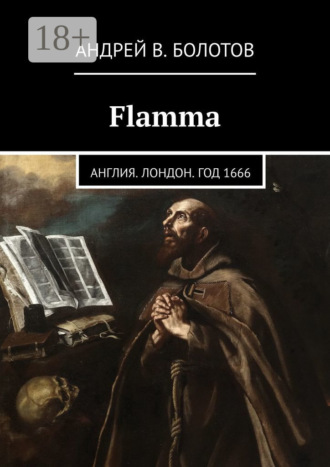
Полная версия
Flamma. Англия. Лондон. Год 1666
– Несчастный?! – с выражением крайнего и теперь уже явного отвращения, пробормотал он. – Как бы ни так! Поделом ему. Мне даже жаль, что кого-то, быть может, казнят за доброе дело: вот кто будет действительно несчастен.
– О чем это вы? – спросил сыщик, не переставая удивляться этому человеку. – Вы, что были знакомы с погибшим?
Сторож понял, что сболтнул лишнего.
– Ну, не то чтобы знаком…
– Нет, вы знали его, – с нажимом сказал Дэве. – Знали и ненавидели…
– Его все ненавидели! – раздраженный тем, что его снова подозревают, вскричал сторож и, заметив, что привлек этим криком внимание толпы, широким жестом указал на собравшихся во дворе людей. – Можете сами в этом убедиться.
Толпа зашевелилась, почувствовав возможность самой поучаствовать в следствии, и людским потоком хлынула в сторону Адама Дэве и сторожа с похвальным намерением оказать содействие полицейскому констеблю, а вместо этого чуть было не задавив его. Чтобы волнение не переросло в нечто большее сержант во главе своей пары стражников спешно бросился успокаивать людей. Единственным действенным средством для этого было предложить им вопросы, которых они ожидали. И общая ненависть, как ни странно, утихомирила народ: сторож оказался прав – покойник был здесь широко известен и далеко не с лучшей стороны. Люди, перебивая друг друга, осыпали представителей городской стражи жалобами, словно позабыв, что их обидчика уже постигло наказание в виде насильственной смерти. Ничуть не смущаясь тем, что он – мертвый, – лежит рядом, его называли грязным пьяницей, сволочью и бабником, только стыдливо краснея на наивный вопрос «Почему?», задаваемый растерявшимися в этой буре сквернословия военными.
Наконец кто-то произнес:
– Даже не верится, что у такого паршивого человека, такой святой племянник!
Адам Дэве, в котором начал просыпаться интерес, поспешил ухватиться за эти слова.
– У погибшего есть племянник?
– Точно так, ваше превосходительство, – отвечал сторож, ни на шаг от него не отходивший. – Священник (кстати говоря, в этом самом соборе настоятельствует) и действительно святой человек, к тому же доктор, и, да простит меня мой друг, хоть он и сам того же мнения, – наиискуснейший.
Человек в черном благосклонным кивком подтвердил, что не обиделся и признает, как превосходство над собой лекаря из собора, так и истину слов сторожа. Но Адам Дэве, узнав все, что ему было нужно, больше не обращал на них внимания. Он уже протискивался сквозь народ к группе, стоявших обособленно от толпы, священников. Они выглядели весьма озабоченно и с беспокойством поглядывали вокруг, видимо осуждая такое непочтительное отношение народа к мертвому, душа которого в этот момент, должно быть, предстает перед самим Господом.
Поприветствовав достопочтимых служителей собора вежливым поклоном и получив в ответ такой же, но более церемонный и сдержанный, Дэве изъявил свое желание встретиться с настоятелем.
– Его преподобие архидьякон Люциус Флам не может выйти к вам, – отвечал, выступив вперед один из причетников. – Ему нездоровится.
– Вот как? А не будет ли с моей стороны навязчивостью поинтересоваться, в чем недуг господина архидьякона?
Причетник замялся, явно не зная, что сказать, однако изысканная вежливость, с которой был задан вопрос, требовала на него ответа.
– Позавчера во время своей вечерней прогулки его преподобие отец Люциус поскользнулся и упал с моста в реку, – проговорил священник и, чувствуя по воцарившемуся вокруг молчанию, что ему не верят, тем не менее, продолжал: – Каким-то чудом его преподобие тут же прибило к берегу, и когда несколько горожан принесли его в собор, он был весь в грязи, мокрый, без сознания, но живой. Мы омыли его, переодели и уложили в постель занимаемой им кельи. Всю ночь он бредил, шептал, что-то о падении, а на утро, кажется, решил, что все это ему… приснилось.
Причетник еще не закончил говорить, а Дэве уже пристально смотрел на него не в силах понять бестолково или же просто издевательски тот врет, ни минуты, при этом, не предполагая, что все это может оказаться правдой. Священник нерешительно оглянулся на товарищей, будто ожидая от них подтверждения своих слов, но встретив лишь смущенные взгляды, растерянно опустил голову. Всё присутствующее во дворе собора общество также дышало недоверием, когда среди общего замешательства раздался тихий, но донесшийся до всех и каждого, возглас:
– Разве у кого-то есть повод сомневаться в словах служителя церкви?!
Слова эти были сказаны с таким напором и твердостью, что люди стали невольно оборачиваться в сторону человека их произнесшего; а узнавая его, склонялись в почтительном поклоне. Это, облаченный в длинную черную сутану, подчеркивавшую его бледность, прихрамывая на левую ногу, медленно выходил из собора архидьякон Люциус Флам.
Скрываясь в тени портала, он слышал все сказанное Павлом и поначалу не понимал, что заставляет причетника лгать. Он боялся, что тот подозревает (или того хуже – знает) о его причастности к преступлению и почему-то скрывает это.
«Ведь он провожал меня, когда я собирался к Скинам, – думал Люциус, – и должно быть дожидался моего возвращения в своей келье. Даже если он выходил из собора, из-за тумана он не мог видеть, того что происходило в глубине двора. Но время, когда я вернулся, могло натолкнуть его на мысль о моей виновности в этом убийстве».
Тревожное чувство закралось тогда в сердце священника. Но двенадцатое февраля непонятным образом выпадало из памяти архидьякона, а сопоставляя свой сон с рассказом Павла, он все более убеждался в его правдивости, вместе с тем успокаиваясь относительно того, что могло быть известно Павлу об убийстве.
Теперь он мог опасаться только Адама Дэве. И выходя из тени собора, с взглядом, горящим подобно взору идущего на битву война, он выходил на словесный поединок с полицейским констеблем, который сам того не осознавая начал сражение весьма ощутимым ударом по противнику.
Дело в том, что пока Люциус собирался с мыслями, понимая, что в этом бою ему придется только обороняться, к Адаму с разных сторон одновременно подбежали оба рядовых солдата городской стражи. Один из них подтвердил слова Павла, умудрившись найти в толпе человека помогавшего отнести архидьякона в собор после его падения в реку, а другой, тихо прошептал на ухо полицейскому несколько ни кем не расслышанных слов. Впрочем, констебль лично позаботился тут же довести их до суда общественности.
– Однако я счастлив узнать, что плохое самочувствие не помешало его преподобию отправиться вчера вечером к человеку видимо более изнуренному болезнью, чем он сам, – сказал Дэве, и чуть повернувшись, предоставляя миссис Скин возможность выйти вперед, добавил: – По крайней мере, так говорит эта женщина.
Ее появление заставило архидьякона едва заметно вздрогнуть: она была еще одним человеком, который сопоставив время, мог прийти к выводу о его виновности в преступлении.
– Мне показалось, сударь, будто в ваших словах промелькнул скрытый упрек в мой адрес, – без тени волнения, но не спуская с миссис Скин настороженного взгляда, проговорил Люциус. – Вы ставите мне в вину желание помочь нуждавшемуся во мне больному, пусть даже сам я чувствовал себя в тот момент, мягко говоря, неважно?
Человек в черном сделал коллеге одобрительный жест, а в толпе раздался восхищенный шепот: благородное величие его слов произвело хорошее впечатление; и вопреки своим ожиданиям архидьякону удалось, обороняясь перейти в нападение. Встревоженный таким поворотом событий Дэве поспешил исправиться, не оставляя при этом надежды поймать священника на какой-нибудь мелкой оплошности:
– Ну что вы! Как можно?! Мне просто любопытно, насколько серьезной должна быть болезнь одного и насколько ничтожным недомогание другого, чтобы второй страшным туманным вечером отправился на помощь к первому и пробыл там ровно до полуночи, то есть почти до того самого времени, когда по мнению доктора и произошло убийство?
Доброго священника и врача внимательного к несчастьям простого народа здесь очень любили и уважали, а в этом вопросе, хоть и завуалированном изрядной долей вежливости, так явно сказалось подозрение, что шепот в толпе стал быстро преображаться в недовольный гул не приглушенных голосов. Но Люциус, зная, что для полицейского мнение обычных людей далеко не так важно, как точные показания свидетелей, в который раз посмотрел на миссис Скин. И когда его вопрошающий взор встретился с ее выжидающим взглядом, он понял, что единственный способ скрыть одну правду – утаить другую.
– Во-первых, сударь, – начал архидьякон самоуверенно резким тоном, – даже не смотря на то, что кожевник всего лишь лихорадил, я, тоже будучи не столь безнадежно болен как вы должно быть себе вообразили, был обязан своим посещением успокоить семью больного и его самого, а также уверить их в том, что болезнь эта не опасна.
– Сами понимаете, – вставил кто-то. – Такое время!.. любая хворь вызывает опасения. А вдруг, не приведи господь – чума!
– К тому же, – продолжал Люциус, легким кивком поблагодарив неизвестного за поддержку, – вы должно быть неверно информированы, ибо я вернулся в собор задолго до двенадцати. Во всяком случае, возвращаясь, я не слышал, чтобы, где бы то ни было, пробило полночь.
Сказав это, он устремил в сторону миссис Скин выразительный взгляд, как бы требуя взамен того, что он ни словом не обмолвился об отравлении, подобной же услуги. Та, незаметно наклонив голову, дала знать, что поняла и согласна.
– В самом деле, ваше превосходительство, – подхватила она, – я сказала только то, что вчера вечером преподобный отец из Собора святого Павла осматривал моего больного супруга и довольно поздно покинул нас; и только… – притворяясь неправильно понятой, говорила эта женщина. – Его преподобие ушел от нас пешком, и мы очень беспокоились, поэтому, сегодня я пришла в собор проведать отца Люциуса и еще раз выразить ему нашу признательность. Понятно: увидев здесь толпу и услыхав толки об убийстве, я испугалась за человека с такой чуткостью отнесшегося к нашему горю; тут спросила, здесь поинтересовалась, там слово сказала, ну оно и пошло – судачить стали, а ваш помощник уж тут как тут, навыдумывал себе невесть чего и сразу вот к вам потащил.
Разбитый по всем пунктам Адам Дэве, кусая губы, направил взор полный немого упрека на раскрасневшегося то ли от холода, то ли от стыда, то ли от ярости стражника. Люциус Флам наоборот, сумев привлечь на свою сторону двух самых опасных после Дэве (а может быть, включая Дэве) людей: одного – наивной верой в свою непогрешимость, другую – знанием ее тайны; был как никогда спокоен, и следующий вопрос полицейского уже не таил для него угрозы.
– Если ваше преподобие вчера были в состоянии совершить поездку на Флит-стрит и пешком вернуться обратно, почему же сегодня, мне сказали, что вы больны и не можете спуститься, чтобы просто ответить на несколько вопросов? Это притом, что вы таки спустились и даже изволите отвечать?
– Наверно потому что сегодня мне стало хуже, – отвечал архидьякон, своеобразным жестом обращая внимание констебля на свою хромоту и нездоровую бледность. – Возможно как раз таки после упомянутого вами пешего возвращения, ведь было сыро, да и путь неблизкий. Что же до моих братьев-священнослужителей… – продолжал он, – вы должны простить их: если они немного преувеличили, то только из-за порой излишнего беспокойства о моем здоровье.
Но Дэве неспроста задал такой вопрос. Отступая, он готовил себе пространство для последнего – решающего удара.
– Значит, вы действительно плохо себя чувствуете? – изображая удивление, переспросил Дэве, и как-то поникнув, сказал: – В таком случае мне будет еще более неудобно огорчать вас неприятным известием, которое я имею несчастье сообщить вам. И я заранее прошу у вас за это прощения.
Он сделал паузу, как бы не решаясь продолжить.
– Что такое? – насторожившись скорее притворством констебля, нежели его намерением сообщить нечто неприятное, спросил Люциус.
– Как ни прискорбно это говорить: сегодня ваше преподобие потеряли убитым родного человека.
Дэве сказал это, старательно делая вид, будто избегает смотреть в глаза несчастному, которому только что сообщил о смерти родственника, хотя на самом деле был готов заметить любую мелочь способную выдать его. Но, ни малейшее облачко не затуманило лица архидьякона, ни малейшая тень не омрачила его чело, и все чем пришлось довольствоваться Дэве при всей его наблюдательности – едва заметный налет грусти в голосе Люциуса холодно произнесшего:
– У меня больше нет родственников! И если вам, сударь, было угодно подшутить над моим горем, знайте – такие шутки отвратительны!.. и не делают чести тому, кто осмелился произнести их.
В толпе снова повисло молчание. Народ был уверен, что убитый ни кто иной как Алджернон Пичер – дядя его преподобия отца Люциуса, но в то же время хорошая репутация архидьякона и его твердая уверенность в своих словах не оставляли повода для сомнений в том что он сказал правду или, по крайней мере, искренне считал сказанное правдой. Так как одно, в данном случае, противоречило другому, возникло недоумение. И мнение людей привыкших верить больше глазам своим, чем ушам склонилось не в пользу Люциуса. Однако Адам Дэве имевший, казалось бы, поболее других оснований уличить архидьякона во лжи не мог этого сделать. Не мог только потому, что сам, будучи человеком достаточно умным, он никогда не рискнул бы заподозрить другого человека в такой глупости, как отрицая очевидное, упустить из рук уже почти одержанную победу. И хотя Дэве был доволен тем, что авторитет Люциуса в глазах народа заметно пошатнулся, он не испытывал радости: здесь не было его заслуги, здесь не было ошибки противника, здесь было… какое-то недоразумение.
Схватив архидьякона за руку, констебль быстрым шагом, увлекая за собой священника, двинулся сквозь расступавшуюся перед ними толпу к брошенному всеми трупу.
– Узнаёте? – коротко, но достаточно громко, чтобы все могли его слышать, спросил Дэве, указывая на посиневшее бездыханное тело.
Он вперил свой тяжелый, почти ощутимый, взгляд в лицо Люциуса, собираясь уловить все оттенки его реакции на это зрелище. Он надеялся увидеть смущение, чувство вины, что угодно лишь бы это дало ему возможность обвинить архидьякона в убийстве или хотя бы зацепиться за подозрение. Но и эти надежды пошли прахом: неподдельное удивление и боль отразились во всем облике священника; у него задрожали губы, а без того бледное лицо архидьякона пошло серыми пятнами. Сегодня, при свете дня, будто озарившем глубины его памяти, ночью сокрытые тьмой, он узнал барона Анкепа, который вчера показался ему лишь смутно знакомым.
Архидьякон отступил на несколько шагов, будучи не в силах оторвать взгляд от мертвого тела дяди; затем резко развернулся и, не говоря ни слова, скоро исчез в соборе, оставив растерянную толпу, ошарашено переглядываться с самым непонимающим видом. Никто не мог объяснить странного поведения отца Люциуса, но никто не бросился за ним вдогонку. Все видели ту гамму чувств архидьякона, которая проявилась на его лице, неприкрытая даже намеком на притворство, и говорила лишь о страдании. Не упустил этого и Адам Дэве: констебль выглядел больше всех растерянным. Он перестал что-либо понимать.
Скоро в арке главного портала собора вновь появилась фигура архидьякона. В руках он нес лист бумаги, который, молча, подал Адаму. Дэве прочитал письмо и, заметив, что сторож пытается проделать то же самое, выглядывая у него из-за спины, протянул письмо сержанту стражи, чтобы тот прочел его вслух – для всех. Это письмо оказалось уведомлением о смерти Алджернона Пичера, и было датировано… одиннадцатым февраля. Констебль, уже успевший ознакомиться с письмом, не слушал сержанта громким раскатистым голосом, хорошо слышимым даже в самых отдаленных закутках соборного двора, оглашавшего его содержание. Он был уничтожен. Это письмо объясняло те единственные слова архидьякона, на основании которых его еще можно было подозревать.
– Конечно… – вполголоса пробормотал Дэве, – теперь, если верить этому письму, выходит, что у преподобного отца Люциуса уже три дня как нет родственников.
К такому же выводу пришли и люди в толпе. Они не знали, как отнестись к тому, что о смерти человека убитого в ночь с тринадцатого на четырнадцатое февраля сообщалось в письме от одиннадцатого, но одно они знали точно: подозревать в этом преступлении архидьякона – немыслимо. Однако, несмотря на все неудачи, Дэве уже не просто подозревал архидьякона – он почему-то был уверен в его виновности, уверен в том, что убийца именно он и никто другой. Вот только что-то непостижимое было в этом человеке и это что-то отражало все направленные на него удары.
– Десятого числа он умер, – вслух начал рассуждать констебль, – одиннадцатого было отправлено письмо и, даже если учесть все возможные задержки на пути курьера, должно было быть доставлено вечером двенадцатого. – Он улыбнулся. – Скажите, ваше преподобие, а не было ли падение с моста попыткой самоубийства? Ведь тяжело, наверное, остаться последним в вымирающем роду?!
Толпа взорвалась бурей негодования. Это, уже не имело ни какого отношения к преступлению, а обвинить священника хотя бы в намерении лишить себя жизни, было в глазах верующих чуть ли ни кощунством.
– Что вы себе позволяете?! – доносилось со всех сторон до констебля, но он сознательно шел на это: теперь ему просто хотелось посмотреть, как архидьякон выкрутится.
– Вы, сударь, – начал Люциус, – упустили из виду один немаловажный момент: я прочел письмо только утром тринадцатого февраля.
– Так ли это? – не обращаясь ни к кому конкретно, громко вопросил Дэве, надеясь скорее повлиять своим голосом на беснующуюся толпу, чем получить ответ, который, однако, не заставил себя ждать.
– Ну да, – сказал причетник Павел. – Я сам передал письмо его преподобию и своими глазами видел, как отец Люциус отправился на прогулку, оставив письмо на столе нераспечатанным.
Видя тщетность всех своих усилии, будто разбивающихся о непреодолимую преграду, Дэве уже был готов поверить в некую высшую силу, отводящую от священника все угрозы. И все же он решился бросить в сторону архидьякона еще один пробный камешек.
– Письмо написано столь бестактно, жестко и невежливо…
– Что вам пришло в голову, уж не сам ли я его написал, – перебил Люциус. – Правильно я продолжил вашу мысль, констебль?
– Нет, ваше преподобие, но согласитесь: странно, что эта Мери Сертэйн – экономка такого знатного и богатого вельможи, как ваш дядя – так мало знакома с приличиями.
Сержант с двумя стражниками прилагали все больше усилий, чтобы сдержать толпу возмущенную новыми нападками на отца Люциуса, но Дэве также продолжал наращивать давление, надеясь, что взрыв со стороны архидьякона последует скорее.
– Мой дядя, сударь, выбирая для себя прислугу женского пола, обращал первоочередное внимание отнюдь не на профессиональные качества и не на образованность претенденток.
– Что я слышу, ваше преподобие?.. И это говорит священник?
– Не притворяйтесь, сударь! – уже на приделе выкрикнул архидьякон и в глазах его появился огонь. – Вы читали письмо и должно быть общались с людьми, а значит, вам должно быть прекрасно известно, что мой дядя едва ли заслуживал любви и уважения человека высоких нравственных качеств. Да что я говорю… любых нравственных качеств! И, да!.. Если вы это хотели услышать. Да! Я не любил этого человека. Но искренне сожалею, что его больше нет, так как, вы правильно изволили заметить, теперь я остался один в этом вымирающем, – опять ошибся, – вымершем, семействе.
Дэве улыбнулся.
«Наконец! Наконец, – думал он, – я заставил его сказать то, что он мог отрицать. Теперь, я вижу, что еще могу бороться».
– Я буду вынужден провести в ваших покоях обыск. – Твердо и решительно сказал он, и к великому своему удовольствию заметил промелькнувший на лице священника страх.
– И что вы хотите там найти? Наследство? – прокричал из толпы возмущенный голос.
«Вот! С лучшими намерениями, но они уже сами дают мне в руки оружие против своего преподобного Люциуса. Неужели закончились для тебя удача и небесная протекция?» – снова улыбнувшись, подумал Дэве.
Но в этот момент, покрывая шум и ропот толпы, во дворе Собора святого Павла раздался новый – высокомерный, привыкший повелевать и нетерпящий возражений голос:
– И вы посмеете без доказательств, основываясь на, смею сказать, беспочвенных подозрениях, обыскать келью священника – служителя храма господня?
Народ расступился, давая дорогу человеку, в самом тоне которого слышалась почти неограниченная власть. Высокий, лет тридцати пяти-сорока, роскошно и со вкусом одетый, он, опираясь на изысканную тросточку, гордо шагал по освобожденному для него проходу к Дэве, Люциусу и остальным принимающим самое оживленное участие в этом действе людям.
Не обращая внимания на то, сколь почтительными поклонами приветствовали прибывшего священническая братия и сам архидьякон, сержант, выступив вперед, преградил ему путь:
– Да кто вы такой, чтобы вмешиваться? – спросил он, думая, что перед ним всего лишь простой дворянин, власть которого ограничивается его богатством.
С презрительной усмешкой окинув взглядом офицера городской стражи и сочтя его крайне незначительной и не заслуживающей внимания фигурой, этот весьма представительного вида незнакомец обратился прямо к Адаму Дэве:
– Господин констебль! – сказал он c властным подъемом. – Имею ли я право, вмешиваться в дела Церкви?
Он сделал особый упор на последнем слове и Дэве был вынужден покорно склонить голову:
– Да… господин епископ, – пробормотал он. И все, кто до этих пор не понимал, кто перед ними – или точнее: перед кем они! – находятся, склонились в нижайшем поклоне прелату церкви.
С дрожью не то разочарования, не то бешенства Адам Дэве почувствовал огромную разницу между своей должностью и саном человека пришедшего на помощь его противнику.
– Но закон для всех один, – еле слышно прошептал он, отирая вспотевший от осознания сокрушительнейшего поражения лоб.
– Вы умный человек, господин Дэве, – так же тихо отвечал расслышавший его епископ, – и должны понимать, что это не так. А впрочем, я уверен в невиновности моего доброго друга Люциуса, – добавил он уже громче, – и мог бы поручиться за него, если бы порукою ему не были самые дела его.
Эти слова епископа были встречены бурным одобрением толпы.
– Но, тем не менее, произошедшее во дворе собора убийство бросает тень на сам собор, и поэтому я – епископ лондонский, – будучи заинтересован в скорейшем раскрытии этого преступления попрошу начальника полиции – уважаемого господина Хувера – лично! заняться его расследованием.
Услышав это, Адам Дэве молча поклонился епископу и, бросив на архидьякона выразительный взгляд, словно говоривший: «Я уверен: убийца ты!», ушел. Сержант и оба стражника последовали за ним. Затем был унесен в храм труп барона Анкепа, и, когда вслед за ним в соборе исчезли и епископ с архидьяконом, толпа, справедливо решившая, что после отстранения Дэве и ухода высоких сановников церкви ничего интересного здесь больше ожидать не стоит, тоже стала расходиться.
***
Однако народ, когда ему не остается больше ничего интересного, принимается обсуждать последние события, обсуждения приводят к рассуждениям, а рассуждая, люди вспоминают (а то и придумывают) такие мелочи, которые до этого почему-то упускались из виду. Обрастая этими подробностями, изначальное событие представляется уже иначе. И передаваясь по цепочке от очевидца к любопытному, а от того в свою очередь ко второму, пятому, десятому слушателю, оно искажается настолько, что источник становится лишь блеклым подобием порожденного им слуха, который благодаря большей выразительности и насыщенности деталями, мнениями и предположениями продлевает интерес к своему прародителю.
Глава VII. Слухи
В середине февраля 1666 года в Лондоне ходило достаточное количество разнообразных слухов. Ни тем, кто распространял их, ни тем, кто им внимал, не было доподлинно известно насколько они правдивы. Однако, несмотря на то, что большинство новостей принимались лишь на веру, от их обилия горожанам некогда было скучать, и негде было укрыться. Таверны, рынки, храмы: везде есть люди желающие поговорить и люди которые не прочь послушать.
Не стоит поэтому удивляться, что уже через день после того как во дворе Собора святого Павла был обнаружен труп барона Анкепа, в городе зародилась масса толков о его убийстве. Одни только имена – Алджернон Пичер, Люциус Флам, Адам Дэве – уже возбуждали любопытство простого народа, а сан архидьякон, епископ и титул барон объединенные слухами о преступлении доводили это любопытство до поистине невероятных пределов.
Действительно, к смерти в Лондоне давно привыкли, и даже насильственная смерть, явление хоть и более редкое, чем смерть от чумы, но вполне обычное, не вызвала бы к себе столько интереса, сколько убийство совершенное на святой земле храма и в котором, к тому же, оказались замешаны представители духовенства. Каждый жаждал узнать подробности взволновавшего всех события. И скоро нашлись люди достаточно осведомленные, чтобы эту жажду утолить.