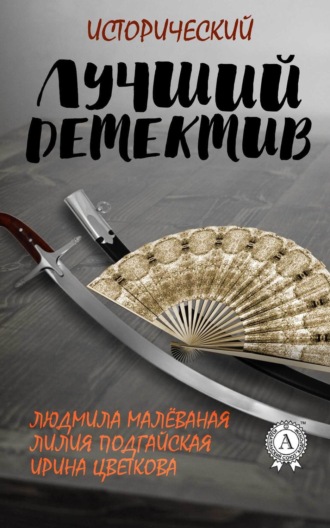
Полная версия
Лучший исторический детектив
– Пойду я, Линуся! Работать мне нужно, а еще до города добираться, – сказала Христина, поправила ленточку и потихоньку пошла по тропинке меж могилок к кладбищенским воротам.
Почти у самых ворот стояла Настуся, зажав под рукой ту самую куклу и пытаясь заплести ей косу.
– Помочь тебе? – спросила Христина, не веря такой удаче.
– Доброго вам дня, – ответила Настуся. – Помогите. Никак не могу её причесать, всё лохматую ношу.
Христина взяла куклу в руки и, сделав вид, что рассматривает её одежду, подняла подол кукольного парчового платья. «Езус Мария и Святые угодники! Это же быть такого не может! Это же не без нечистой силы всё делается…» – думала Христина, забыв, зачем у неё в руках эта кукла.
– Пани, вы если не хотите помогать, то отдайте куклу, я сама как-нибудь её заплету.
– Очень уж у тебя она красивая и платье необычное. Скажи, Настуся, а откуда ты её взяла? Подарил кто?
– Это батя подарил, – гордо отвечала девочка. – Он меня не балует, точно вам говорю. Красивая она у меня, правда?
Девочка так искренне смотрела Христине в глаза, что только память о дочери да чудесное совпадение с куклой (а Христина ещё верила, что это совпадение), принудили продолжить задавать вопросы.
– А где же ты живёшь, что гуляешь по Кальварии?
– Мы с батей на хуторе живем. Это недалеко отсюда.
В душе Христины всё трепетало. Наскоро попрощавшись с девочкой, она поспешила в Управу, к пану Мрозовскому.
Здание Управы стояло рядом с рыночной площадью, в тёмном сквере возле Василианского монастыря. Среди людей о «двуйке» ходили недобрые слухи. Говорили, что однажды в тамошнем подвале нашли повешенного, и никто не знал кто он. Из местных тело никто не забрал. Не признали, значит. А торговки на рынке шептались, что тот висельник воет ночами в подвале. Даже важные господа из Управы в подвалы заходить не решаются. Кому-то из господ Гринька-мясник родичем приходится, потому и просили Гриньку в подвал сойти. Он об этом сам рассказывал, когда напился в Рождество. Говорил, что не видел в тех подвалах никого, а раз не видел, так, значит, то дух висельника воет, никому не видимый.
Тина перекрестилась на монастырь, нащупала в кармане визитную карточку пана Мрозовского и решительно подошла к дверям Управы. Она толкнула тяжелую дверь и вошла в тёмный коридор. Внутри оказалось прохладно, и тянуло сыростью из проклятого подвала. Постояв некоторое время, и не дождавшись, чтоб кто-то из многочисленных господ обратил на неё внимание, Христина поёжилась и постучала в первую попавшуюся дверь, чтоб спросить, где ей искать Мрозовского.
– Доброго дня! А нельзя ли спросить… – начала Христина и запнулась. После темноты коридора комната, казалось, залита светом. От табачного дыма Христина расчихалась, а потом и вовсе закашлялась. Потому, чтоб не стоять столбом протянула визитную карточку пану, сидящему за столом, и ткнула в неё пальцем. – Прошу пана указать кабинет…
Из глаз Тины лились слёзы и не собирались прекращаться. Теперь ей стало страшно неловко перед хозяином кабинета.
– Вам на второй этаж, – хрипло сказал пан. – Комната как раз над моей.
– Очень я вам, пан, признательна! – Христина выхватила визитную карточку из руки хозяина кабинета и выскочила в коридор отдышаться.
Вскоре она сидела перед Мрозовским и рассказывала о своих волнениях.
– Пан Эдвард, платье-то это точно моё. Парча двухцветная осталась от платья, что для одной дамы шила. Она ещё любезно все обрезки оставила, для Линуси. Вы не подумайте чего! Я не какая-то полоумная с горя. При памяти я. Сегодня была на Кальварии и снова ту Настусю встретила, девочку маленькую, такую же, какой моя Линуся была. Так я куклу ту в руках держала, точно вам говорю! И платье видела, и с изнанки смотрела – моими руками оно сшито!
– Вы, пани Кшыся, успокойтесь. Воды выпейте, – Мрозовский придвинул графин с водою и поставил стакан. – А с чего вы так беспокоитесь? Ведь куклу могли украсть из вашего дома во время похорон. Могли?
– Могли, но её не крали из дома! – Тина сцепила обе руки, сложив как на молитву. – Вы меня разве не слышите? Говорю вам, что я ту куклу сама в гробик к дочери положила! А теперь с ней другая девочка ходит. Я бы ей куклу просто так отдала, но кукла-то должна рядом с Линусей лежать. Видела я, как гробик заколотили, опустили в яму и забросали землёй. Никто из гробика куклы не вынимал!
Тина выговорилась, выдохнула и плеснула в стакан воды. Пока она пила, Мрозовский внимательно на неё смотрел. А после вдруг спросил:
– А где, говорите, служит отец Настуси?
– Могилы он роет. Так Настуся сама мне и сказала. И живут они неподалёку, на хуторе.
Уходила Тина с тяжелым сердцем. Всё казалось, что висельник из таинственного подвала теперь за нею уцепится и в её доме выть станет.
* * *Эдвард Мрозовский был не из тех, кто старается начальству угодить и с особым рвением своё дело делает. Он был склонен не противиться обстоятельствам, дабы не попасть впросак с излишним усердием. Вот, если возьмётся он старательно за дело, а пока концы найдёт, начальник дело-то и прикроет. По родственному, чтобы зятю брата жены, к примеру, не навредить. А так, смотришь, другая неделя пошла. Начальник торопит, газетчики всё на первой полосе выложили. Тогда не грех и постараться. Хотя случались моменты в жизни Эдварда, когда он подобно породистой ищейке, что называется, носом землю рыл. Самому себе он объяснял подобное усердие довольно просто: «Кто же поможет этой несчастной женщине, если не я. А она, бедняжка, так мила, что хоть бы и сейчас с нею уединился». Уединяться не каждый раз получалось, но Эдварду и того хватало.
Мужчиной он был холостым. Скандал с супругой все давно забыли, или сделали вид, что не помнят, или просто этот наскучил, так как новые скандалы всегда случаются. Супруга-то сбежала с заезжим жиголо, после прислала одно письмо, в котором сообщила, что снова вышла замуж, а их с Мрозовским брак теперь недействителен, ибо новый заключен в новой религии. Через полгода она вернулась, но уже к двоюродной сестре. Та собиралась принять монашество и с особым усердием взялась за возвращение заблудшей овцы на путь истинный. Так получалось, что теперь Эдвард с чистой совестью уединялся, с кем хотел.
Службу пан Мрозовский нёс исправно и по мере сил. И всё было бы хорошо, если бы не случаи на городском кладбище. Не единожды от горожан поступали жалобы на плохой присмотр за могилами. Явятся люди через несколько дней после похорон и видят – венки разбросаны, насыпь повреждена.
– Безобразие, пан Мрозовский, нет на хулиганов управы! Вот от вас только и ждём, что на место их поставите, а лучше наказать в пример другим, – говорил нотариус в кабинете Эдварда Мрозовского месяц назад. Могила его тестя через несколько дней оказалась в том самом ужасном состоянии, на которое жаловались прочие.
– Мы обязательно разберёмся. Даже не сомневайтесь! А виновных накажем. Показательно накажем!
Сейчас Мрозовский вертел в руках заявление от пани Христины Германовой. Под пресс-папье лежали многочисленные заявления от горожан.
Бричка подкатилась к воротам Кальварии. Эдвард Мрозовский соскочил на землю и крякнул, ухватив себя за поясницу.
– Ох, ты ж… грехи мои тяжкие. Сидел бы сейчас в кабинете, кофе пил, да в окне голубей считал. Ну, теперь ты, пани Кшыся, должна будешь пану Мрозовскому…
Эдвард обращался к невидимой собеседнице, потрясая указательным пальцем, а хлопчик на козлах хихикал в кулачок и крутил пальцем у виска.
Кладбищенский сторож людей не любил. Они навевали на него тоску и желание выпить. Вот и сегодня: с утра прошла похоронная процессия, и родственники усопшего занесли сторожу, что Бог послал. Пётр, так звали сторожа, воспитан был хорошо и потому вежливо улыбнулся, даже поклонился. После разложил поминальную пищу на столике и выпил за упокой души рабы божией Домахи. Из всех людей Пётр любил только её. Покойница Домаха приходилась ему супругой. Ей одной он хранил верность. Но от осознания своей праведной жизни время от времени нарушал заветы Домахи и пил горькую. Пил он её радостно, потому что никто не подойдёт со спины и не огреет чугунной сковородкой по загривку.
Сейчас Пётр смачно закусывал краковской колбаской и квашеной капусткой, как из-за угла вышел неприятный господин. Кладбищенский сторож знал пана Мрозовского и от того считал неприятным.
– Доброго дня, пан Пётр! – поздоровался Мрозовский и кивнул на столик: – Хоронили сегодня кого-то или жалование выдали?
– Доброго. Кому он добрый, а кому последний, – скривился сторож. – Прошу пана, а что, это теперь такие порядки, что человеку в тарелку заглядывать, да про жалование спрашивать?
– Ничего подобного! Не в моих правилах напрашиваться на обеды, но вся «двуйка» давно отобедала.
– Так им делать-то нечего, вот и обедают по времени. А мне следить за всем нужно. Ямы вот людям копать.
– А вы разве сами их копаете? – спросил Мрозовский и прищурил один глаз.
– Не сам. Но таким сычом на меня зыркать не надо, я с копальщиками не рассчитываюсь, то дело хозяйское, кому и сколько давать.
– Хозяйское, говорите? А в прошлом годе, это не вам вдовая молодуха с горя перстень мужнин отдала?
– Ой, Езус-Мария! Теперь и благодарить человека нельзя, всё в одно корыто мешают – и шмальцовщиков, и честного человека!
– Так уж и отблагодарила? Вы ей такую цену за яму назвали, что честной женщине пришлось семейные драгоценности из кармана доставать. Но это всё лирика. Вы мне, пан Пётр, вот что скажите. Люди жалуются, что на могилах их шерудят, венки разбрасывают. А вы за порядком не смотрите, хоть за то вам и платят жалование от Магистрата. Может, скажете мне, часто ли бывают богатые похороны? Когда много венков, дорогой гроб, на покойнике – хорошая одежда.
Сторож равнодушно жевал краковскую, заедая квашеной капустой, и молчал. Мрозовский подошел к столику и отодвинул от сторожа миску с капустой.
– Пан Пётр, я могу не побрезговать сейчас и забрать у вас обед. А потом пройти к начальнику «двуйки» со всеми теми заявлениями, что скопились у меня в кабинете.
– К начальнику «двуйки» – это лишнее. Богатые похороны случаются, конечно.
– Вот вам карточка, чтоб не забыли, где меня найти. Пан Пётр, попрошу сообщить, когда случатся такие похороны, – сказал Мрозовский и тише добавил: – Думаю, не нужно повторять о том, что разговор у нас конфиденциальный?
– Не нужно, – ответил сторож.
Когда Мрозовский ушел, сторож налил в стопку и отломил кусок колбасы.
– Визи-и-итки он раздаёт, – скривился Пётр. – Не зря люди визитёром обозвали. Как будто я не знаю, где «двуйка» находится. Вот видишь, Домаха? Ты видишь, что за люди вокруг. Ушла, а меня оставила. Чем тебе со мной плохо жилось? Теперь каждый полицейский клоп хочет обидеть одинокого человека.
По пути в Управу Мрозовский зашел в кондитерскую на чашечку кофе. В той кондитерской варила кофе очаровательная дамочка. Хоть лет дамочке было и немало, но все не во вред. Марьяна Пашкевич всегда пахла ванилью и корицей, и напоминала Мрозовскому глазированную булочку с изюмом. Пухлые губы на круглом лице всегда улыбались, у глаз собирались морщинки-лучики. Пани Марьяна, на взгляд Мрозовского, ещё вполне упругая дама, и годилась для уединений. Однажды, им удалось остаться у пани Марьяны в доме, покуда её муж, сердитый пан Пашкевич, ездил на охоту. Мысль о несвоевременном возвращении сердитого охотника возбуждала Мрозовского еще больше, чем округлые бока неверной жены. Пани Марьяна стреляла из темноты спальни карими глазами и дышала, как загнанный зверь. Уходя от страстной кондитерши, Эдвард Мрозовский ощущал себя с тяжестью добычи в руках и с не единожды стрелявшим ружьём.
Так и теперь он, не успев войти в дверь кондитерской, залоснился улыбкой и сразу стал высматривать свою козочку.
– Доброго дня, пан Эдвард, – пропела пани Марьяна из-за стойки и подарила ему одному предназначенный взгляд. – Что пан желает сегодня? Или пану, как всегда, кофе погорячее и со взбитыми сливками?
– Приветствую вас, пани Марьяна, – ответил Мрозовский, облизав губы. – Вы мой выбор знаете. К нему можно добавить штрудель яблочный, и полить сиропом.
– Прошу пана, какой сироп желаете?
– А это уже на ваш вкус.
Пани Марьяна суетилась за стойкой, насколько возможно изящно в её весе, прогибала спину, чтоб достать из шкафчика штрудель, и кокетливо заправляя за ушко прядь волос. Она улыбалась Мрозовскому, опуская ресницы как школьница. Никому из редких посетителей кондитерской не приходило в голову, что между этим пожилым господином и немолодой дамой возможна любовная связь. Когда в заведении остался занят только один столик, да и то Мрозовским, пани Марьяна вынесла маленький серебряный поднос, на котором в тонком фарфоре и под шапкой взбитых сливок дымился кофе, а рядом, политый карамелью, ароматно пах пирог с яблоками и изюмом.
– Ваш заказ, пан Эдвард, – с придыханием сказала пани Марьяна.
– Скажите мне… Дайте хотя бы надежду, что я смогу получить ещё больше, – сказал Мрозовский, поймав пани Марьяну за руку.
– Ах… – Марьяна закатила глаза, и тут же взяла себя в руки – сквозь большие окна кондитерской их могли заметить с улицы. Кондитерша поспешно отняла руку и спросила: – А вы знаете, что скоро открывается сезон охоты?
– Неужели?!
– Да, да… Мой муж, пан Пашкевич, очень любит выезжать на охоту. Если вы придёте на следующей неделе, я смогу сообщить вам точнее. Ведь пан Пашкевич наверняка откроет сезон лично.
– Вы не сомневайтесь, пани Марьяна, я обязательно зайду засвидетельствовать своё почтение на следующей неделе, – сказал Мрозовский, помешивая кофе. – Мне кажется, или вы смололи какой-то новый сорт? Необычайный вкус и аромат. С этим ароматом может сравниться разве что запах сдобы, – Мрозовский говорил со значением растягиая слова и поглядывая на кондитершу жадно блестевшими глазами.
Договорившись о свидании, Мрозовский допил кофе, рассчитался и вышел на улицу.
– Всё-таки, что бы ни говорили доктора, а кофе положительно влияет на свежесть мысли.
Холодное лето давало отдых от неожиданно знойного мая. Мрозовский не любил жару. Сейчас он спокойно мог прогуливаться в костюме, не расстёгивая пиджака, и даже вечером набросить плащ. Навстречу ему прошли монахини-доминиканки, Мрозовский снял шляпу и слегка поклонился. На что монахини ничего не ответили, только ниже склонили головы и ускорили шаг. Эти монахини были строги и мирских радостей не одобряли, отчего Мрозовский по молодости любил пошутить над ними, но всякий раз бывал пойман и строго отчитан местным ребе. Но более доминиканок Мрозовский страшился монахов Василианского монастыря. Эти сами могли поймать и за ухо отвести не в синагогу, а к своему настоятелю. Потому маленький Эдюня всегда обходил их другой дорогой.
В пятницу, когда все мысли Эдварда Мрозовского были о предстоящей рыбалке, в Управу заявился кладбищенский сторож. Он пожимал плечами, морщил усы и всё как-то не решался отойти от входной двери. Потом внимательно осмотрелся и решительно вошёл внутрь. В кабинете он уселся на предложенный стул и, обдав Мрозовского запахом перегара, стал вертеться, то заглядывая под стул, то вытягивал шею и высматривал кого-то в окне.
– Пан Пётр, что вы не сидите спокойно? Вас ждут? – спросил Мрозовский, кивая в сторону окна.
– Сесть спокойно я успею всегда. Какие мои годы… – сторож подался вперёд и зашептал, озираясь на массивную дверь кабинета: – Никто меня не ждёт, а сегодня копальщики придут – похороны богатые на завтрашнее утро назначены.
– Кого хоронят?
– Жену известного в старом городе нотариуса. Знаете, есть такой Рафаэль Гольдман, его папаша когда-то держал мыловарню. На те мыльные деньги он выучил сыночка. Сначала хотел учить на скрипача, а потом, мадам Войцеховская, что из филармонии, открыла Гольдманам глаза, все поняли, что Рафику слон наступил на оба уха и его срочно отправили в университет. Постигать юридические науки. В общем, жена Рафика Гольдмана долго болела и отдала Богу душу. А людей признательных её мужу много, потому и венков будет много и Гольдман не поскупится на пышные похороны.
– Ещё раз напоминаю, что разговор наш конфиденциален. Помните об этом. Пан Пётр, «двуйка» вас не забудет, – сказал Мрозовский и протянул руку сторожу.
– Лучше бы она про меня забыла, – ответил сторож, отвечая на рукопожатие.
Сторож вышел за дверь, Мрозовский брезгливо поморщился, достал из стола большой белый платок, смочил в воде из графина и тщательно обтёр руку.
К ночи следующего дня, обрядившись как рыбаки, трое мужчин подходили к городскому кладбищу. Если вдуматься, то возле кладбища рыбу не поймать. Не потому, что плохо клюёт, а потому что река в Жолкеве называется Свинья. Говорили, что название к ней прилепилось с тех времён, когда почти триста лет назад, во время Северной войны, в городе находился штаб самого Петра Первого. Здесь он разрабатывал планы баталий со шведами. Вроде как, самодержец и обозвал речушку таким словом. А за рыбой можно на ставок отправиться, но к нему из города по другой дороге ехать. Там можно вполне прилично наловить: хватит и для себя, и соседей угостить. А кто порасчетливее, то и продать сможет. Какая хозяйка откажется купить рано поутру свежепойманную щучку или сома?
Но если к нашим рыбакам, идущим вдоль кладбища, присмотреться, то при них никакого рыбацкого снаряжения не увидишь. То есть они идут не с пустыми руками, но рыбу этим не поймаешь.
Мрозовский сжимал в ладони рукоять маузера. От нервного напряжения ладонь взмокла, и приходилось перекладывать маузер попеременно из руки в руку, обтирая ладони о штанины. Широкий и коренастый, вполне бандитского вида сыщик, Миша Гроссман держал за поясом наган, нервно ощупывая его всякий раз, чтобы убедиться, что не потерял. Самый юный, Виктор Мазур, шел, выставив впереди себя парабеллум и приседая на каждый шорох. Мрозовский больше всего боялся, что их заметят и поднимут на смех. А до взятия преступников и дело не дойдёт.
– Виктор, не нужно размахивать оружием, как деревянной сабелькой, – язвил Гроссман.
– Почему это деревянной? – переспросил Мазур.
Гроссман беззвучно затрясся от смеха.
– Потому что я бы не дал вам другого оружия.
– Прошу паньства, говорите потише, – сказал Мрозовский, подняв одну руку вверх.
– Что вы там увидели? – Мазур выставил парабеллум в ту сторону, куда смотрел Мрозовский.
– Пан Эдвард, на Бога! Заберите у него оружие, иначе он нас здесь похоронит! – возмущался Гроссман.
– Действительно, Виктор, уберите в карман. Оружие – это не игрушка. Вдруг вы нажмёте на курок?
– Почему я нажму на него вдруг?!
– Со страха! – Гроссман снова беззвучно затрясся.
Мазур убрал парабеллум в карман куртки, бормоча ругательства, и пошел к кустам шиповника помочиться. Он почти расстегнул ширинку, как ветки кустов раздвинулись, и прямо на него вышел кладбищенский сторож. Свет от луны ярко осветил спитое лицо сторожа и слегка выкрасил в синеватый цвет.
– Пан Мрозовский, это вы? – спросил сторож, прищурив глаза.
Мазур перекрестился и тут же смачно выругался.
– Я здесь, – сказал Мрозовский и помахал рукой.
– А это кто такие?
– Мои помощники на случай стремительного отхода бандитов.
– Ага, – кивнул сторож. – Эти помогут отойти. Стремительно. И, главное, недалеко совсем идти – вот и ямы опять наготовили, – он повозмущался для порядка, поманил всех за собой и повел по дорожке между склепов.
Чем дальше заходили в глубь кладбища, тем холоднее становилось Мрозовскому. Становилось не просто холодно, а возникало навязчивое ощущение, что он сам лежит под одной из могильных плит и влажная земля обнимает его последнее пристанище. Сырость проникает сквозь сбитые доски, подушка отсырела и пахнущая грибами влага покрыла лицо…
Окончательно испугавшись своих мыслей, Мрозовский кашлянул, потом еще раз, а затем и вовсе зашелся кашлем.
– Что-то вы, пан Мрозовский, как чахоточный, – заметил сторож. – Никак подхватили заразу.
– Ничего я не подхватил, пан Пётр! – разозлился Мрозовский. – Ваши домыслы оставьте при себе. Лучше за дорогой смотрите, пока не завели нас неизвестно куда.
– А что мне за ней смотреть. Никуда дорога не денется. Это вы смотрите со страху никуда не деньтесь, вот вас как колошматит.
– Холодно здесь.
– Ну да! – тихо засмеялся сторож. – Это на вас покойники страху нагоняют. А ночь тёплая. Завтра день хороший должен быть. Видите, какие звёзды на небе? – и, не дожидаясь ответа, махнул рукой на свежую могилу, – Стойте, пришли. Вот она – могилка Фани Гольдман. Пусть покоится она с миром. Располагайтесь, где вам удобно, а мне и издали неплохо видно.
Сторож ретировался в ближайшие кусты от греха подальше, а Мрозовский с помощниками спрятался за венками. Вовремя они успели. Ждать долго не пришлось, вскоре послышались тяжёлые шаги, и к могиле подошли двое. У одного в руках были лопата и мешок, а у второго – лопата и ведро с верёвкой. Из засады гробокопатели неплохо просматривались, только лиц при лунном свете нельзя было разобрать. Они немного потоптались, покурили по одной, и принялись раскапывать могилу. Работали споро – видно, что делать это им приходилось не в первый раз.
Когда один из преступников залез в яму и стал на крышку гроба, Гроссман потянулся из укрытия и дёрнул второго за ногу.
– А-а-а! Спасите! Отпустите, заради всего святого! Ой, мама-а! – гробокопатель заорал, думая, что это покойник ухватил страшными пальцами, и свалился на напарника. Напарник остолбенел, застонал и потерял сознание.
Когда гробокопатели пришли в себя, на них сверху смотрело три ствола.
– Что вы там, заснули? Лезьте наверх, хватит прохлаждаться, – прикрикнул на гробокопателей Мазур. Он расстроился больше всех, так хотел проявить себя в поимке преступников. И теперь готов был сорвать злобу на неудачливых копателях. – Что ждёте, черти?
Мрозовскому же всё казалось безразличным, хотелось поскорее домой, принять ванную и забыть кладбищенское приключение, как страшный сон.
* * *Одним их гробокопателей оказался отец девочки, которую встретила Христина у могилы своей дочери. Вторым же был Рузин жених, по совместительству квартирный вор, Вениамин Железов. Его давно мечтал поймать и сам Мрозовский, и другие сыщики. Только кроме слухов и сплетен, ничего конкретного предъявить не могли. Где проживал Железов, тоже непонятно. По делу привлекли и Рузю. Её вызвали в Управу, а она по неопытности подумала, что в качестве свидетельницы.
– Доброго вам дня, пан Мрозовский, – сказала Рузя, когда её привели в кабинет.
– Приветствую, пани. День сегодня точно добрый, – сказал Эдвард Мрозовский и заглянул в записную книжку. – Ефрозыния Ковальчук.
Рузя изобразила смущенную невинность: сложила руки на коленях, опустила ресницы и вообще походила на гимназистку, сбежавшую с урока и пойманную за поеданием тортов в учебное время. Стул, на котором она сидела, стоял посреди кабинета, как раз напротив окна. Образования Рузе не хватало, а вот врожденного кокетства и женского обаяния наблюдалось в достатке. Солнечный зайчик играл на гладкой щеке, путаясь в завитках волос возле маленького ушка. Рузя знала, что очень хороша собой и привыкла бессовестно пользоваться прелестями, данными Богом. Она наклоняла хорошенькую головку так, чтобы лучик солнца проходил сквозь ресницы, делал выражение её хитрющих глаз добродетельным и в то же время вызывал желание защитить.
Мрозовский писал отчет и посматривал на Рузю. Не было никакой возможности удержаться, чтобы не смотреть на саму панянку и на её грудь под шелковым платочком, что скрывал глубокий вырез на платье. Грудь то и дело вздымалась от глубокого дыхания, к пухлой губке прилипла прядка волос и трепетала на каждом вздохе. От этой картины пану Эдварду стало не по себе: и дыхание сбилось, и пульс участился, и невероятно сильно захотелось сейчас задрать девице юбки, закинуть её ноги себе на плечи и дышать, дышать… Сморгнув видение, пан Эдвард облизал пересохшие губы и сосредоточился на отчете.
Рузя заметила томный взгляд и улыбнулась маленькой победе.
– Ах, пан Мрозовский, подайте воды, прошу вас! Слабость такая, что сил нет. Сейчас сознание потеряю.
Пан Эдвард спешно подскочил, налил в стакан воды из графина и поднёс Рузе. Хотя на самом деле он совсем не был против, чтобы Рузя сейчас и в его кабинете потеряла сознание.
Рузя приняла стакан, и, покуда Мрозовский стоял рядом, сорвала с шеи платочек, открыв все прелести для ближайшего осмотра. Выпив воду, она вернула стакан и подняла на престарелого сыщика похотливые глаза. Пана Эдварда дважды просить не требовалось. Он понял всё с полуслова. Быстро подошел к двери, повернул ключ в замке и вернулся к даме. Рузя, решив, что кроме неё самой помочь никто не сможет, бросилась во все тяжкие – она поднялась со стула, подошла к окну и, упершись в подоконник, прогнула спину, как голодная кошка.



