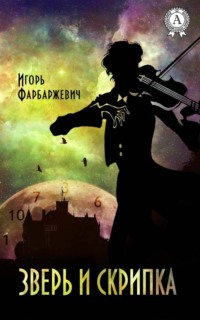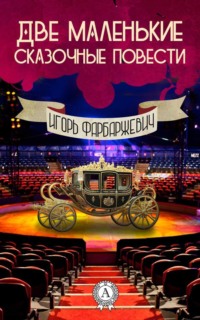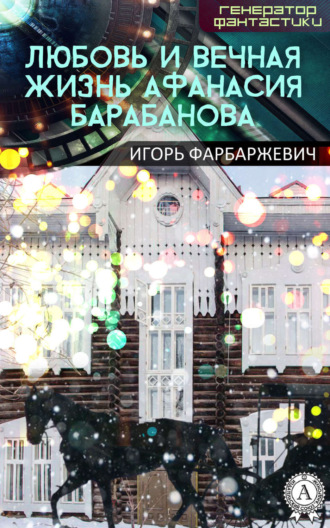
Полная версия
Любовь и вечная жизнь Афанасия Барабанова
В Хейдельбергском университете, который закончил Атаназиус Штернер, все студенты знали этот гимн наизусть:
Да здравствуют все девушки,Изящные и красивые!Да здравствуют и женщины,Нежные, достойные любви,Добрые, трудолюбивые!Да здравствует и государство,И тот, кто им правит!Да здравствует наш город,Милость меценатов,Нам покровительствующая.«Вот что объединяет людей, – подумал Штернер. – Общая идея. Общая родина или общий гимн…». И, глядя на Татьяну, он пропел оставшиеся куплеты вместе с ними.
Да исчезнет печаль,Да погибнут скорби наши,Да погибнет дьявол,Все враги студентовИ смеющиеся над ними!Их обогнали другие сани, в которых ошалевшие от однодневной свободы студенты горланили с «декабристской храбростью» совсем другую песню – «Жалобу на Аракчеева».
Бежит речка по пескуВо матушку во Москву,В разорену улицу,Ко Ракчееву двору……«Ты, Ракчеев господин…Бедных людей прослезил…Солдат гладом поморил…Всю Россию разорил!..»– От, прокуды! – мотанул лохматой головой Никифор, то ли осуждая, то ли поддерживая баловство студентов.
– А Татьяна-Великомученица, она кто? – спросил Атаназиус у Тани. – Покровительница студентов?…
Знала бы Татьяна Николаевна о своём Дне ангела чуть поболе, непременно поведала бы Штернеру всю историю жизни святой тёзки.
– Давным-давно, Атаназиус Карлович, – начала бы она, – в 226 году, в Древнем Риме, у одного знатного консула была дочь Татиана…
…После казни императора Гелиогабала, который жестоко преследовал христиан и поклонялся разным богам и идолам, на престол вступил шестнадцатилетний юноша по имени Александр Север – истинный христианин, и все христиане в Риме вздохнули спокойно. Но он был молод, неопытен, ему стали давать советы бывшие приближённые Гелиогабала, и получалось, что не Александр, а они реально управляют государством. Среди таких «советчиков» был и Ульпиан – близкий друг казнённого императора, который так же, как и тот, верил в разных богов. А вскоре, благодаря его хитрости, вся власть в Римской империи оказалась в его руках.
Всех же, кто истинно верил в Христа, стали вновь преследовать и заставлять поклоняться идолам. Кто же этого не хотел – отдавали в руки палачей.
Такая же участь постигла и Татиану.
Палачи выкололи ей глаза, изрезали ножами тело и содрали кожу, натравливали на неё льва, но Татиана отказывалась верить в разных богов. А её мучители – либо погибали, либо принимали веру в Иисуса Христа.
Сама же Татиана умерла мученической смертью. Ей отрубили голову, как и её отцу-христианину.
…Вот что должна была бы рассказать Штернеру Таня Филиппова и увязать житие святой Татьяны-мученицы с Днём студентов – да только образования не хватило.
Об этом редком дне в мировой истории, когда православные миряне и российское студенчество празднуют вместе два разных праздника, объединённые в один, побеспокоился ещё сам Ломоносов.
Была у Михайла Васильевича давняя мечта – учредить в России Университет, по примеру европейских учебных заведений. И обратился со своим «прожектом» к Ивану Ивановичу Шувалову, который был не только покровителем русской науки и культуры, но, самое главное, фаворитом императрицы Елизаветы Петровны.
…«Милостивый Государь Иван Иванович! – написал Ломоносов генерал-адъютанту. – Полученным от Вашего Превосходительства черновым доношением Правительствующему Сенату, к великой моей радости, я уверился, что объявленное мне словесно предприятие подлинно в действо произвести намерились к приращению наук, следовательно, к истинной пользе и славе отечества. При сем случае, довольно я ведаю, сколь много природное Ваше несравненное дарование служить может, и многих книг чтение способствовать. Однако и тех совет Вашему Превосходительству не бесполезен будет, которые сверх того университеты не токмо видали, но и в них несколько лет обучались, так что их учреждения, узаконения, обряды и обыкновения в уме их ясно и живо, как на картине, представляются. Того ради ежели Московский Университет, по примеру иностранных, учредить намеряетесь, что весьма справедливо, то желал бы я видеть план, Вами сочиненной. Но ежели ради краткости времени или ради других каких причин того не удостоюсь, то уповая на отеческую Вашего Превосходительства ко мне милость и великодушие, принимаю смелость предложить мое мнение о учреждении Московского Университета кратко вообще…»
…Далее Ломоносов писал о наличии факультетов и о количестве профессоров на этих факультетах, и о Гимназии при Университете, а закончил письмо так:
«…Не в указ Вашему Превосходительству советую не торопиться, чтобы после не переделывать. Ежели дней полдесятка обождать можно, то я целой полной план предложить могу.
Непременно с глубоким высокопочитанием пребываю Вашего Превосходительства всепокорнейший слуга Михайло Ломоносов.
19 мая-19 июля 1754 года»
…Не один месяц просил у государыни дать ход «прожекту Ломоносова» молодой её фаворит, один из самых умнейших и образованнейших людей «елизаветинской эпохи», друг самого Державина! – генерал-адъютант Шувалов, пока, наконец, императрица не поставила свою монаршью подпись.
– И как так вышло, что День студентов празднуется в День святой Татианы? – спросил Штернер.
– Просто совпало, господин Атаназиус, – с наивной уверенностью ответила Таня Филиппова, не ведая, что простых совпадений в истории, как и в жизни, не бывает. А любой случай не бывает случайным.
И в этом деле вышло всё иначе.
…Иван Иванович Шувалов, как преданный сын своей разлюбезной матушки Татьяны Петровны, давно решил сделать ей щедрый подарок в День ангела.
Когда императрица Елизавета Петровна, наконец-то собралась подписать Указ об учреждении университета в России, хитроумный Иван Иванович подсунул его на подпись именно 12 января – в день святой Татианы-мученицы, то есть, в день ангела своей матушки. И, поднимая тост в её честь, благодарный сын сказал:
– Дарю тебе, матушка, подарок – не в золоте, не в серебре, не в бриллиантовой россыпи, подарок надёжный, вечный, который не потеряешь и в руки не возьмёшь. Дарю тебе московский университет!
Спустя два года, в 1757 г. вице-канцлер Воронцов представил государыне проект указа о присвоении Шувалову титула графа, сенаторского чина и 10 тысяч крепостных душ. Но будучи человеком чести и скромности, не в пример многим министрам, тот и здесь обошёл соблазны Фортуны, никогда впредь не упоминая о подаренном ему дворянском титуле. «Могу сказать с лёгкой душой, – писал позже в своих записках Иван Иванович Шувалов, – что рождён без самолюбия безмерного, без желания к богатству, честям и знатности».
Сам же Университет был открыт лишь через пятьдесят лет, в 1805 году, когда уже не было на свете ни Михайла Ломоносова, ни императрицы Елизаветы Петровны, ни самого Шувалова с его разлюбезной матушкой.
…Вот что не рассказала Штернеру Таня Филиппова, ибо по образованию своему не знала истинных вещей из русской истории, о которых теперь в полном ведении читатель нашего романа.
…Извозчик стрельнул плетью по спине Сивого, и тот живо свернул на Манежную площадь.
– Невесёлый получается праздник, – сказал Штернер, до конца не понимая, как можно веселиться в день нечеловеческих страданий и смерти.
Но его рассуждения тут же перебил какой-то тщедушный студентик в расхристанной шинельке, который восторженно кричал своим товарищам неподалеку от длинного здания бывшего «Экзерциргауза»:
– Господа! Послушайте стихи Александра Пушкина!
– Пушкин! – вскрикнули разом Атаназиус и Татьяна и восторженно глянули друг на друга.
А студентик на площади уже громко читал стихи наизусть:
– Друзья, в сей день благословенныйЗабвенью бросим суеты!Теки, вино, струёю пеннойВ честь Вакха, муз и красоты!Сани промчались мимо него и поехали дальше.
– Вы любите Пушкина? – поинтересовалась Татьяна.
– Люблю! – искренне ответил Атаназиус. – А вы?…
– И я люблю. Надо же! Его знают и у вас.
– В том-то и дело, что плохо знают, – сказал Штернер. – Так получилось, что один русский заказчик случайно оставил в моей типографии две его книжки со стихами. И теперь они всегда при мне.
– Какой вы молодец, господин Атаназиус, что не расстаётесь с ними! – вырвалось у Татьяны.
– Я человек верный, – улыбнулся Штернер. – Кого полюблю – сберегу навеки…
Татьяна отвела глаза, словно услышала признание в любви.
– А вообще-то это моя матушка молодец! – уже серьёзно произнёс он. – Впервые услышал «Руслана и Людмилу» именно от неё. И сказки Братьев Гримм тоже. А благодаря стихам Пушкина, стал и сам немного сочинять…
– Вы пишете стихи?! – изумилась она.
– А что удивительного? – не понял Штернер.
– Впервые разговариваю с живым поэтом!.. – с затаённым восторгом сказала Татьяна.
– Ну что вы! – смутился Атаназиус. – Какой же я поэт!.. Особенно в компании с Пушкиным! Так… фантазирую… В свободное время. Немного стихи… Немного сказки…
– И сказки тоже?! В стихах? Как «Руслан и Людмила»?
– Нет, сказки я сочиняю в прозе… Как Вильгельм Гауф. Или Гофман.
– А кто это?
– Известные немецкие писатели… Разве их не читали?
– Нет… – покраснела Татьяна.
– И «Щелкунчика»?
– И «Щелкунчика»…
– Значит, историю Маленького Мука тоже не знаете.
– Не знаю… – вконец огорчилась Татьяна, но сразу же отважно улыбнулась: – Не беда! Впереди меня ждёт много приятного времяпровождения в компании этих господ. Я обязательно прочту всё, что они написали, если вы так советуете. И обещаю впредь читать их новые сочинения.
– Увы! Их уже нет на свете!..
– Как?! – вскрикнула Таня. – Неужели умерли?!..
– Да, Вильгельм умер совсем молодым, в 25 лет. А Эрнст Теодор Амадей в 46.
– А эти кто такие?
– Кто? – не понял Атаназиус.
– Ну… Эрнест, Теодор и Амадей.
Штернер невольно рассмеялся.
– Эрнест Теодор Амадей – это тройное имя Гофмана, – объяснил Штернер и, убрав улыбку, спросил: – Вы не обиделись за мой смех?
– Я не обидчивая, – гордо вскинув голову, ответила Татьяна. – Вы же не хотели надо мной посмеяться, правда?
– Правда! Просто ваши глаза внезапно стали печальными.
– Это оттого, что мне стало жаль ваших писателей… Мне вообще жалко людей, когда они умирают… Особенно, в двадцать пять лет!
– Кстати, Пушкин перешагнул этот возраст. Сейчас ему уже тридцать шесть…
– Ну, Пушкин будет жить долго, – беспечно произнесла она, – и умрёт совсем-совсем старым и седым человеком. Представляете, сколько ещё стихов он напишет за эти годы?
– Не представляю.
– Совсем не представляете?!
– Не представляю себе старого Пушкина, – уточнил Штернер.
– Я тоже! – рассмеялась Татьяна. – У него такие молодые стихи!
Что смолкнул веселия глас?Раздайтесь, вакхальны припевы!..Да здравствуют нежные девыИ юные жены, любившие нас!– Полнее стакан наливайте!– подхватил стихи Штернер.– На звонкое дноВ густое виноЗаветные кольца бросайте!ТАТЬЯНА.
Подымем стаканы, содвинем их разом!ВМЕСТЕ.
Да здравствуют музы, да здравствует разум!АТАНАЗИУС.
Ты, солнце святое, гори!Как эта лампада бледнеетПред ясным восходом зари…ТАТЬЯНА.
Так ложная мудрость мерцает и тлеетПред солнцем бессмертным ума.ВМЕСТЕ.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!И Атаназиус с Татьяной громко расхохотались.
– От, прокуды! – привычно мотанул головой Никифор, говоря всем своим видом, что очень поддерживает чтение стихов Пушкина.
А пассажиры его внезапно смолкли и некоторое время ехали молча, пока, наконец, Татьяна не произнесла – то ли просто вслух, то ли Атаназиусу:
– Вот бы увидеть Пушкина наяву!
– Отличная мысль! – поддержал её Штернер и внезапно предложил: – А давайте заедем к нему в гости.
– Как это заедем? – не поняла Татьяна. – К кому? К нему?!..
– К нему.
– Когда?
– Да прямо сейчас. Ещё в Германии я решил исполнить свою давнюю и дерзкую мечту – набраться храбрости с ним познакомиться.
– С самим Пушкиным?…
– С самим…
– Зачем? – удивилась она.
– Хочу показать свои сказки. Я специально переписал их в тетрадь. Если скажет: пишите ещё – буду писать! Скажет: порвите и забудьте – порву и забуду!..
– Какой вы, однако, храбрый человек, господин Атаназиус, – Татьяна посмотрела на него с уважением. – Я бы от робости не смогла сказать ни слова.
– А разве для этого нужно много храбрости?… Хотя вы правы. Когда начинаешь понимать, кто перед тобой – делается страшно. Только с годами понимаешь, что представляет каждый из нас… Время ставит всё на свои места… Так поедем?…
– Не знаю… – заробела Татьяна. – Мы даже не знаем, где он живёт…
– У меня есть адрес. Это в центре Москвы… – И Штернер тут же крикнул извозчику: – Эй, любезный! Гони на Арбат. Дом 204! К Пушкину едем!
– Как прикажете, барин… На Арбат так на Арбат… – не удивился Никифор, словно каждый день возил пассажиров в гости к Александру Сергеевичу.
– Это во втором квартале прихода церкви Троицы, – уточнил Штернер, – в его Пречистенской части.
– Знаю, барин, знаю… – ответил ямщик, потянув за вожжи. – Поворачивай, Сивый! Слыхал? К Пушкину едем, голубь ты мой!..
Глава III
ДОМ НА АРБАТЕ
Ни почестей и ни богатстваДля дальних дорог не прошу,Но маленький дворик арбатскийС собой уношу, уношу.Булат ОКУДЖАВАДля тех, кто не видел Арбат начала 19 века, немного опишу эту легендарную улицу Москвы, ибо по сравнению с сегодняшней, выглядела она «спальным районом» – настолько была малолюдной и тихой, с небольшими особняками, мезонинами, бельетажами в стиле ампир, внутри уютных фруктовых садов.
…После ужасного пожара 4 июня 1736 года заново отстроенная улица стала принадлежать дворянам, отчего Александр Герцен назвал этот район в конце 18 века «Сенжерменским предместьем» Москвы, хотя такое сравнение хозяевам арбатских домов ни о чём не говорило. Одна половина московских дворян никогда не было в Париже по причине ненадобности, другая же – по патриотическим убеждениям, что, дескать, ездить в гости к тем, кто совсем недавно спалил Москву, было, по меньшей мере, безнравственно.
Что же касается самого названия «Арбат», то улица получила его ещё в 15 веке от поселений на этой местности ремесленников разных профессий.
Здесь находились сразу две стрелецкие слободы, слободы дворцовых плотников, живописцев, мастеров серебряного дела и Денежного двора. У самых Арбатских ворот Белого города находилась небольшая Поварская слобода, в 17 домов, населенная дворцовыми поварами. И, наконец, в Староконюшенном переулке, где стоял дом отставного поручика-гусара Агафонова, когда-то располагалась крупнейшая из дворцовых слобод – Большая Конюшенная.
Спустя века, большинство историков почти единогласно сделают вывод, что название улицы произошло от арабского слова «арбад» – что означает «пригород». И дескать, в Москву оно попало либо через крымских татар, либо непосредственно от торговцев с Востока.
Известный московский учёный Иван Егорович Забелин, мнению и знаниям которого можно доверять, высказал совершенно иную топографическую версию, в которой своё название улица получила от слова «Горбат» – по «кривизне местности» – хотя никаких больших холмов или оврагов здесь никогда не наблюдалось.
Согласно еще одной гипотезе, название улицы произошло от татарское слова «арба», так как неподалёку находилась слобода мастеровых Колымажного двора. Однако само слово «Арбат» упоминается в письменных источниках задолго до возникновения «татарской слободы».
И никто с того времени так и не предложил четвёртую версию названия улицы. А ведь она могла вполне иметь место, если бы вспомнили о немецких ремесленниках-мукомолах, владевшими здесь ещё в конце 15 века, свои мельницами и пекарнями.
Конечно, под «немцами» в России тех лет понимались не только выходцы из Германии, но и многие другие иностранцы. Однако самих германцев при царе Иване Васильевиче, среди прочих иноземцев было куда больше остальных по численности.
Жили они в Немецкой слободе, работая с утра до ночи, как и подобает трудолюбивой нации. Оттого большую часть своей улицы с пекарнями назвали «Arbeitsgruppe Straße». Для русского языка уха это название было труднопроизносимым, особенно после третьей рюмки, поэтому очень скоро «Рабочая улица» сначала «ополовинилась» и стала называться просто «рабочей», или «Arbeitsgruppe», а вскоре и это название сократилось до слова «работа» – «Arbeit».
Прошли века и годы. Немецкие мельницы и пекарни сгорели в огне бесконечных московских пожаров, многие немцы с тех пор покинули Москву и даже Россию, и только улица «Arbeit» осталась навсегда Арбатом.
…– Тпру, Сивый, приехали! – потянул за вожжи Никифор.
Сани с нашими героями остановились у ворот двухэтажного каменного дома с длинным балконом по центру, на втором этаже.
Однако Атаназиус и Татьяна продолжали сидеть под волчьей шубой.
– Приехали, господа хорошие! – обернулся к ним извозчик. – Дом 204!.. Чай не замёрзли?…
Атаназиус отбросил полу шубы, спрыгнул из саней и, обхватив Татьяну за талию, легко поставил её из саней на мостовую.
– Ждать прикажете долго? – поинтересовался извозчик, вешая на шею лошади мешок с овсом. Та сразу же громко захрупала им на всю улицу.
– С четверть часа, если повезёт, – ответил Штернер.
– С четверть так с четверть, – ответил Никифор. – Сосну малость… Всю ночь ребятёнок спать не давал. Простыл, сердешный…
Штернер поглядел по сторонам. Улица была почти пуста. Лишь несколько фигур мелькнули в снежной дымке. Из труб над заснеженными крышами вился к сияющим небесам беспечный печной дымок.
– Пойдёмте… – позвал он Татьяну.
Та стояла, ни жива, ни мертва.
– Боитесь?
– Боюсь… – ответила еле слышно.
Он взял девушку за руку, и вместе с ней двинулся к чугунным воротам.
По-морозному затрещал под ногами снег. Где-то во дворе, за витыми прутьями запертой калитки, залаяла собака. Не успели молодые люди подойти к ограде, как из заднего двора появился седой бородатый старик, видимо, дворник, в наброшенном на плечи старом овечьем тулупе. Не отперев калитку, молча поглядел исподлобья на незваных гостей.
– День добрый! – улыбнулась ему Татьяна.
– Чего желают господа? – строго спросил он.
Гости переглянулись:
– Мы к Пушкину, – официальным тоном объявил Штернер. – К Александру Сергеевичу.
Но дворник и на этот раз не спешил отпирать засов. За домом продолжался надрывный собачий лай.
– Цыть, Цезарь! – крикнул он жёстко. Собачий лай оборвался, превратившись в нетерпеливое поскуливание.
– Нет его здесь! – наконец ответил старик.
– А скоро ли будет? – поинтересовался Штернер.
– Кто ж его знает, барин? Четвёртый год, поди, как здесь не живёт.
– Как не живёт?! – изумлённо воскликнул Атаназиус.
– Уехали они с женой из Москвы. С тех пор ни разу не приезжали…
– А куда уехали?… – в растерянности спросил Штернер.
– Об этом мне не докладывали… Может, фрау Анхель в курсе…
– Кто это фрау Анхель?
– Анна Гансовна, наша экономка.
– А можно её увидеть?
– Чего ж нельзя?… Входите! – разрешил на это раз дворник, отпирая калитку. – Вы кто, прошу прощенья, будете?
– Скажите, что книгоиздатель Атаназиус Штернер из Германии… Со своей невестой.
Татьяна тут же вспыхнула, но осознав неопределённость ситуации, смолчала.
Впустив гостей во двор, дворник запер калитку и провёл их к особняку.
– Ждите, передам…
А сам скрылся за тяжёлой дубовой дверью парадного подъезда. Над низким крыльцом висел, будто в воздухе, изящный металлический навес, сплетённый по бокам из витых чугунных прутьев.
Рядом с подъездом сидел у собачьей будки на цепи рыжий лохматый пёс с добродушной мордой – настоящий «дворянин» дворянской усадьбы. Увидев гостей, он гостеприимно завилял пушистым хвостом и уже залаял повеселее.
– Свои, Цезарь! – успокоил его Штернер.
Татьяна достала из дорожной котомки остатки пирога и бросила их псу.
Тот обнюхал угощение, но не поспешил его съесть, а улёгся рядом на снег и только тогда распробовал.
Со всех сторон просторный дом окружал небольшой уютный сад, припорошенный инеем. Деревьев было много, а вдоль ограды белели ягодные кусты. Внутри сада, у резной беседки, в которой наверняка летом хозяева пили самоварный чай и вели светские беседы с гостями, стояла снежная баба – с картофельным носом, глазами-углями, закутанная в деревенский платок, из-под которого торчала прядь волос из пакли.
– Какая смешная! – рассмеялась Татьяна. – Мы в своём дворе, в Вязьме, тоже лепим такую же каждую зиму. А у вас, в Германии, снежных баб лепят?
– Там лепят снеговиков, – ответил Атаназиус, – с огурцом вместо носа. Иногда с усами и бородой, с тростью или зонтом в руке, но обязательно в котелке.
Татьяна обвела взглядом дом и флигель:
– Хорошие хоромы у Александра Сергеевича! Большие, просторные!
– И тёплые, наверное, – согласился с ней Штернер, обивая от холода один носок сапога о другой.
– У поэтов должны быть тёплые дома, – сказала Татьяна.
– И не только у поэтов, – добавил он.
Чего не знали наши герои, так это то, что сии «хоромы» принадлежали не Пушкину, а отставному чиновнику, прапорщику, карачаевскому предводителю дворянства, а также губернскому секретарю Никанору Никаноровичу Хитрово и его супруге Екатерине Николаевне, урождённой Лопухиной.
На первом этаже жила экономка фрау Анхель. Сам же Пушкин когда-то снимал весь второй этаж.
В книге маклера Пречистенской части Москвы Анисима Хлебникова сохранилась даже запись той сделки.
…«1831-го года января 23-го дня, я, нижеподписавшийся г-н десятого класса Александр Сергеев сын Пушкин, заключил сие условие со служителем г-жи Сафоновой Семёном Петровым сыном Семёновым данной ему доверенности от г-на губернского секретаря Никанора Никанорова сына Хитрова в том, что 1-ое нанял я, Пушкин, собственный г-на Хитрова дом, состоящий в Пречистенской части второго квартала под № 204-м в приходе ц. Троицы, что на Арбате, каменный двухэтажный с антресолями и к оному прилежащему людскими службами, кухней, прачечной, конюшней, каретным сараем, под домом подвал, и там же запасной амбар, в доме с мебелью по прилагаемой описи сроком от вышеописанного числа впредь на шесть месяцев, а срок считать с 22-го января и по 22-е июля сего 1831-го года по договору между ними за две тысячи рублей государственными ассигнациями, из коей суммы при заключении сего условия должен я, Пушкин, внести ему Семёнову, половинную часть, то есть тысячу рублей ассигнациями, а последнюю половину по истечении тех месяцев от заключения условия, принять мне, г-ну Пушкину дом со всеми принадлежностями и мебелью по описи 6-е в строениях, занимаемых мною Пушкиным, выключаются комнаты нижнего этажа дома для жительства экономки и приезда г-на Хитрова. К сей записи 10-ого класса Александр Сергеев сын Пушкин руку приложил».
…Сюда же, в дом Хитрово, Александр Сергеевич привёз свою молодую жену – красавицу Наталью Николаевну. А за день до свадьбы здесь же прошёл «мальчишник» с участием ближайших его друзей. Приглашёнными были: брат Лёвушка, поэты – Денис Давыдов, Николай Языков, Евгений Боратынский и Пётр Вяземский с одиннадцатилетним сыном Павлом, которого очень любил Пушкин, называя его «распрекрасный мой Павлуша», а ещё издатель Иван Киреевский со своим отчимом Елагиным и композитор Алексей Верстовский, а также коллекционер, меценат и покровитель искусств поручик Лейб-Кирасирского Её Императорского Величества полка в отставке – Павел Нащокин.
Вяземский под дружеский хохот читал, сочинённые здесь же на мальчишнике, стихи:
– Пушкин! завтра ты женат!Холостая жизнь прощай-ка!Обземь холостая шайка!..Сам же А. С., как вспоминали его друзья, «был необыкновенно грустен и говорил стихи, прощаясь с молодостью»…
«В начале жизни школу помню я;Там нас, детей беспечных, было много;Неровная и резвая семья…»Читал он и другие свои стихи, которых после никто и никогда больше не видал в печати.
Зато назавтра, 18 февраля 1831 года, в день своей свадьбы, что состоялась сразу же после венчания в Храме Большого Вознесения у Никитских ворот, Пушкин был шумен, весел и очень счастлив.
…Штернер и Татьяна подождали у парадного подъезда совсем недолго.
На крыльцо выкатилась невысокого росточка энергичная дама с пухлым лицом и добродушной улыбкой.
– Guten Morgen! – сказала она по-немецки. – Ich bin eine Haushälterin Herren Chitrowo. Und mein Name ist Angel Koch.
По-русски это звучало так:
– Здравствуйте! Я экономка господ Хитрово. А зовут меня Анхель Кох.
– Wie Sie aus Deutschland, – продолжила она, – Herz und Zastučalo als Starling im Frühjahr Fenster gehört…