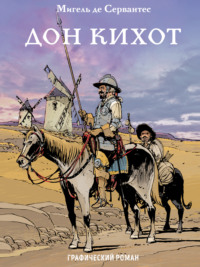полная версия
полная версияДон Кихот
Услышав эти слова, Дон Кихот пощупал себе горло и, обратившись к герцогу, сказал:
– Клянусь Богом, сеньора Дульсинея говорит правду: душа моя застряла у меня в горле, как ядрышко арбалета.
– Что вы на это скажете, Санчо? – спросила герцогиня.
– Скажу, сеньора, – ответил Санчо, – то, что уже раньше сказал, бить себя плетьми – abernuncio!
– Нужно говорить abrenuncio, Санчо, – заметил герцог.
– Оставьте меня в покое, ваше высочество, – ответил Санчо. – Мне сейчас не до того, чтобы считать буквы в словах. Ведь речь идет о том, чтобы я себя высек или чтобы меня высекли. Немудрено, что я волнуюсь и путаю слова. Вернемся лучше к делу. Не могу надивиться на вас, сеньора Дульсинея. Вы уговариваете меня содрать с себя кожу плетью и в то же время величаете дубиной, бесчувственным животным, каменным сердцем и целой уймой других бранных кличек, которых не стерпел бы и сам дьявол. Или вы думаете, что мое тело отлито из бронзы? Помилуйте! Вы хотите меня задобрить и, вместо того чтобы поднести мне корзину хорошего белья, – потчуете меня отборной бранью. А ведь вы, конечно, знаете отличные пословицы: золотой осел и на гору подымает, а подарки скалу прошибают, у Бога проси, а сам молотом стучи. А тут еще мой господин заявляет, что привяжет меня к дереву и всыплет двойную порцию ударов. Ну нет! Этим сеньорам следует помнить, что речь идет о том, чтобы выпороть не простого оруженосца, а губернатора. А это, скажу вам, не вишневая наливка. Нет, нет, сеньоры. Научитесь-ка сперва просить и уговаривать как следует. К тому же день на день не приходится: человек не всегда бывает в духе. Вот и сейчас – я и без того вне себя от досады, что у меня порвали мой зеленый кафтан, а тут еще приходят и просят: «Высеки себя по доброй воле». По доброй воле! Вы бы еще попросили меня по доброй воле сесть на кол.
– Однако, друг Санчо, – сказал герцог, – если вы не сжалитесь над бедняжкой, вам не придется управлять островом. Что станут говорить обо мне, если я назначу губернатором жестокосердого человека, которого не трогают ни слезы страждущих девиц, ни просьбы разумных, могучих мудрецов и волшебников? Итак, Санчо: или вы себя высечете, или вас высекут, или вы не будете губернатором.
– Сеньор, – ответил Санчо, – не дадите ли вы мне дня два на размышление?
– Ни в коем случае, – возразил Мерлин. – Вы должны дать немедленный ответ. Либо Дульсинея возвратится в пещеру Монтесинос и будет влачить жалкое существование в обличии крестьянки, либо воспарит в Елисейские поля[120] и пребудет там до тех пор такой же прекрасной, какой вы ее видите, пока вы не нанесете себе положенного числа ударов.
– Ну что же, добрый Санчо, – сказала герцогиня, – решайтесь. Отплатите добром за хлеб, который вы ели у вашего господина Дон Кихота. Мы все обязаны служить этому доблестному рыцарю за его великие добродетели и подвиги. Соглашайтесь скорее на порку. Пускай себе черт хватает черта, а страх – труса. О храброе сердце разбиваются все невзгоды.
Но Санчо уклонился от прямого ответа и, желая протянуть время, спросил Мерлина:
– Скажите, ваша милость сеньор Мерлин: ведь сюда под видом гонца являлся дьявол, который от имени сеньора Монтесиноса просил дождаться его здесь, говоря, что сеньор Монтесинос откроет, каким способом моему сеньору можно расколдовать донью Дульсинею Тобосскую, а между тем до сих пор мы не видели этого сеньора.
На это Мерлин ответил:
– Друг мой Санчо, этот дьявол – невежда и величайший негодник. Я послал его к вашему господину с поручением не от Монтесиноса, а от меня лично. Монтесинос сидит у себя в пещере и ждет не дождется, когда его расколдуют. Ну а теперь дайте же, наконец, свое согласие на бичевание. Поверьте мне, оно и душе и телу принесет большую пользу: душе – потому, что вы проявите этим милосердие, а телу – потому, что вы, как я вижу, человек полнокровный и небольшое кровопускание не может вам повредить.
– Очень уж много на свете лекарей: даже волшебники и те этим делом занимаются, – ответил Санчо. – Ну, раз все меня уговаривают, то хотя я сам и другого мнения, а соглашаюсь нанести себе три тысячи триста ударов плетью, но при одном условии: никаких сроков для выполнения этой дурацкой затеи назначено не будет, и я буду хлестать себя только тогда, когда мне это вздумается. Впрочем, я постараюсь развязаться с этим долгом как можно скорее, дабы весь мир мог порадоваться красоте сеньоры Дульсинеи Тобосской. По правде говоря, я никак не ожидал, что она так прекрасна. Еще я должен оговориться: я не обязан бичевать себя до крови, и если иные удары только мух спугнут, все же они будут мне зачтены. А если я ошибусь в счете, сеньор Мерлин, от которого ничто не может укрыться, возьмет на себя труд подсчитать и сообщить мне, сколько ударов еще недостает или сколько я сделал лишних.
– Об этом не беспокойтесь, – ответил Мерлин, – ибо, как только вы отвесите себе назначенное число ударов, сеньора Дульсинея будет расколдована и тотчас явится к доброму Санчо, чтобы поблагодарить его и наградить за добрую услугу. Поэтому не бойтесь ошибиться в счете: само Небо не позволит обмануть вас хотя бы на волосок.
– Ну, тогда я отдаюсь в руки Божьи, – ответил Санчо. – Я покоряюсь моей горькой участи и соглашаюсь отхлестать себя. Будь что будет.
Не успел Санчо произнести эти слова, как вновь раздались звуки кларнетов, снова загремели бесчисленные выстрелы из мушкетов, а Дон Кихот обнял Санчо и стал осыпать его поцелуями. Герцог, герцогиня и вся свита выказали свое величайшее удовольствие. Дульсинея отвесила поклон герцогу и герцогине, сделала глубокий реверанс Санчо, и колесница тронулась дальше.
Между тем приближался рассвет. Полевые цветочки приподняли и выпрямили свои опущенные головки, хрустальные воды ручейков, журча меж белых и желтых камешков, понесли свою дань рекам, поджидавшим их вдали. Веселая земля, чистое небо, прозрачный воздух, яркий свет – все красноречиво говорило о том, что день обещает быть светлым и ясным. Герцог и герцогиня, довольные удачной охотой и остроумной шуткой, разыгранной над Дон Кихотом, возвратились в замок с намерением придумать какую-нибудь новую игру, ибо ничто на свете не могло доставить им большего наслаждения.
Глава XLVIII,
в которой рассказывается о необычайном приключении с дуэньей Долоридой, или графиней Трифальди, а также о письме Санчо к жене своей Тересе Пансе
У герцога был дворецкий, большой шутник и забавник. Это он придумал и разыграл сцену в лесу, поручив одному из пажей роль Дульсинеи. В скором времени он устроил новое чрезвычайно забавное представление.
На другой день после достопримечательного происшествия в лесу герцогиня спросила Санчо, приступил ли он к покаянным упражнениям для освобождения Дульсинеи от чар злых волшебников. Санчо ответил, что приступил и уже нанес себе пять ударов. Герцогиня спросила, чем он их нанес. Санчо ответил:
– Да просто рукой.
– Что же это за бичевание! – сказала герцогиня. – Я убеждена, что ваша снисходительность к себе не понравится мудрому Мерлину. Вам, Санчо, следует завести себе добрую плеть. А такой дешевой ценой, как шлепки ладонью, нельзя купить свободу сеньоры Дульсинеи. Заметьте, Санчо, что дела милосердия, выполняемые нерадиво, не имеют значения и никогда не зачитываются.
На это Санчо ответил:
– А вы, ваша светлость, подарите мне подходящую плетку. Ее я и пущу в ход, если она не слишком больно стегает. Разрешите доложить вашей милости, что хотя я и мужик, а тело у меня более похоже на вату, чем на дерюгу, и не годится мне калечить себя ради чужой прибыли.
– В добрый час, – ответила герцогиня, – завтра же подарю вам плетку, которая как нельзя лучше подойдет к вашей нежной коже.
Санчо помолчал с минуту, а затем, желая переменить разговор, сказал:
– Да будет известно вашему величию, дорогая сеньора, что я решил послать письмо моей жене Тересе Пансе. Там я рассказываю обо всем, что со мной случилось во время моих странствований. Мне бы очень хотелось, чтобы ваше мудрейшество прочли его, прежде чем я его отправлю. Мне кажется, что оно написано совершенно так, как должны писать губернаторы.
– А кто ж сочинил его? – спросила герцогиня.
– Да кому же было сочинить его, как не мне, грешному? – ответил Санчо.
– А написали его тоже вы сами? – продолжала герцогиня.
– Ишь, чего вы захотели, ваша милость! – ответил Санчо. – Да ведь я ни читать, ни писать не умею. Умею только кое-как нацарапать свое имя. Письмо с моих слов написал ваш дворецкий.
– Ну, дайте посмотреть, – сказала герцогиня. – Оно, наверное, очень умно и интересно.
Санчо вытащил из-за пазухи незапечатанное письмо и передал его герцогине.
ПИСЬМО САНЧО ПАНСЫ К ЕГО ЖЕНЕ ТЕРЕСЕ ПАНСЕ
Ну, милая Тереса, теперь уже недолго мне дожидаться губернаторства. Только оно вскочит мне в хорошую порку. Всего этого ты не поймешь сейчас, дорогая жена, но в другой раз я объясню тебе все подробно. Да будет тебе ведомо, Тереса, что я твердо решил, что ты должна разъезжать в карете, а пешком пусть ходит кошка за мышами. Ты жена губернатора, – смотри же, не позволяй никому наступать тебе на пятки. При сем посылаю зеленый охотничий кафтан, который мне пожаловала сеньора герцогиня; постарайся его переделать на корсаж и юбку для нашей дочки. О господине моем Дон Кихоте в здешних краях говорят, что он хотя и сумасшедший, но умник, хотя и чудак, но забавник. Прибавляют, что я ни в чем не уступаю моему сеньору. Побывали мы в пещере Монтесинос, и мудрый Мерлин, желая избавить Дульсинею Тобосскую, которую на родине все называют попросту Альдонсой Лоренсо, от чар злых разбойников, избрал меня в ее освободители. Я должен нанести себе три тысячи триста ударов плетью, и тогда она будет освобождена. Смотри только, никому не говори об этом. Коли вынесешь на люди свои дела, один тебе скажет – черное, а другой – белое. Через несколько дней я отправляюсь на свой остров. Очень мне хочется нажить побольше денег. Говорят, впрочем, что и все вновь испеченные губернаторы пылают таким желанием. Когда я обживусь на новом месте, непременно напишу тебе, стоит ли тебе приезжать или нет. Серый чувствует себя хорошо и шлет тебе поклоны. Я ни за что не расстанусь с ним, хотя бы меня произвели в турецкие султаны. Герцогиня, моя госпожа, тысячу раз целует тебе ручки, а ты передай ей две или три тысячи поцелуев. Любезные слова, как говорит мой господин, обходятся дешево. На этот раз Господу Богу не угодно было послать мне чемоданчик с червонцами. Но ты не огорчайся, милая Тереса. Подожди немного: вот стану я губернатором, так мы с тобой набелим полотна. Ну, словом, так или иначе, а я сделаю тебя богатой.
Твой муж, губернатор Санчо ПансаПрочитав письмо, герцогиня сказала:
– Письмо отличное, но в одном месте наш добрый губернатор немного сбился с пути истинного: там, где он высказывает такое сильное корыстолюбие. Боюсь, как бы цветочки не завяли прежде, чем успеют расцвести. Ведь жадность рвет мешок, а корыстолюбивый правитель не может творить правый суд.
– Да я совсем не то хотел сказать, сеньора, – ответил Санчо. – Впрочем, если вашей милости кажется, что письмо написано не так, как следует, – давайте порвем его. Боюсь только, чтобы другое не вышло еще хуже. Трудно мне полагаться лишь на мои собственные мозги.
– Нет-нет, – возразила герцогиня, – письмо написано отлично, и мне хочется показать его герцогу.
С этими словами она направилась в сад, где было решено обедать в этот день.
Герцогиня показала письмо герцогу, и тот прочел его с огромным удовольствием. Обед прошел очень оживленно и весело. Наконец убрали со стола. Однако герцог и герцогиня все еще продолжали сидеть, наслаждаясь забавными шутками Санчо. Вечер был тихий и спокойный. Вдруг послышался заунывный звук флейты и глухой, тревожный грохот барабана. Все были поражены этой воинственной и печальной музыкой, особенно Дон Кихот, который от волнения не мог усидеть на месте. Санчо же со страха забрался в свое привычное убежище, то есть поближе к юбкам герцогини, ибо, по правде сказать, доносившиеся из сада звуки были очень тревожны и унылы. Между тем, пока все присутствующие переглядывались в большом смущении, в сад вошли два человека в таких широких и длинных траурных одеждах, что край их волочился по земле. Они ударяли в большой барабан, обтянутый черной тканью. Позади шел флейтист, также весь в черном, а за флейтистом шествовал человек гигантского роста, закутанный в черный-пречерный кафтан с огромным шлейфом; широкая черная перевязь опоясывала его поверх кафтана, и на ней висел громаднейший ятаган в черной оправе и в таких же ножнах. Лицо человека было закрыто прозрачным черным покрывалом, сквозь которое просвечивала длинная, белая как снег борода. Он выступал величественно и важно в такт барабану. Его громадный рост, гордая поступь, черное облачение и свита могли бы смутить всякого, тем более что никто не знал, кто он такой.
Медленно и торжественно приблизился он к герцогу, который поджидал его, стоя в кругу своих приближенных, и опустился перед ним на колени. Но герцог повелел ему встать. Тогда великан поднялся и, откинув с лица покрывало, открыл такую страшную, окладистую, густую бороду, какой никогда еще не созерцали человеческие глаза. Затем, устремив взоры на герцога, он произнес звучным низким голосом:
– Высочайший и могущественный сеньор, меня зовут Трифальдин Белая Борода; я – оруженосец графини Трифальди, иначе именующейся дуэньей Долоридой. Она отправила меня с посольством к вашему высочеству, дабы просить вашего разрешения предстать перед вами и лично рассказать вашей милости о своем необыкновенном горе. Но прежде всего она желает знать, не находится ли в вашем замке отважный и непобедимый рыцарь Дон Кихот Ламанчский. В поисках этого доблестного рыцаря она пешком и натощак прибыла в ваше государство из своего отдаленного королевства. Графиня ждет у ворот вашего дворца и явится сюда, как только вы дадите мне благоприятный ответ. Я кончил.
Тут он кашлянул, обеими руками оправил свою бороду и с большим достоинством стал ждать ответа герцога. А тот сказал:
– Уж давно, добрый оруженосец, до нас дошла весть о несчастье, постигшем графиню Трифальди, которую злые волшебники заставили называться дуэньей Долоридой. Передайте ей, что храбрый рыцарь Дон Кихот Ламанчский находится здесь и, конечно, окажет ей всяческую помощь и защиту. Да и я тоже готов помочь ей, ибо этого требует мое рыцарское достоинство.
Услышав это, Трифальдин снова преклонил колени, потом подал знак флейтисту и барабанщикам и удалился из сада так же торжественно, как и вступил в него.
А герцог обратился к Дон Кихоту и сказал:
– О знаменитый рыцарь, велика слава ваших подвигов! Не успели вы пробыть под нашей кровлей несколько дней, а уже со всех сторон спешат сюда люди из дальних стран в поисках вашей помощи, покровительства и защиты, ибо все знают, что великодушие и доблесть ваши не имеют пределов.
– Я возношу Господу бесконечную благодарность, – ответил Дон Кихот, – за то, что он допустил меня сделаться странствующим рыцарем. Сколько бы горестей ни встретилось на моем пути и какие бы труды я ни понес, я убежден, что все они принесут пользу. Жаль только, ваша светлость, что здесь нет вашего почтенного духовника. Вы помните, с каким презрением он отзывался о странствующих рыцарях. Теперь бы он воочию убедился, что именно у этих презренных странствующих рыцарей ищут помощи и утешения все угнетенные и безутешные. Пусть эта дуэнья просит у меня всего что захочет; сила моей руки и бестрепетная решимость моего духа доставят ей исцеление от бед.
Герцог и герцогиня были чрезвычайно довольны, видя, с каким простодушием Дон Кихот принимает за чистую правду затеянную ими шутку. А Санчо сказал в раздумье:
– Боюсь я, как бы эта сеньора дуэнья не испортила моего дела с губернаторством. Один мой знакомый, аптекарь из Толедо, не раз говорил мне: «Коли в дело замешаются дуэньи, так уж не жди ничего хорошего». Вот я и опасаюсь, как бы эта дуэнья Долорида[121], или графиня Три фалды, или Три хвоста (по-деревенски что фалды, что хвосты – все едино), не наделала нам беды.
– Замолчи, друг мой Санчо, – прервал его Дон Кихот, – эта сеньора дуэнья приехала ко мне из таких далеких стран, что, уж наверное, она не входит в число тех дуэний, о которых говорил аптекарь, тем более что она – графиня, а графини служат дуэньями только королевам или императрицам, а у себя дома они – весьма знатные дамы, и им прислуживают другие дуэньи.
Донья Родригес, слышавшая этот разговор, сказала:
– У моей сеньоры герцогини есть такие дуэньи, которые тоже могли бы быть графинями, если бы судьбе было угодно. И пусть никто не говорит дурно о дуэньях. Впрочем, оруженосцы всегда были нашими врагами – они вечно торчат в передних и от скуки занимаются тем, что перемывают нам косточки, роя яму нашей доброй славе. Чтоб им всем попасть на галеры, а мы назло им будем жить, да еще в роскошных замках, хотя бы нам приходилось там помирать с голоду и носить черные хламиды.
Этот разговор внезапно был прерван звуками флейты и барабанов, возвещавшими, что дуэнья Долорида уже вошла в сад. Герцогиня спросила мужа, не следует ли пойти навстречу гостье: ведь она все-таки графиня и знатная дама. Но прежде чем герцог успел ответить, Санчо сказал:
– Поскольку она графиня, вашим высочествам надлежало бы выйти к ней навстречу; но, поскольку она дуэнья, я считаю, что вам незачем двигаться с места.
– Кто тебя просит вмешиваться, Санчо? – сказал Дон Кихот.
– Кто просит? – ответил Санчо. – Я вмешиваюсь потому, что имею право вмешиваться: недаром же я ваш оруженосец и изучил правила вежливости в школе вашей милости, а ведь вы самый вежливый и, можно сказать, благовоспитанный рыцарь.
– Санчо прав, – промолвил герцог, – посмотрим сначала, какова эта графиня, а затем решим, какие ей полагаются почести.
В эту минуту, предшествуемые музыкантами, в саду появились двенадцать дуэний в широких хламидах из шерстяной рядины и в белых токах с длинными, чуть не до земли, крыльями. За ними выступала графиня Трифальди, опираясь на руку оруженосца Трифальдина Белая Борода. Она была одета в платье из тончайшей черной материи с громадным разрезным шлейфом, концы которого несли три пажа, тоже одетые в траур; три острых угла, образованные этими концами, составляли красивую математическую фигуру, и все сразу догадались, что именно это украшение и объясняет имя графини Трифальди, иначе говоря – графини Трех фалд.
Торжественным шагом выступала эта сеньора, окруженная дуэньями, лица которых были закрыты черными покрывалами, но не прозрачными, как у Трифальдина, а такими густыми, что сквозь них ничего не было видно. Увидев эту процессию, герцог, герцогиня и Дон Кихот встали, а за ними поднялись и все остальные. Подойдя поближе, дуэньи остановились и, расступившись, пропустили вперед Долориду, которая продолжала опираться на руку Трифальдина. Герцог, герцогиня и Дон Кихот сделали шагов двенадцать ей навстречу, а она опустилась на колени и хриплым и грубым голосом произнесла:
– Будьте любезны, ваши высочества, не оказывайте таких почестей вашему покорному слуге, – простите, я хотела сказать – служанке. Не удивляйтесь, что я путаю слова. Меня терзает сейчас такая мучительная скорбь, что я не в силах говорить толково. Неслыханное бедствие лишило меня разума и унесло его, должно быть, на край света, так что чем больше я его ищу, тем меньше могу найти.
– Поистине, сеньора графиня, – ответил герцог, – нужно потерять рассудок, чтобы не догадаться, что вы заслуживаете величайшей учтивости, на какую способны благородные и хорошо воспитанные люди.
Тут он предложил ей руку и усадил в кресло рядом с герцогиней, приветствовавшей графиню с неменьшей любезностью. Дон Кихот молчал, а Санчо умирал от желания увидеть лицо Трифальди или одной из ее многочисленных дуэний. Однако он не решался громко заявить о своем желании, поэтому ему оставалось только ждать, пока они сами по доброй воле не откинут покрывал.
Все стояли тихо и хранили молчание, с нетерпением ожидая, чтобы кто-нибудь его нарушил. Наконец дуэнья Долорида произнесла такие слова:
– Я уверена, могущественнейший сеньор, прекраснейшая сеньора и вы все, мудрейшие господа, что мое горчайшее горе встретит в ваших доблестных сердцах благосклонный, великодушный и сострадательный прием, ибо горе мое столь велико, что оно могло бы растрогать мрамор, умягчить алмазы и растопить сталь. Но прежде всего я хотела бы знать, находятся ли в этом блестящем обществе безупречнейший рыцарь Дон Кихот Ламанчский и его оруженоснейший слуга Санчо Панса.
Прежде чем кто-либо успел ответить, Санчо сказал:
– Оруженоснейший Панса здесь, его Дон Кихотейший господин тоже, а посему, обездоленнейшая и дуэньейшая сеньора, вы можете говорить, что вам будет угоднейше, ибо все мы готовы быть вашими наислужайшими слугами.
Тогда Дон Кихот встал и, обратившись к дуэнье Долориде, сказал:
– Если ваши безмерные страдания, сеньора, не убили в вас всякую надежду на то, что доблесть и сила странствующего рыцаря способны вам помочь, то я готов все мои силы, как бы слабы и незначительны они ни были, употребить на служение вам. Я – Дон Кихот Ламанчский, мое призвание – помогать всем нуждающимся. Вам незачем стараться разжалобить нас разными причитаниями. Говорите прямо и открыто, поведайте нам о ваших горестях – мы вас слушаем и готовы вам помочь или, по крайней мере, погоревать вместе с вами.
Услышав эти слова, дуэнья Долорида поднялась с кресла, бросилась к ногам Дон Кихота и сказала:
– Я припадаю к вашим стопам, о непобедимый рыцарь, как к стопам всего странствующего рыцарства; я хочу облобызать эти стопы, от шагов которых зависит избавление мое от всех бед, о доблестный странствующий рыцарь, чьи великие деяния превосходят и затмевают все сказочные подвиги Амадисов, Эспландианов и Бельянисов.
Затем она обратилась к Санчо Пансе и, схватив его за руки, сказала:
– О ты, преданнейший из оруженосцев, сопутствовавших странствующим рыцарям, ты, чьи достоинства больше бороды моего спутника Трифальдина. Ты вправе гордиться своей службой великому Дон Кихоту, ибо в его лице ты служишь всем рыцарям, которые когда-либо владели мечом. Заклинаю тебя твоей вернейшей верностью: будь добрым посредником между мною и твоим господином, дабы он взял под свою защиту меня, смиреннейшую и злополучнейшую графиню.
На это Санчо ответил:
– Не стоит говорить о моих достоинствах, сеньора. Я и без всяких этих уламываний готов просить моего господина пособить вам. Только выкладывайте-ка нам поскорее все ваши горести, ваша милость, да не очень горюйте. Уж мы с господином придумаем, как вам помочь.
Слушая эти речи, герцог и герцогиня помирали со смеху и не переставали восхищаться про себя остроумием и искусной игрой графини Трифальди. А та, усевшись, начала так:
– В славном королевстве Кандайя, лежащем между великой Трапобаной и Южным морем, в двух милях от мыса Коморин, правила королева, донья Магунсиа, вдова короля Арчипьелы; у нее была дочь, инфанта Антономасиа, которая воспитывалась под моим надзором, так как я была старейшей и знатнейшей из всех дуэний ее матушки. Жили мы тихо, мирно, счастливо. Годы мелькали за годами. Наконец маленькой Антономасии исполнилось четырнадцать лет. Она была так прекрасна, что, казалось, природа не могла создать ничего более совершенного. Слух о ее достоинствах облетел весь мир и привлек к нашему двору множество могущественных принцев из наших краев и из чужих земель; и вот, среди них один простой рыцарь замыслил покорить сердце моей красавицы. Он полагался на свою молодость и изящные манеры, на блеск и тонкость своего ума и многочисленные таланты, ибо должна сказать вашим высочествам, если только мой рассказ вам не наскучил, что когда он играл на гитаре, то казалось, что струны ее говорят; вдобавок ко всему он был поэтом и отличным танцором, умел делать клетки для птиц и мог, если бы понадобилось, заработать себе на жизнь. Обладая такими талантами и достоинствами, он мог бы гору сдвинуть с места, а не то что покорить сердце нежной девушки. Однако ни красота, ни привлекательность, ни дарования не помогли бы дону Клавихо победить мою воспитанницу, если бы этот разбойник и душегуб не прибег к хитрости и не повел бы осаду сперва против меня. Этот коварный пройдоха решил сначала втереться в мое сердце. Он лестью усыпил мой разум и завоевал меня разными безделками и погремушками. В конце концов твердыня моего благоразумия рухнула и рассыпалась. С моей помощью он сумел познакомиться с Антономасией и покорить ее сердце. Благодаря моей осторожности и предусмотрительности первые их свидания остались тайной, но все-таки их любовь должна была в конце концов открыться. Надо было во что бы то ни стало уладить дело. Мы решили, что дон Клавихо будет просить руки Антономасии у ее духовника и покажет ему письмо инфанты, где она обещает стать женой дона Клавихо. Духовник прочел письмо, призвал инфанту, выслушал ее исповедь и велел ей укрыться в доме одного почтенного альгвасила…[122]