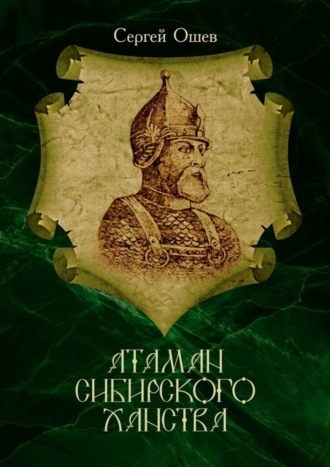
Полная версия
Атаман Сибирского ханства
Слова «владыка», «князь», историки пишут с большой, заглавной буквы, а «хан» – равнозначный ему по значению сан – принято писать с маленькой, прописной, тем самым хоть чуть-чуть, зрительно, но принижая величие властелинов сибирских.
Да и столица Тобольской орды преднамеренно перенесена историками из Бицик-Туры, основанной ещё в XII веке на мысе Алафа-Яр (с арабского «алафа» – корона; Алтын-Аргинак яр, Алафейская гора, Алафа-кряж (обрывистый берег, край горы), Алафеевский мыс, Троицкий мыс – на нём сейчас стоит Тобольск), вверх по Иртышу на 18 км, в Искер (Кашлык, Сибирь), который играл роль всего лишь станка, стоянки, по сути, загородного дачного посёлка для отдыха, приёмов гостей в неформальной обстановке, соколиной и прочей охоты хана Кучума со свитой, тем самым умышленно принижая и уменьшая роль и значение в истории всей Тобольской орды и Сибирского ханства в целом. Для чего в описаниях своих преднамеренно, дабы умалить (уменьшить) силу трагизма, по сути, кровавого, жестокого и безжалостного завоевания с массовым уничтожением сибирского населения и разграблением всего нажитого ими тяжким трудом скарба, в летописях своих подменяют нейтральным безобидным понятием «взяли». Крепость, городок, улус «взяли». Много добра, пушнины, серебра и золота «взяли». Лежало никому не нужное, вот и «взяли».
Тут сделаю отступление и приведу типичный пример подмены понятий на всем известной народной песне.
По диким степям Забайкалья,Где золото роют в горах,Бродяга, судьбой недовольный,Тащился с сумой на плечах.Бежал из тюрьмы тёмной ночью,За правду он долго страдал.Идти дальше нет уже мочи —Пред ним расстилался Байкал.Бродяга к Байкалу подходит,Рыбацкую лодку берётИ грустную песню заводит,Про Родину что-то поёт.Бродяга Байкал переехал,Навстречу родимая мать.Ах, здравствуй, ах, здравствуй, родная,Здоров ли отец мой и брат?Отец твой давно уж почивший,Землёй призасыпан лежит.А брат твой давно уж в Сибири,За правду в темнице сидит.Так и вытравливают историю из нашей памяти, что очевидно из первоисточника, из уст наших родителей.
По диким степям Забайкалья,Где золото роют в горах,Бродяга, судьбу проклиная,Тащился с сумой на плечах.Идёт он глухою тайгою,Где пташки одни лишь поют,Котёл его сбоку тревожит,Сухие коты ноги бьют.На нём рубашонка худаяСо множеством разных заплат.Шапчонка на нём арестантаИ серый тюремный халат.Бежать с Колымского краяЗа злато конвой не мешал,Он там за тюремной решёткойДолгий срок за разбой отбывал.«Оставил жену молодуюИ малых оставил детей,Теперь вот иду наудачу,Не знаю, увижусь ли с ней».Бродяга к Байкалу подходит,Рыбацкую лодку крадёт,Унылую песню заводит,О горькой судьбе слёзы льёт.Бродяга с Байкала приметилНа бреге сутулую мать(Он в горе сидящую мать),Сегодня сына родногоЕй сердце велело встречать.……………………..Отец твой давно уж в могиле,Сырою землёю зарыт,А брат твой к тачке прикован,В шахте киркою стучит(В горе кандалами гремит).Пойдём же, пойдём, мой сыночек,Пойдём же в курень наш родной,Жена по тебе там тоскует,И плачут детишки гурьбой.В другом варианте бродяга узнаёт, что жена, бросив детей, убежала с другим. Он находит жену, просит надеть подвенечное платье, в котором она с ним венчалась. И, обняв, ножом убивает её, неверную, вместе с её новым мужем и уходит куда глаза глядят.
По диким степям Забайкалья,Где золото роют в горах,Бродяга, судьбу проклиная,Тащился с сумой на плечах……Хеппи-энд.Вот ещё пример. Даже малые дети знают Соловья-разбойника как тщедушного злобного карлика, сидящего на дереве и поджидающего для разбоя свою жертву. Знают как грабителя, пугающего своим свистом всякого прохожего и проезжего. Но былины XV – XVI вв. называют Соловья, наряду с Ильёй Муромцем, однородным с ним богатырём – защитником и стоятелем за русскую землю. Есть даже былина, где Илья просит Соловья помочь ему выручить город Кряков и оба богатыря исполняют это дело вместе.
Подменить, исказить и забыть
Потакая великодержавным амбициям, «историки» настойчиво убеждают читателя в том, что в Сибири находились лишь дикие малочисленные полукочевые племена, с которыми нечего и церемониться (живут в лесу, молятся колесу). Считая, что все эти народы дикие, окаянные, богомерзкие, коварные, трусливые, нечестивые, свирепые, супостаты, неразумные, презренные тати, дерзкие кочевники, басурманы, обманщики, варвары, дикари, погань магометанская, неверные язычники, нечисть, дундуки, падаль, чудь заблудшая, псы бродячие, хищники, и как вишенку на тортик, каждый (!), каждый пишущий о Сибири своим гражданским долгом считает непременно принизить и присовокупить уничижительно пренебрежительное выражение: так называемые князцы, князьки, напрочь игнорируя факт, что у так называемых князьков в их безграничной Великой Тартарии земельных угодий по площади и богатств всяческих (от золота до пушнины) было в десятки, сотни раз больше, чем у великого князя улуса Московского. Стремятся принизить значение тех, кто имел многочисленные межплеменные торговые связи от Китая до Ольвии и в обиходе домашнем пользовался персидскими коврами и зеркалами, щеголял в соболиных мехах. В рационе питания которых постоянно присутствовала стерляжья уха, чёрная икра и осетрина. Кроме оленины с лосятиной, употребляли мясо тетеревов и лебедей. А сорной рыбой и зайчатиной кормили ездовых собак. Восседая на персидских коврах, пили китайский чай из китайского фарфора, в то время как Московская улусная орда ходила в лаптях, пила морковный чай, питалась пареной репой и жила в избах вместе со свиньями, курами и всяческой другой рогатой скотиной. Ярким доказательством этого является неоспоримый исторический факт, что бедные мокшане-русы ходили грабить богатую Сибирь, а не наоборот. Такое пренебрежительное отношение москвитян к сибирцам поощряло сельников занимать якобы пустующие территории и объявлять сибирские земли своими вотчинами. Да и просто грабить сибиряков, оправдывая свои разбойничьи действия защитой от других племён и принуждением всяческими изуверскими методами насильственного взятия с них шерти (присяги) на подданство (подчинение) власти завоевателей. И как результат – платы дани, налога (ясака) мягким золотом – пушниной.
Так всё сглажено и закамуфлировано, что порой подобное чтение вызывает умиление удалью грабителей. «…И победите бусорманского царя Кучюма, и балваны, и боги их мерския идолы сожгите, и их нечестивые капища разорите…» Поэтому сношения московских правителей с ханством Сибирским и Тобольской ордой в частности совершенно не было ровным, дружественным и добрососедским. Что, впрочем, не мешало Иоанну III с 1488 года именовать себя в титуле князем Угорским, сыну его Василию – князем Обдорским и Кондинским, а внуку Иоанну IV – князем Сибирским.
Давным-давно прикочевали в Сибирь полчища мунгалов, шейбанов, шейбугинов, тайбугинов, шейбанидов, саргатов, чингизидов и прочих народов великих. Увидели край благодатный и стали войной первенство делить, кому из них главенствовать и Сибирь грабить. Победили в междоусобной войне более сильные шейбаниды. И чтобы укрепить на завоёванных землях среди местных жителей власть свою, не стали сразу навязывать многобожным язычникам обычаи свои и веру магометанскую, а как народ хитрый, иносказательный, пошли азиаты не напролом, а путём дальним, стали веру свою постепенно внедрять, мягко да ласково. Мечети по юртам да улусам стали строить, школы-медресе открывать, учителей, мулл да имамов магометанских приглашать и местным прививать свою культуру, обычаи, обряды и нравы. Но вскоре нагрянули нежданно-негаданно в Сибирь казаки-разбойники – богатыри русские – и без всяких обиняков ханов-правителей уничтожать принялись. У местного народа окаянного идолов их языческих в кострах спалили, капища их святые разорили да разграбили, шаманов всех поубивали. И сказали русские витязи народу местному: «Вот вам наше правильное единобожие, вот вам наши скрепы и великодуховная вера, по ней теперь жить будете! А кто не захочет жить по нашей православной вере, пусть не живёт, а кому жизнь дорога, будет жить по нашей христианской вере!» Вот так и началось, сказывают старики наши, освоение сибирских просторов русскими «первооткрывателями», и продолжилось это богоугодное дело их потомками, геологами-первопроходцами.
В те далёкие времена стародавние
Для начала повествования вспомним, с чего началась хронология интересующего нас похода и в целом трёхлетней эпопеи завоевания Тобольской орды шайкой разбойников под предводительством атамана Ермака.
Патриарх Филарет Никитич, отец царя Михаила Фёдоровича, собственным указом архимандрита Хутынского монастыря Киприана Старорусенникова после его неудачной попытки уговорить шведского королевича Филиппа стать властелином Новгородского княжества был сослан в Тобольск и назначен митрополитом Сибирским и там, приняв сан архиепископа Сибирского и Тобольского, стал первым предстоятелем Тобольской епархии (1621—1624 гг.).
Сразу по приезде в Тобольск, помимо наведения порядка в пущенных на самотёк его предшественниками делах и заботах как в самой епархии, так и в столице Сибирской, так же как и дел крайне неотложных по усмирению бражничества и распутства среди казаков и стрельцов, внедрению среди них дисциплины, как и усмирению распущенности среди монахинь, между делами по строительству церковных храмов, монастырей и сбору средств на их строительство, в свободное от служебных тягот время Киприан решил ещё положить и начало «Сибирской летописи», для чего собрал устные сведения у нескольких казаков, ещё живых участников похода. Но они не могли достоверно судить и свидетельствовать о многих событиях. Они, находясь в Искере, не обладали верными сведениями о последнем походе атамана и последнем его сражении на Вагае. Тем более после гибели Ермака и их панического бегства из Искера не имели больше вестей из покинутых мест, с каждым гребком вёсел всё дальше и дальше отдаляя себя от происходящих в то время событий. Вот из таких разрозненных сведений, слухов, домыслов, предположений и версий случившегося написал Киприан по этому поводу синодик с историей самого похода и поминальным списком погибших казаков. «Повесть о Сибирском взятии» была составлена в целях прославления Тобольской епархии под его, Киприана, руководством. Поэтому в её заголовке отсутствовало даже имя Ермака.
В 1628 (1629) году случился от молнии большой пожар в верхнем посаде, в огне которого сгорела вся тобольская канцелярия и большая часть свитков архива. Немалому горю при пожаре способствовали и множественные остяцкие священные деревянные истуканы и идолы, нанёсшие своим огнём неисчислимый урон ценностям древлехранилища. Через 15 лет к архивам епархии был допущен архиерейский дьяк (чиновник, письменный голова, начальник канцелярии, секретарь) Софийского собора, пленный шляхтич (поляк) Савватий Ефимов. По каким-то соображениям летописцы Савватия Ефимова переименовывают в русского казака Осипова, но в дальнейшем стараниями современников Осипов трактуется непременно и однозначно Саввой Есиповым (Есиповским). Он при копировании оставшихся после пожара епархиальных архивов решил переработать синодик и дополнить его своими рассказами и слышанными им легендами от местных жителей, дабы своей внесённой лептой память о себе тоже для потомков оставить. Основанием и первоисточником для его «летописи» служил частично сохранившийся после пожара синодик архиепископа Киприана. Свою же летопись, которую он шесть лет дополнял легендами, Савватий Ефимов закончил писать 1 сентября 1636 года. Она считается самой полной сибирской летописью, в которой он, Савка Ефимов, объявляет, что он из числа Ермаковых товарищей и что тому, что им описано, был он сам очевидцем и свидетелем.
Савва Есипов, автор самого живучего мифа о завоевании Сибири именно русскими, для того чтобы объяснить, почему они сумели разгромить превосходящие силы Кучума, высказал убеждение, что эти победы достались благодаря мужеству, стойкости и храбрости казаков, а также превосходству огнестрельного оружия над луками. Главным для Есипова в летописи «О сибирской стране, как соизволением Божиим взята бысть от русского копья, собранного и водимого атаманом Ермаком Тимофеевым и своею храброю и предоброю дружиною и соедино мысленною» было доказать, что Сибирь была присоединена к России исключительно усилиями верноподданных царских слуг. Важно было подчеркнуть, что завоевание Сибири было «предусмотрено» провидением именно для русских и совершено с «позволения» Божьего. Но главное, что определило победу над Сибирью, – это великолепные качества русского народа, которыми казаки обладали в полной мере. Савва Есипов в этом отношении был сыном своего времени, которое устанавливало свои представления о мире. Так утверждают современные учёные, оставим это на их совести.
Предположим, что Ермак с шайкой пришёл на Чусовую в 1577 году. С того года по 1636 год минуло 59 лет. Допустим, разбойничал на Волге 20-летним, то выходит, сочинителю летописи 80 лет, что считается большой редкостью для неучёного разбойника, который за жизнь свою пролил больше чужой крови, нежели чернил. Поэтому доверять сказам Савватия Ефимова (Осипова, Есипова) возлагаю на усмотрение самого читателя.
Летопись Саввы Ефимова (Есипова) обнаружилась более чем через столетие, во время ревизии после очередного пожара в нижнем посаде и была опубликована в 1759 году. По другой версии, издана Академией наук в 1750 и 1787 годах, когда с ней ознакомилась семья бояр Ремезовых, смекнувших, что в поездках по сбору пушного ясака можно попутно неплохо подзаработать, собирая сказы в местах былых действий Ермака. И взятая за основу Осиповская летопись, теперь уже вошедшая в историю как Тобольская (Ремезовская), начала разрастаться как снежный ком, пополняясь выдуманными небылицами. «Была щедро обезображена пустыми вымыслами и многими погрешностями в самом описании происшествий». Начиная с самого старшего из Ремезовых, Ульяна, тоже захотевшего быть причастным к истории данного похода, истории, начавшейся с его персонального, вторичного опроса «ещё живых участников похода» (?!). В дальнейшем летопись множилась стараниями его детей – Никиты и Семёна, затем и его внуков, детей Семёна Ульяновича, Леонтия, Семёна и Ивана, обрастая всё новыми и новыми подробностями и достоверными известиями, которых хватило баронам Ремезовым на публикацию 38 книг! Строгановы тоже не забыли о том, что их предки помогли казакам завоевать Сибирь. И они решили использовать предания старины, чтобы прославить свой род. Зная о том, что в Тобольске хранится «Повесть о Сибирском взятии», Строгановы постарались заполучить её копию. О Строгановых Киприан в «Повести» вовсе не упоминал, как будто они не имели к походу никакого отношения. Строгановские потомки не могли мириться с такой несправедливостью. Они принялись доказывать, что казаки были посланы в Сибирь именно их предками. На службе «именитых людей» было немало грамотеев, бойко владевших пером. Им-то и поручено было переделать Тобольскую повесть в Строгановскую летопись. По мнению Н. М. Карамзина, именно Строгановская летопись является наиболее достоверной и документально точной. Австрийский посол, барон Сигизмунд Герберштейн (немец), при написании трудов своих хоть и брал за основу летопись баронов Ремезовых, но требовал от издателей, прежде чем публиковать, очистить Ремезовскую летопись от всяческих басен и описываемым вещам своим иметь подлинные доказательства. Снабдить сие описание «трезвой правдой жалкой действительности».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

