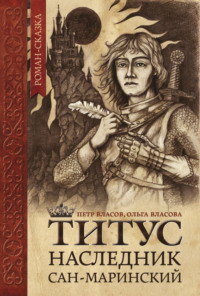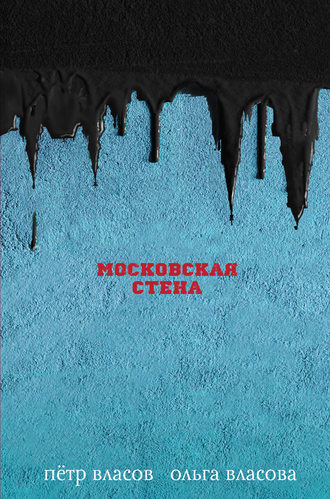
Полная версия
Московская стена
Здесь Голдстона отвлекли минут на десять – позвонил Кнелл с последней порцией наставлений перед вылетом в Москву. Когда он вернулся к телевизору, успел поймать лишь заключительный аккорд.
– …надо признать, что принятое три года назад решение о постройке Стены вокруг Москвы оказалось совершенно правильным. В условиях партизанской войны это спасло не одну тысячу жизней наших солдат, – развивал какую-то свою мысль англичанин. – Думаю, первым этапом освоения освободившихся территорий могло бы стать строительство аналогичных крепостей, пусть и меньшего масштаба, в наиболее важных с экономической точки зрения регионах. Напоминает Средневековье? Да, мир снова стал очень большим и крайне опасным. Стены – его незаменимый элемент, может быть, даже главный символ…
Как можно вести войну и не знать ответа на вопрос, кто и почему в тебя стреляет? «Посадить их на самолет до Москвы. Если долетят живыми, отправить без охраны в подмосковные леса. Пусть проведут подробное социологическое исследование среди партизан». Представив экспертов, сидящих вместо футуристической студии у костра на заснеженной лесной поляне, в компании дикого вида бородатых мужиков, Голдстон беззвучно смеется, вырываясь за пределы болевого поля, и в этот момент шасси «фоккера» с грохотом встречается с землей. Он медленно проводит ладонью по лбу и вискам, неприятно сочащимся липким потом. Отчего-то кажется, что рука теперь должна пахнуть кровью, словно его только что во второй раз вытолкнули из уютной материнской утробы в жестокий и враждебный внешний мир.
* * *Едва самолет замер на месте, Голдстон извлек из потертого, толстой кожи портфеля телефон спутниковой спецсвязи. Набрал заметно дрожащими пальцами короткое сообщение. Скорее даже не служебная обязанность, а порыв, радостный и искренний. Жив! Он жив! Через секунду в канцелярии Кнелла будут знать – несмотря на козни партизан и зловредность погоды посланник еврокомиссара добрался-таки до Москвы. Разминая еще вибрирующие колени, он расплылся в самодовольной улыбке. Главное испытание позади, и даже гигиенический пакет не пригодился. Осталось твердым, уверенным шагом покинуть эту камеру пыток. У выхода его ждал пилот-немец в синей форме – сухой, загорелый, подтянутый. Настоящий гитлеровский ас из детских книжек про войну. Наклонив по-птичьи вбок голову в фуражке, с откровенной издевкой разглядывал потрепанного пассажира.
– Надеюсь, герр штабс-капитан, вам понравился наш полет… Крепче держитесь за поручень! Трап может быть скользким!
Ответить не довелось. Голдстон по-детски захлебнулся, когда из распахнувшейся дверцы в лицо щедро плеснуло ледяным ветром. Толстая, с подкладкой шинель тут же безоговорочно капитулировала перед московской погодой. Он беспомощно передернул плечами, чувствуя, как юркий ручеек холода змейкой пробирается за шиворот. Вспомнилась присказка от деда: «Марток – надевай, парень, семь порток!». Да, весной здесь и не пахло. Вообще ничем не пахло. Трап, обледеневший и грязный, вел вниз к присыпанному снегом, парализующему своим мертвым, мороженым видом асфальту. Оторвавшись от железных ступеней, глаза жадно заскользили по кругу, но долго, целую вечность, не могли ни за что зацепиться. Казалось, плотные облака, через которые они только что упорно продирались к земле, опустились вместе с ними и развоплотили этот мир до самого горизонта, почти неразличимого среди разнообразных оттенков серого, черного и коричневого. Небо, поле, лес неподалеку – все сливалось в нечто бесформенное, одноцветное, не поддающееся определению и систематизации. Ничто не доминировало, не бросалось в глаза. Творение словно остановилось здесь на полпути, так и не постигнув до конца высший замысел.
Спускаясь по трапу, Голдстон в самом деле неуклюже поскользнулся на обледеневшей ступеньке. Устоять помог сыгравший роль противовеса увесистый, кило на три, кирпич «Войны и мира» в портфеле. Кнелл лично запихнул его туда перед расставанием. Сказал вслед за тем, доверительно придержав за плечо:
– Знаешь, почему Гитлер проиграл войну русским? Потому что первое правило на войне – надо знать своего врага. Пытаться влезть в его шкуру и смотреть на мир его глазами. Он же просто считал русских не стоящими внимания дикарями. Безликой массой, которой манипулирует кучка евреев. Вот Рузвельт – тот был поумнее. Сразу после Перл-Харбора приказал срочно написать книгу о японцах, которую должны были прочитать все офицеры до единого[1]… У тебя конкретное задание в Москве, все так. Но старайся смотреть на вещи шире. Мне нужно твое мнение.
– Мнение? О чем, герр комиссар?
– О том, что делать дальше. Если честно, мы залезли в непролазные дебри, Джон. Из них не выбраться, если не ответить на десяток-другой очень странных вопросов. Например, непостижимая живучесть русских. Со временем их сопротивление только усиливается. Почему? Можно ли этому что-то противопоставить? Не обречены ли мы здесь на вечный проигрыш? Когда на совещаниях у канцлера начинают говорить «подождите чуть-чуть и русским надоест воевать», я вспоминаю, как мой дед, разведчик в дивизии СС «Рейх», осенью сорок первого года рассматривал в бинокль башни Кремля и писал домой письма о скором окончании войны. Как работала его немецкая логика? Если прошел от границы до Москвы тысячу километров, оставшиеся пятнадцать до Кремля – это сущий пустяк! Так вот, до конца жизни он пытался докопаться, где Гудериан[2] допустил ошибку. И не мог найти, понимаешь? Не было никакой ошибки. Русские просто сделали то, чего не смог бы сделать никто другой.
Голдстон понял, наконец, куда клонит Кнелл.
– Мои гены молчаливы как рыбы, герр комиссар. Они не ответят на ваши вопросы, даже если поджаривать их на сковородке.
Кнелл шутку не принял. Был серьезен словно на похоронах.
– Я верю в кровь, Джон. Это страшная сила. Да еще язык в придачу. Ты способен воспринимать ту реальность напрямую, а не через отражения как я. «Войну и мир» давно читал? Невероятно актуально! Иностранное вторжение, занятая Наполеоном Москва, неуловимые партизаны… Перечитай, наверняка пригодится.
В самом деле, уже пригодилось.
У трапа Голдстона ждал бронированный «Мерседес» с зелено-белыми военными номерами, модель с большими колесами, которую выпускали специально для России. А еще кособокая восковая фигура в серой шинели. Хотя нет – облачко пара, вырвавшееся изо рта, изобличало тут наличие жизни. Приземистый, полноватый, похожий на комедийного мафиози смуглый лейтенант лет пятидесяти. Итальянец или француз откуда-то с самого юга. В остекленевших черных глазах читалась мольба отправить домой тем же самолетом, на котором только что прилетело начальство.
– Да здравствует Европа!
– Вольно!
Судя по акценту, все-таки Италия. Голдстон, сам того не желая, почувствовал себя высшим существом. Синьор лейтенант смотрелся жалко даже на фоне начинающейся русской весны. А ведь в феврале, говорят, здесь держались тридцатиградусные морозы.
– Добро пожаловать в Москву, герр штабс-капитан. Меня зовут Марчелло… Обер-лейтенант Марчелло Липпи… Садитесь, пожалуйста, в машину.
Их «мерседес», сопровождаемый парой БТР, без всяких формальностей миновал стальные ворота аэропорта. Наряд солдат-неваляшек, плотно запакованных в шлемы и пуленепробиваемые жилеты, вяло отдал честь кортежу очередной шишки из Берлина. Голдстон с детским любопытством рассматривал мутные пейзажи за окном. Через фильтр тонированных стекол прежний бесформенный мир казался более рельефным и контрастным. Запах парфюма, обильно источаемый сидевшим впереди Марчелло, придавал ему какую-то особенную тяжесть. Некоторое время попутчики провели в полном молчании. Отогревшись, лейтенант подал голос.
– Впервые в Москве, так? На вертолете, конечно, было бы быстрее. Десять минут – и на месте! Но теперь, когда у партизан появились ракеты, лучше не рисковать. Правда, шоссе тоже время от времени обстреливают. Ставят минометы на автомобили, едут вдоль трассы и палят на ходу. В общем, наглеют на глазах…
Да, не поспоришь. Голдстон вспомнил видео «для служебного пользования», которое просматривал на днях в Берлине. Взорванная партизанами в городке Торжок газокомпрессорная станция, одна из двадцати перекачивающих газ по магистральной трубе в Европу. Кадры что надо, Голливуд бы позавидовал. Обгоревшие руины кирпичных зданий вперемешку с грудами развороченного, оплавленного металла. Понятное дело, в новостях все прошло как «успешно отбитое дерзкое нападение партизан с минимальными потерями». Но потери, сорок человек техперсонала и охраны, пропавших без вести в адском пожаре, далеко не самое чувствительное в этой истории. Вместе со станцией серьезно пострадал и сам газопровод. Поставки газа сократились в разы, на полное восстановление уйдет до двух недель. Хорошая новость в том, что диверсия подарила им с Кнеллом благовидный предлог для поездки в Москву. Полгода назад Министерство вооружений, где трудится Голдстон, завершило титаническую работу, превратив газовую трубу в неприступную крепость: бетонные заграждения, видеокамеры, инфракрасные датчики движения, системы автоматического ведения огня. И вот в Торжке датчики почему-то не сработали. То есть вообще. Партизаны подобрались к ограждению, подорвали его, а потом, словно в тире, расстреляли из гранатометов компрессорную станцию.
– Есть версии, почему отказала сигнализация в Торжке?
Итальянец то ли не расслышал вопроса, то ли ему нечего было ответить. Они проехали под каким-то мостом, и на фоне массивной, похожей на ногу доисторического монстра бетонной опоры стекло сделало мгновенный снимок Голдстона. Бледное, как у призрака, с острым подбородком лицо. Слегка оттопыренные, любопытные уши. Глубоко посаженные глаза настороженно выглядывают из-под светлых, едва заметных бровей. Неужели он и есть это смазанное, едва собранное вместе отражение? Судя по оставшемуся с довоенных времен указателю, свернули на Ленинградское шоссе. По обе стороны от дороги замелькали скрепленные бетонным забором пулеметные вышки-башни, единственное украшение безжизненного снежного поля. Все остальное в радиусе ста метров сровняли с землей, оставив едва угадывавшиеся под осевшим снегом остовы зданий и пни спиленных деревьев. Впрочем, партизан это не останавливало. Голдстон насчитал целых три обгоревших остова БТР, скинутых на обочину. Судя по виду, вполне еще свежих. Стало неприятно, словно очутился в морге, в окружении мертвых, бесполезных тел. Под горлом с готовностью натянулась леска дурного предчувствия. Что-то там на нее клюнуло, партизанская засада, а может подрыв на мине. Запах одеколона стал жестче, резче, начал кислотой разъедать мозг.
«Надо о чем-нибудь заговорить. Немедленно».
– Почему партизаны продолжают сопротивление? Ведь не осталось даже страны, за которую можно воевать?
Марчелло вздрогнул. Повернулся к нему вполоборота, показав почти прямоугольный профиль.
– Здесь все по-другому. Черт знает, за что они там воюют. Фанатики. Нам их никогда не понять.
Голдстон услышал в его словах вызов для себя. Никогда не понять? Мужиков в вонючих полушубках?
– Вы не пробовали поговорить с кем-то из них?
Итальянец дико посмотрел на Голдстона. Похоже, сильно испугался, представив это вживую.
– Вы задаете странные вопросы, герр штабс-капитан. Честно говоря, даже не знаю, что ответить…
Тут же продолжил с наигранным оживлением, очевидно желая перескочить на другую тему:
– Уже подъезжаем к окраине города. Еще пять минут, и вы увидите нашу знаменитую Стену! Знаете, в ней есть что-то такое… Не могу назваться добрым католиком, но каждый раз, когда на нее смотрю, хочется перекреститься… Честное слово!
Голдстон вздрогнул. Видишь, вездесущая Стена забралась в голову даже к простаку Марчелло. По-своему, но забралась.
Три года назад, едва канцлер озвучил план окольцевать центр Москвы тридцатиметровой высоты стеной, газеты и телеящик вцепились в эту тему мертвой хваткой. Голдстону не раз приходило на ум: строительству, при всей технической масштабности проекта, отводится изо дня в день непропорционально много прайм-тайма и первых полос. Торжественное прибытие первого конвоя с техникой, выкапывание рва одновременно десятками экскаваторов, «закладка первого камня». Бесконечные прямые включения, закольцованные репортажи, многолюдные ток-шоу. Инициатива какого-нибудь ретивого чиновника из Министерства информации, решил он. Поднимают патриотический дух сидящего на продуктовых карточках населения. Но хорошая знакомая на «Евроньюс», дальняя предшественница Мэри, искренне озадачила. Никаких рекомендаций сверху, только рейтинги. Стена сама, без всякой накачки, превратилась в медийный фетиш.
Голдстон сразу вспомнил об этой коллективной мании где-то полгода спустя, когда ему по ночам начали сниться стены. Они были разные – комнатные, уличные, крепостные, беленные известью, оклеенные веселенькими обоями или брутально-кирпичные. Но все равно, каждое сновидение непременно завершалось кошмаром, где стена тем или иным изуверским способом убивала его. Душила, погребала заживо, давила до состояния фарша. Так, скорее в медицинских целях, он начал изучать историю великих стен человечества, чтобы в конце концов прийти к поразительному выводу. Вал Адриана[3] в северной Англии, Великая Китайская или Берлинская стена – каждый из этих грандиозных проектов оказался детищем коллективных страхов, причем скорее бессознательных, а не внушенных конкретным врагом. Император Адриан, выражая общие опасения за будущее дряхлеющей империи, в буквальном смысле пытался скрепить ее по периметру оборонительными сооружениями. Китайцы построили стену длиною в тысячи километров для того, чтобы укрыться за ней от соблазна Степи, запретить самим себе возвращаться к «варварской» кочевой жизни. Берлинская стена зримо разделяла бесчисленные взаимные страхи капиталистического Запада и социалистического Востока. Стена в Москве, чьи колоссальные размеры сложно было объяснить текущими военными задачами, также выглядела порождением скорее подсознания. Мало-помалу в голове у Голдстона нарисовалось что-то вроде смыслового отражения, объясняющего смысл этого сооружения. Бетонное основание, фундамент нового мира. Зацепка для миллионов, впавших в скрытое или явное отчаяние после краха того порядка вещей, который, казалось, должен был изменяться только к лучшему.
Несчетное число раз Голдстон видел Стену в теленовостях, но здесь, вживую, она наверняка должнаоткрыться ему иначе. Открыться – да, именно так. Как жертва нападения, решившаяся встретиться лицом к лицу с насильником, чтобы излечиться от мании преследования, он надеется, что личная встреча принесет исцеление от ночных кошмаров. Но под этой болезненной надеждой запрятано еще более странное желание. Докопаться до первопричины того, что с ним случилось. В его снах есть своя извращенная прелесть. Они как будто совсем не завязаны на ту жизнь, которой он живет здесь.Когда Голдстон повторяет заученно: «все сновидения коренятся в нашем опыте», то обманывает себя. Нет, его кошмары не так просты. Откуда они приходят, из какой реальности? Вот почему ему не терпится увидеть Стену. Он почти со священным ужасом представляет, как, вырастая из обычной городской застройки, Стена прорисуется в мутной морозной дымке на горизонте, похожая на мираж, на контур заколдованного, вечно блуждающего циклопического города-призрака. Она явилась сюда из шизофренических вселенных Босха, из легенд о древнем Вавилоне, по крепостной стене которого могли проехать в ряд сразу несколько колесниц. Тридцать метров вверх, десять под землей, восемь в толщину. Несколько еще более высоких и мощных квадратных башен…
– Смотрите, герр штабс-капитан!
Он с усилием отрывается от своего миража. Кажется, еще секунда-другая, и на ум придет что-то важное.
– Извините, задумался.
– Смотрите, смотрите!
Лейтенант остервенело тычет пальцем в ощетинившиеся у обочины колючие сооружения, сваренные из кусков ржавого железа.
– Знаете, что это? Противотанковые заграждения времен Второй мировой войны! Русские оставили их как памятник. Линия, до которой смогли продвинуться к Москве немцы…
Голдстон представляет себе деда еврокомиссара Кнелла: тот стоит на обочине, самодовольно разглядывая в мощный бинокль башни Кремля. На нем тоже серая шинель, а еще приплюснутая железная каска и почему-то мотоциклетные очки. Он с ног до головы забрызган грязью, от него за версту несет потом, но в голове уже победно гремит Вагнер, ведь осталось каких-то жалких пятнадцать километров до окончания войны… Тут мир вокруг ослепляет бело-желтая вспышка, и словно огромная морская волна со всего размаха бьет автомобиль по лобовому стеклу. Звук взрыва Голдстон слышит как сквозь толщу воды, все летит кувырком и он, вот парадокс, чувствует не страх или отчаяние, но расслабленное умиротворение. Стрельба пулемета напоминает успокаивающий ночной стук дождевых капель по железной крыше. Последняя мысль, уже совсем безразличная:«Наконец-то».
* * *Пятеро в засаленных белых маскхалатах и разномастных шапках-ушанках мало походили на партизанскую засаду. Скорее на охотников, стерегущих кабана или оленя у лесной заимки. Кто сидя, кто лежа на присыпанном снегом полу азартно следили через пустые оконные проемы торгового центра за конвоем на шоссе, неотвратимо приближающимся к воображаемой линии, соединявшей дорогу и наблюдателей. До отгороженной бетонным забором трассы было с километр, а то и больше, и оттуда не долетало ни звука. Миниатюрные, как с витрины игрушечного магазина, машинки – два БТР и легковушка – катились по снежному полю в торжественной тишине, нарушаемой изредка лишь завыванием сквозняка, поднимавшего в воздух ленивые хороводы из бумажных обрывков, пакетов и прочего мусора.
Один из партизан, скорчившись до предела, наблюдал за шоссе через окуляр защитного цвета ракетной установки, напоминавшей телескоп-рефлектор средних размеров. Красные, ошпаренные холодом пальцы с виду бесцельно крутили туда-обратно колесико под окуляром. Закрепленная на треноге ракета в футляре едва заметно перемещалась вслед за конвоем.
– Гады, километров под семьдесят едут. Стоит пробовать?
Стрелок на секунду оторвался от оптики, покосился на того, кто задал вопрос – худощавого, смуглого мужичонку с горбатым еврейским носом, видимо вожака группы. Тот сидел, оперевшись на одно колено, и в ребристый армейский бинокль тоже пристально разглядывал дорогу. Из всего отряда у него одного голову покрывала не меховая шапка, а затертый кожаный треух с косо завязанными на голове ушами.
– Сейчас подъем начнется. БТР ее притормозит.
Мужичонка, опустив к шее бинокль, согласно кивнул, как бы разрешая попытку. Выражением какой-то лихорадочной радости на лице напоминал он сейчас заядлого ипподромщика, что угадал со ставкой и вот-вот сорвет солидный куш.
– Ворон! – шепотом окликнул его закутанный в белый маскхалат парнишка лет тринадцати-четырнадцати, чьи серые, еще по-детски удивленные глаза то и дело перебегали с дороги на сидевшего рядом стрелка.
Тот, кого назвали Вороном, не отозвался.
– Ворон! – не унялся парнишка. – Зачем легковушку-то? Давай БТР!
Командир цокнул недовольно, отмахнулся матерным словом. Потом все-таки снизошел до ответа.
– Отвяжись, Колька. Достал уже.
Тем временем машинки на шоссе в самом деле замедлились на подъеме.
– Готов, – прохрипел стрелок, вдавливая палец левой руки в изогнутый как ятаган спусковой крючок.
– Уши! – зашипел Ворон, и партизаны в ответ не только дружно прихлопнули ладонями плотно прикрытые шапками уши, но и смешно приоткрыли рты.
Гулко бабахнуло, полыхнуло пламенем. Кольке, что неудачно сел слишком близко к ракете, перебило дыхание выхлопом. Он замотал в ужасе своей приплюснутой, слегка вдавленной в плечи головой, придававшей ему немного забитый вид, и, в конце концов, дернулся в сторону, задев по дороге ногу стрелка, все еще наводившего через прицел летящую к цели ракету. Прицел тоже дрогнул, и ракета, вильнув в сторону от легковушки, в последний момент поразила передний БТР. Броневик исчез в кучерявом облаке взрыва, а легковушка испуганно шарахнулась в сторону, секундой позднее тоже растворившись в черном, жирном чаду. Только сейчас до бетонной коробки докатился глухой, рокочущий звук.
– Идиот! Убить тебя мало!
Вскочив резво на ноги, командир размахнулся, насколько позволяло зимнее обмундирование, и наотмашь ударил парнишке кулаком в защищенное толстой шапкой правое ухо. Охваченный ужасом Колька тут же сварился, став в районе щек по-младенчески пунцово-красным. Он едва почувствовал через шапку командирскую оплеуху. А вот чувство стыда за то, что подвел товарищей, теперь жгло, терзало почище любой физической боли. На шоссе тем временем начал подавать признаки жизни второй БТР, застывший после взрыва на месте. Двинул малым ходом назад, потом, опомнившись, принялся перепахивать из пулемета безразличные сугробы. Ворон упал ничком на пол, все вжались в снег. Ближняя к месту происшествия дозорная башня тоже встрепенулась, начала крупным калибром работать по окрестностям. Но, похоже, опять вслепую. Пуск ракеты никто не засек. Надо было уходить.
– Мы эту шишку из Берлина еще поймаем. Никто от нас не уйдет, – злобно прохрипел командир, пятерней сдирая с лица снег. Видимо, никак не мог смириться с промахом.
– Чего загораем-то? – нервно отозвался стрелок. – Валить надо. Скоро вертолет прилетит.
Ворон опять выругался, дал команду уходить. Партизаны по одному, на полусогнутых, заспешили вглубь гигантского торгового зала, к лестнице. У Кольки от взбешенного командирского голоса внутри будто гранату подорвали. Вот-вот – и до губ доберется предательский, солоноватый вкус. Тут его глаза, подмоченные слезами раскаяния, уперлись в лежавшую неподалеку трубу «Иглы»[4], завернутую в пахнущие смазкой тряпки.
– Ворон, я хочу остаться. Подождать вертолет.
Боец, что должен был прикрывать отход, тут же навострил уши, глянул с надеждой на Ворона. Был это мужик крайне неопрятного вида с мясистым, испитым лицом, на котором горой рос громадный, похоже сломанный и оттого удивительно кривой нос.
Командир обернулся. Сморщив некрасиво лицо, заорал на Кольку:
– В машину! Быстро! Супергерой, мать твою… Уже раз выстрелил сегодня… Горбун, как ракету выпустишь, уходи к Юровской улице. До одиннадцати будут ждать тебя у школы. Понял?
Кривоносый бугай глянул на наручные часы с мутным стеклом, которые показывали почти десять. То ли обреченно выдохнул, то ли промычал согласно:
– Пооонял…
Колька, позабыв на время о вселенской скорби внутри, задумался: Ворон не разрешил остаться в засаде из жалости или осторожничает? Ведь не зря о нем говорят: никогда не рискует своими бойцами. Теми, кто знает, где бункер. Горбун, если поймают, гостей к ним не приведет. Чужой он, из мытищинского отряда. У Ворона – как это…авторитет, потому часть людей для каждой вылазки охотно дают ему другие командиры.
– Колька! Заснул что ли?
Встрепенувшись, Колька суетливо пополз на корточках через снежный зал. Ветер вслед ему тут же принялся энергично забрасывать мусором борозду на снегу, как будто состоял с партизанами в негласном сговоре. Кривоносый же снова тяжко вздохнул и аккуратно отогнул концы промасленной мешковины. Примерившись обветренными ладонями, приподнял осторожно похожую на старинный мушкет с раструбом «Иглу». Оба пулемета на дороге вдруг дуэтом замолчали. Но тишина была недолгой. Вскоре ее мало-помалу начал заполнять другой нарастающий звук. Стрекот подлетающих со стороны города вертолетов.
* * *Командир партизанского отряда с позывным Ворон на самом деле относился к Кольке не хуже, чем когда-то родной отец. Можно сказать, три года назад подарил парню вторую жизнь. Подобрал его, полуживого, отставшего от родителей в суматохе массового исхода жителей из Москвы. Кольке, не евшему почти два дня, было уже все равно, куда и зачем его ведут. Лишь бы покормили. На его счастье, одетый в вылинявшую защитную форму бородач с безумными глазами оказался вовсе не извращенцем или торговцем людьми. Более того, встреча та обернулась для Кольки настоящей удачей. Когда начались в стране хаос и кавардак, ни Колькин отец, ни мать, ни один родственник или знакомый не понимали, что же надо делать. А вот Ворон понимал. Уже в отряде командир с гордостью давал почитать бойцам вырезки своих статей десятилетней давности, где он подробно и обстоятельно, будто какой-нибудь Нострадамус современности, предсказывал все грядущие напасти – переворот, военный путч, оккупацию. Более того, не терял зря времени,готовился. Даже верховодил одно время движением «выживальщиков». Это те, кто лазал по вонючим болотам, стрелял в тирах и учился разжигать костер бутылочным стеклом, пока нормальные люди нежились на турецких пляжах. Как раз под такие игры Ворон купил в глухом Подмосковье полусгнивший деревенский дом, выкопал под ним здоровенный подвал, забил его под завязку консервами, теплой одеждой, лекарствами. Здесь же на свой страх и риск схоронил десяток привезенных с войны на Украине «калашниковых» с запасом патронов. Когданачалось, оставалось только набрать людей.