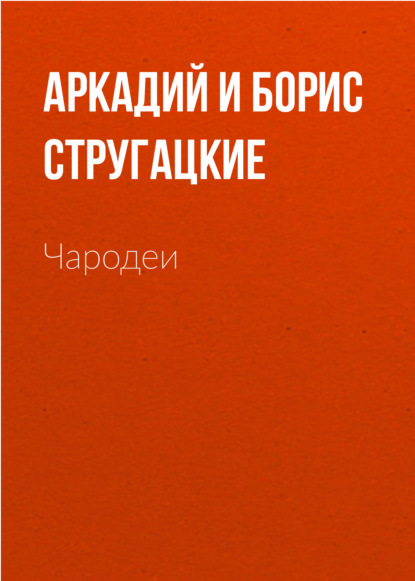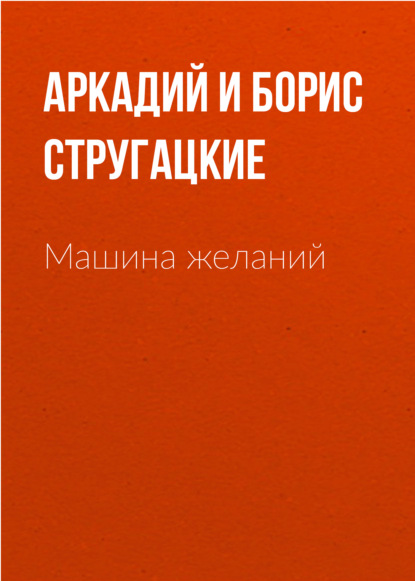Полная версия
Пять ложек эликсира

Аркадий и Борис Стругацкие
Пять ложек элексира
Время действия: наши дни, поздняя весна.
Место действия: крупный город, областной центр на юге нашей страны.
Двухкомнатная квартира писателя средней руки Феликса Александровича Снегирева. Обычный современный интерьер. Кабинет идеально прибран: все полированные поверхности сияют, книги на полках выстроены аккуратными рядами, кресла для гостей, полосатый диван – красивы и уютны, пол чист и блестит паркетом. Порядок и на рабочем столе: пишущая машинка зачехлена, массивная стеклянная пепельница сияет первозданной чистотой, рядом затейливая зажигалка и деревянный ящичек, наполовину заполненный каталожными карточками.
Два часа дня. За окном – серое дождливое небо.
Феликс – у телефона на журнальном столике под торшером. Это обыкновенной наружности человек лет пятидесяти, весьма обыкновенно одетый для выхода. На ногах у него стоптанные домашние шлепанцы.
– Наталья Петровна? – говорит он в трубку. – Здравствуй, Наташенька! Это я, Феликс… Ага, много лет, много зим… Да ничего, помаленьку. Слушай, Наташка, ты будешь сегодня на курсах?.. До какого часу? Ага… Это славно. Слушай, Наташка, я к тебе забегу около шести, есть у меня к тебе некое маленькое дельце… Хорошо? Ну, до встречи…
Он вешает трубку и устремляется в прихожую. Быстро переобувается в массивные ботинки на толстой подошве, натягивает плащ и нахлобучивает на голову бесформенный берет. Затем берет из-под вешалки огромную авоську, набитую пустыми бутылками из-под кефира, лимонада, «Фанты» и подсолнечного масла.
Слегка согнувшись под тяжестью стеклотары, выходит он на лестничную площадку за порогом своей квартиры и остолбенело останавливается.
Из дверей квартиры напротив выдвигаются два санитара с носилками, на которых распростерт бледный до зелени Константин Курдюков, сосед и шапочный знакомый Феликса, третьестепенный поэт городского масштаба. Увидев Феликса, он произносит:
– Феликс! Сам господь тебя послал мне, Феликс!..
Голос у него такой отчаянный, что санитары враз останавливаются. Феликс с участием наклоняется над ним.
– Что с тобой, Костя? Что случилось?
Мутные глаза Курдюкова то закатываются, то сходятся к переносице, испачканный рот вяло распущен.
– Спасай, Феликс! – сипит он. – Помираю! На коленях тебя молю… Только на тебя сейчас и надежда… Зойки нет, никого рядом нет…
– Слушаю, Костя, слушаю! – говорит Феликс. – Что надо сделать, говори…
– В институт! Поезжай в институт… Институт на Богородском шоссе – знаешь?.. Найди Мартынюка… Мартынюк Иван Давыдович… Запомни! Его там все знают… Председатель месткома… Скажи ему, что я отравился, ботулизм у меня… Помираю!.. Пусть даст хоть две-три капли, я точно знаю – у него есть… Пусть даст!
– Хорошо, хорошо! Мартынюк Иван Давыдович, две капли… А чего именно две капли? Он знает?
На лице у Кости появляется странная, неуместная какая-то улыбка.
– Скажи: мафуссалин! Он поймет…
Тут из Костиной квартиры выходит врач и напускается на санитаров:
– В чем дело? Чего стоите? А ну, давайте быстро! Быстро, я говорю!
Санитары пошли спускаться по лестнице, а Костя отчаянно кричит:
– Феликс! Я за тебя молиться буду!..
– Еду, еду! – кричит ему вслед Феликс. – Сейчас же еду!
Врач, воткнув незажженную «беломорину» в угол рта, стоит в ожидании лифта. Феликс испуганно спрашивает его:
– Неужели и вправду ботулизм?
Врач неопределенно пожимает плечами:
– Отравление. Сделаем анализы, станет ясно.
– Мартынюк Иван Давыдович, – произносит Феликс вслух и, когда врач взглядывает на него непонимающе, торопливо поясняет: – Нет, это я просто запоминаю. Мартынюк, председатель месткома… Мафуссалин…
Дверь лифта раскрывается, и они входят в кабину.
– А как вы полагаете, – спрашивает Феликс, – мафуссалин этот и от ботулизма поможет?
– Как вы сказали?
– Мафуссалин, по-моему… – произносит Феликс смущенно.
– Впервые слышу, – сухо говорит врач.
– Какое-нибудь новое средство, – предполагает Феликс.
Врач не возражает.
– Может быть, даже наиновейшее, – говорит Феликс. – Это, знаете ли, из того института, что на Богородском… Кстати, а куда вы моего Курдюкова сейчас повезете?
– Во Вторую городскую.
– А, это совсем рядом…
У неотложки они расстаются, и Феликс, гремя бутылками, бежит на середину улицы останавливать такси.
Выбравшись из машины, Феликс поудобнее прихватывает авоську и, кренясь под ее тяжестью, поднимается по широким бетонным ступенькам под широкий бетонный козырек институтского подъезда. Навалившись, он распахивает широкую стеклянную дверь и оказывается в обширном холле, залитом светом многочисленных ртутных трубок. В холле довольно много людей, все они стоят кучками и дружно курят. Феликс зацепляется авоськой за урну, бутылки лязгают, и все взгляды устремляются на авоську. Ежась от неловкости, Феликс подходит к ближайшей группе и осведомляется, где ему найти Мартынюка, председателя месткома. Его оглядывают и показывают в потолок. Феликс идет к стойке гардероба и вручает гардеробщику свой плащ и берет. Пытается он всучить гардеробщику и свою авоську, но получает решительный отказ и осторожненько ставит авоську в уголок.
На втором этаже он открывает дверь в одну из комнат и вступает в обширное светлое помещение, где имеет место масса химической посуды, мигают огоньки на пультах, змеятся зеленоватые кривые на экранах, а спиною к двери сидит человек в синем халате. Едва Феликс закрывает за собой дверь, как человек этот, не оборачиваясь, рявкает через плечо:
– В местком! В местком!
– Ивана Давыдовича можно? – осведомляется Феликс.
Человек поворачивается к нему лицом и встает. Он огромен и плечист. Могучая шея, всклокоченная пегая шевелюра, черные, близко посаженные глаза.
– Я сказал – в местком! С пяти до семи! А здесь у нас разговора не будет. Вам ясно?
– Я от Кости Курдюкова… От Константина Ильича.
Предместкома Мартынюк словно бы налетает с разбегу на стену.
– От… Константина Ильича? А что такое?
– Он страшно отравился, понимаете, в чем дело? Есть подозрение на ботулизм. Он очень просил, прямо-таки умолял, чтобы вы прислали ему две-три капли мафуссалина…
– Чего-чего?
– Мафуссалина… Я так понял, что это какое-то новое лекарство… Или я неправильно запомнил? Ма-фус-са-лин…
Иван Давыдович Мартынюк обходит его и плотно прикрывает дверь.
– А кто вы, собственно, такой? – спрашивает он неприветливо.
– Я его сосед.
– В каком это смысле? У него же квартира…
– И у меня квартира. Живем дверь в дверь.
– Понятно. Кто вы такой – вот что я хочу понять.
– Феликс Снегирев. Феликс Александрович…
– Мне это имя ничего не говорит.
Феликс взвивается.
– А мне ваше имя, между прочим, тоже ничего не говорит! Однако я вот через весь город к вам сюда перся…
– Документ у вас есть какой-нибудь? Хоть что-нибудь…
– Конечно, нет! Зачем он вам? Вы что – милиция?
Иван Давыдович мрачно смотрит на Феликса.
– Ладно, – произносит он наконец. – Я сам этим займусь. Идите… Стойте! В какой он больнице?
– Во Второй городской.
– Чтоб его там… Действительно другой конец города. Ну ладно, идите. Я займусь.
– Благодарю вас, – ядовито говорит Феликс. – Вы меня просто разодолжили!
Но Иван Давыдович уже повернулся к нему спиной.
Внутренне клокоча, Феликс спускается в гардероб, облачается в плащ, напяливает перед зеркалом берет и поворачивается, чтобы идти, но тут тяжелая рука опускается ему на плечо. Феликс обмирает, но это всего лишь гардеробщик. Античным жестом он указывает в угол на проклятую авоську.
Феликс выходит на крыльцо, ставит авоську у ноги и достает сигарету. Повернувшись от ветра, чтобы закурить, он обмирает: за тяжелой прозрачной дверью, упершись в стекло огромными ладонями и выставив бледное лицо свое, пристально смотрит на него Иван Давыдович Мартынюк. Словно вурдалак вслед ускользнувшей жертве.
Народу в трамвае великое множество. Феликс сидит с авоськой на коленях, а пассажиры стоят стеной, и вдруг между телами образовывается просвет, и Феликс замечает, что в этот просвет пристально смотрят на него светлые выпуклые глаза. Лишь на секунду видит он эти глаза, клетчатую кепку-каскетку, клетчатый галстук между отворотами клетчатого пиджака, но тут трамвай со скрежетом притормаживает, тела смыкаются, и странный наблюдатель исчезает из виду. Некоторое время Феликс хмурится, пытаясь что-то сообразить, но тут между пассажирами вновь возникает просвет, и выясняется, что клетчатый наблюдатель мирно дремлет, сложив на животе руки. Средних лет мужчина, клетчатый пиджак, грязноватые белые брюки…
В зале дома культуры Феликс, расхаживая по краю сцены, разглагольствует перед читателями.
– …С раннего детства меня, например, пичкали классической музыкой. Вероятно, кто-то где-то когда-то сказал, что если человека ежечасно пичкать классической музыкой, то он к ней помаленьку привыкнет и смирится, и это будет прекрасно. И началось! Мы жаждали джаза, мы сходили по джазу с ума – нас душили симфониями. Мы обожали душещипательные романсы – на нас рушили скрипичные концерты. Мы рвались слушать бардов и менестрелей – нас травили ораториями. Если бы все эти титанические усилия по внедрению классической музыки имели бы КПД ну хотя бы как у паровоза, мы бы все сейчас были знатоками и ценителями. Ведь это же тысячи и тысячи часов классики по радио, тысячи и тысячи телепрограмм, миллионы пластинок! А что в результате? Сами видите, что в результате…
Под одобрительный шум в зале Феликс отходит к столику и берет очередную записку.
– «Были ли вы за границей?»
Смех в зале. Возглас: «Как в анкете!»
– Да, был. Один раз в Польше туристом. Два раза в Чехословакии с делегацией… Так. А что здесь? Гм… «Кто, по-вашему, больше боится смерти: смертные или бессмертные?»
В зале шум. Феликс пожимает плечами и говорит:
– Странный вопрос. Я на эту тему как-то не думал… Знаете, по-моему, о бессмертии думают главным образом молодые, а мы, старики, больше думаем о смерти!
И тут он видит, как в середине зала воздвигается знакомая ему клетчатая фигура.
– А что думают о смерти бессмертные? – пронзительным фальцетом осведомляется клетчатая фигура.
Этим вопросом Феликс совершенно сбит с толку и несколько даже испуган. Он догадывается, что это неспроста, что есть в этой сцене некий непонятный ему подтекст, он чувствует, что лучше бы ему сейчас не отвечать, а если уж отвечать, то точно, в самое яблочко. Но как это сделать – он не знает, а поэтому бормочет, пытаясь то ли сострить, то ли отбрехаться:
– Поживем, знаете ли, увидим… Я, между прочим, пока еще не бессмертный. Мне трудно, знаете ли, о таких вещах судить…
Клетчатого уже не видно в зале, Феликс утирается платком и разворачивает следующую записку.
Покинув дом культуры, Феликс решает избавиться от проклятой авоськи с бутылками. Он пристраивается в небольшую очередь у ларька по приему стеклотары и стоит, глубоко задумавшись.
Вдруг поднимается визг, крики, очередь бросается врассыпную. Феликс очумело вертит головой, силясь понять, что происходит. И видит он: с пригорка прямо на него, набирая скорость, зловеще-бесшумно катится гигантский МАЗ-самосвал с кузовом, полным строительного мусора. Судорожно подхватив авоську, Феликс отскакивает в сторону, а самосвал, промчавшись в двух шагах, с грохотом вламывается в ларек и останавливается. В кабине его никого нет.
Вокруг кричат, ругаются, воздевают руки.
– Где шофер?
– В гастроном пошел, разгильдяй!
– На тормоз! На тормоз надо ставить!
– Да что же это такое, граждане хорошие? Куда милиция смотрит?
– Где моя посуда? Посуда-то моя где? Он же мне всю посуду подавил!
– Спасибо скажи, что сам жив остался…
– Шофер! Эй, шофер! Куда завалился-то?
– Убирай свою телегу!
Выбравшийся из развалин ларька испуганный приемщик в грязном белом халате вскакивает на подножку и ожесточенно давит на сигнал.
Потряхивая головой, чтобы избавиться от пережитого потрясения, Феликс направляется на Курсы иностранных языков к знакомой своей, Наташе, до которой у него некое маленькое дельце.
По коридорам Курсов он идет свободно, как у себя дома, не раздеваясь и нисколько не стесняясь своих бутылок, раскланиваясь то с уборщицей, то с унылым пожилым курсантом, то с молодыми парнями, устанавливающими стремянку в простенке.
Он небрежно стучит в дверь с табличкой «Группа английского языка» и входит.
В пустом кабинетике за одним из канцелярских столов сидит Наташа, Наталья Петровна, она поднимает на Феликса глаза, и Феликс останавливается. Он ошарашен, у него даже лицо меняется. Когда-то у него была интрижка с этой женщиной, а потом они мирно охладели друг к другу и давно не виделись. Он явился к ней по делу, но теперь, снова увидев эту женщину, обо всем забыл.
Перед ним сидит строго одетая загадочная дама. Прекрасная Женщина с огромными сумрачными глазами ведьмы-чаровницы, с безукоризненно нежной кожей лица и лакомыми губами. Не спуская с нее глаз, Феликс осторожно ставит авоську на пол и, разведя руками, произносит:
– Ну, мать, нет слов!.. Сколько же мы это не виделись? – Он хлопает себя ладонью по лбу. – Ну что за идиот! Где только были мои глаза? Ну что за кретин, в самом деле! Как я мог позволить?
– Гуд ивнинг, май дарлинг, – довольно прохладно отзывается Наташа. – Ты только затем и явился, чтобы мне об этом сказать? Или заодно хотел еще сдать бутылки?
– Говори! – страстно шепчет Феликс, падая на стул напротив нее. – Говори еще! Все, что тебе хочется!
– Что это с тобой сегодня?
– Не знаю. Меня чуть не задавили. Но главное – я увидел тебя!
– А кого ты ожидал здесь увидеть?
– Я ожидал увидеть Наташку, Наталью Петровну, а увидел фею! Или ведьму! Прекрасную ведьму! Русалку!
– Златоуст, – говорит она ядовито, но с улыбкой. Ей приятно.
– Сегодня ты, конечно, занята, – произносит он деловито.
– А если нет?
– Тогда я веду тебя в «Кавказский»! Я угощаю тебя сациви! Я угощаю тебя хачапури! Мы будем пить коньяк и «Твиши»! И Павел Павлович лично присмотрит за всем…
– Ну, естественно, – говорит она. – Сдадим твои бутылки и гульнем. На все на три на двадцать.
Но тут Феликс и сам вспоминает, что сегодняшний вечер у него занят.
– Наточка, – говорит он. – А завтра? В «Поплавок», а? На плес, а? Как в старые добрые времена!..
– Сегодня в «Кавказский», завтра в «Поплавок»… А послезавтра?
– Увы! – честно говорит он. – Сегодня не выйдет. Я забыл.
– И завтра не выйдет, – говорит она. – И послезавтра.
– Но почему?
– Потому что ушел кораблик. Видишь парус?
– Ты прекрасна, – произносит он, как бы не слушая, и пытается взять ее за руку. – Я был слепец. У тебя даже кожа светится.
– Старый ты козел, – отзывается она почти ласково. – Отдай руку.
– Но один-то поцелуй – можно? – воркует он, тщась дотянуться губами.
– Бог подаст, – говорит она, вырывая руку. – Перестань кривляться. И вообще уходи. Сейчас ко мне придут.
– Эхе-хе! – Он поднимается. – Не везет мне сегодня. Ну, а как ты вообще-то?
– Да как все. И вообще, и в частности.
– По-дурацки у нас с тобой получилось…
– Наоборот! Самым прекрасным образом.
– По-деловому, ты хочешь сказать?
– Да. По-деловому.
– А чего же тут прекрасного?
– Без последствий. Это ведь самое главное, диар Феликс, чтобы не было никаких последствий. Ну, иди, иди, не отсвечивай здесь…
Феликс понуро поворачивается к двери, берет авоську и вдруг спохватывается.
– Слушай, Наталья, – говорит он. – У меня же к тебе огромная просьба!
– Так бы и говорил с самого начала…
– Да нет, клянусь, я как тебя увидел – все из головы вылетело… Это я только сейчас вспомнил. У тебя на курсе есть такой Сеня… собственно, не Сеня, а Семен Семенович Долгополов…
– Ну, знаю я его. Лысый такой, из Гортранса… Очень тупой…
– Святые слова! Лысый, тупой и из Гортранса. И еще у него гипертония и зять-пьяница. А ему нужна справка об окончании ваших Курсов. Вот так нужна, у него от этого командировка зависит за бугор… Сделай ему зачет, ради Христа. Ты его уже два раза проваливала…
– Три.
– Три? Ну, значит, он мне наврал. Постеснялся. Да пожалей ты его, что тебе стоит? Он говорит, что ты его невзлюбила… А за что? Он жалкий, невредный человечек… Ну, что ты так смотришь, как ледяная? Что он тебе сделал?
– Он мне надоел, – произносит Наташа со странным выражением.
– Так тем более! Сделай ему зачет, и пусть он идет себе на все четыре стороны… Отсвечивать здесь у тебя не будет… Пожалей!
– Хорошо, я подумаю.
– Ну, вот и прекрасно! Ты же добрая, я знаю…
– Пусть он ко мне зайдет завтра в это время.
– Не зайдет! – произносит Феликс, потрясая поднятым пальцем. – Не зайдет, а приползет на карачках! И будет держать в зубах плитку «Золотого якоря»!
– Только не в зубах, пожалуйста, – очень серьезно возражает Наташа.
Вечереет. Феликс предпринимает еще одну попытку избавиться от посуды. Он встает в хвост очереди, голова которой уходит в недра какого-то подвала. Стоит некоторое время, закуривает, смотрит на часы. Затем, потоптавшись в нерешительности, обращается к соседу:
– Слушай, друг, не возьмешь ли мои? По пять копеек отдам.
Друг отзывается с мрачноватым юмором:
– А мои по четыре не возьмешь?
Феликс вздыхает и, постояв еще немного, покидает очередь.
Он вступает в сквер, тянущийся вдоль неширокой улицы, движение на которой перекрыто из-за дорожных работ. Тихая, совершенно пустынная улица с разрытой мостовой, с кучами булыжников, громоздящихся на тротуаре.
Феликс обнаруживает, что на правом его ботинке развязался шнурок. Он подходит к скамейке, опускает на землю авоську и ставит правую ногу на край скамейки, и вдруг авоська его словно бы взрывается – с лязгом и дребезгом.
Невесть откуда брошенный булыжник угодил в нее и произвел в бутылках разрушения непоправимые. Брызги стеклянного лома усеяли все пространство вокруг ног Феликса.
Феликс растерянно озирается. Сквер пуст. Улица пуста. Сгущаются вечерние тени. В куче стеклянного крошева над распластанной авоськой закопался испачканный глиной булыжник величиной с голову ребенка.
– Странные у вас тут дела происходят… – произносит Феликс в пространство.
Он делает движение, словно бы собираясь нагнуться за авоськой, затем пожимает плечами и уходит, засунув руки в карманы.
В шесть часов вечера Феликс входит в зал ресторана «Кавказский». Он останавливается у порога, оглядывая столики, и тут к нему величественно и плавно придвигается метрдотель Павел Павлович, рослый смуглый мужчина в черном фрачном костюме с гвоздикой в петлице.
– Давненько не изволили заходить, Феликс Александрович! – рокочет он. – Дела? Заботы? Труды?
– Труды, вашество, труды, – невнимательно отзывается Феликс. – А равномерно и заботы… А вот вас, Пал Палыч, как я наблюдаю, ничто не берет. Атлет, да и только…
– Вашими молитвами, Феликс Александрович. А паче всего – беспощадная дрессировка организма. Ни в коем случае не распускать себя! Постоянно держать в узде!.. Впрочем, вы-то сюда приходите как раз для другого. Извольте вон туда, к окну. Анатолий Сократович вас уже ждут…
– Спасибо, Пал Палыч, вижу… Кстати, мне бы с собой чего-нибудь. Домой к ужину. Ну, там, пару калачиков, ветчинки, а? Но в долг, Пал Палыч! А?
– Сделаем.
В этот момент за спиной Феликса раздается оглушительный лязг. Феликс подпрыгивает на метр и в ужасе оборачивается. Но это всего лишь молоденький официант Вася уронил поднос на металлический столик-каталку.
– Шляпа, дырявые руки, – с величественным презрением произносит метрдотель Павел Павлович.
Главный редактор местного журнала Анатолий Сократович Романюк любит в меру выпить, вкусно закусить и угостить приятного, а тем более – нужного человека.
– Ты, Феликс, пойми, что от тебя требуется прежде всего, – произносит он, выставив перед собой вилку с насаженным на нее ломтиком кеты. – Прежде всего требуется выразить ту мысль, что в наше время понятие смысла жизни неотделимо от высокого морально-нравственного потенциала…
Феликс трясет головой.
– Это, Анатолий Сократыч, я все уже понял… Я хочу тебе возразить, что нельзя все-таки так, с бухты-барахты… Надо все-таки заранее, хотя бы за неделю, а еще лучше – за две… Ты сам подумай: разве это мыслимо – за ночь статью написать?
– Журнал должен быть оперативен! Как вы все этого не понимаете? Журнал по своей оперативности должен приближаться к газете, а не удаляться от нее! Ты знаешь, я тебя люблю. Ты сильно пишешь, Феликс, и я тебя люблю… Печатаю все, что ты пишешь… Но оперативности у тебя нет!
– Так я же не газетчик! Я – писатель!
– Вот именно! Писатель, а оперативности нет! Надо вырабатывать! Возьми, к примеру, этого… Курдюкова Котьку… Знаю, поэт посредственный и даже неважный… Но если ты ему скажешь: «Костя! Чтобы к вечеру было!» – будет. Он, понимаешь, как Чехов. За что я его и люблю. Тут же, понимаешь, на подоконнике пристроится – и готово: «По реке плывет топор с острова Колгуева…» Или еще что-нибудь в этом роде.
Феликс спохватывается.
– Ч-черт! Надо же позвонить, узнать, как он там…
– Где? – кричит редактор уже вслед убегающему Феликсу.
В вестибюле ресторана Феликс звонит на квартиру Курдюкова.
– Зоечка, это я, Феликс… Ну, как там Костя вообще?
– Ой, как хорошо, что вы позвонили, Феликс! Я только что от него! Только-только вошла, пальто еще не снимала… Вы знаете, он очень просит, чтобы вы к нему зашли…
– Обязательно. А как же… А как он вообще?
– Да все обошлось, слава богу. Но он очень просит, чтоб вы пришли. Только об этом и говорит.
– Да? Н-ну… Завтра, наверное. Ближе к вечеру…
– Нет! Он просит, чтобы обязательно сегодня! Он мне просто приказал: позвонит Феликс Александрович – скажи ему, чтобы пришел обязательно, сегодня же.
– Сегодня? Хм… – мямлит Феликс. – Сегодня-то я никак… Тут у меня Анатолий Сократыч сидит.
Зоя не слушает его.
– А если не позвонит, говорит, – продолжает она, – то найди его, говорит, где хочешь. Хоть весь город объезди. Что-то у него к вам очень важное, Феликс… И важное, и срочное…
– Ах, черт, как неудобно получается!..
– Феликс, миленький, вы поймите, он сам не свой… Ну забегите вы к нему сегодня, ну хоть на десять минут!
– Ну ладно, ну хорошо, что ж делать…
Феликс вешает трубку. Беззвучно и энергично шевелит губами. На физиономии его явственно изображен бунт.
Когда Феликс входит в палату, Курдюков сидит на койке и с отвращением поедает манную кашу из жестяной тарелки. Он весь в больничном, но выглядит в общем неплохо. За умирающего его принять невозможно. Палата на шесть коек, у окна лежит кто-то с капельницей, а больше никого нет – все ушли на телевизор смотреть футбол.
Увидевши Феликса, Курдюков живо вскакивает и так яро к нему бросается, что Феликс даже шарахается от неожиданности. Курдюков хватает его за руку и принимается пожимать и трясти, трясти и пожимать, и при этом говорит как заведенный, почему-то все время оглядываясь на тело с капельницей и не давая Феликсу сказать ни слова:
– Старик! Ты себе представить не можешь, что тут со мной было! Это же десять кругов ада, клянусь тебе всем святым! Сначала меня рвало, потом меня судороги били, потом меня несло, да как! Стены содрогались! Тридцать три струи, не считая мелких брызг! Страшное дело! Но и они тоже времени не теряли… Представляешь, понабежали со всех сторон, с трубками, с наконечниками, с клистирами наперевес, все в белом, жуткое зрелище, шестеро меня держат, шестеро промывают, шестеро в очереди стоят…
Он все оглядывается и, наступая на ноги, теснит Феликса к дверям.
– Да что ты все пихаешься? – спрашивает Феликс, уже оказавшись в коридоре.
– Давай, старик, пойдем присядем… Вон там у них скамеечка под пальмой…
Они усаживаются на скамеечку под пальмой. В коридоре пусто и тихо, только вдали дежурная сестра позвякивает пузырьками да доносятся приглушенные взрывы эмоций футбольных болельщиков.
– Потом, представляешь, кислород! – с энтузиазмом продолжает Курдюков. – Сюда – трубку, в нос – две… Ну, думаю, все, врезаю дуба. Однако нет! Проходит час, проходит другой, прихожу в себя, и ничего!
– Не понадобилось, значит, – благодушно вставляет Феликс.
– Что именно? – быстро спрашивает Курдюков.
– Ну, этот твой… мафусаил… мафуссалин… Зря, значит, я хлопотал.
– Что ты! Они мне, понимаешь, сразу клизму, промывание желудка под давлением, представляешь? Такой кислород засадили, вредители! Только тут я понял, какая это страшная была пытка, когда в тебя сзади воду накачивают… У меня, понимаешь, глаза на лоб, я им говорю: ребята, срочно зовите окулиста…