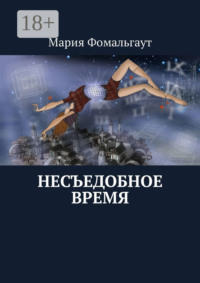Полная версия
Треугольное лето

Треугольное лето
Мария Фомальгаут
Иллюстратор Мария Фомальгаут
© Мария Фомальгаут, 2019
© Мария Фомальгаут, иллюстрации, 2019
ISBN 978-5-0050-5382-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
На роль моря
Седьмой день съемок.
Сегодня весь день снимали море.
То нежное и ласковое в лучах солнца, то беспокойное и хмурое под темными тучами, то бурное и грозное в шторм.
Море играло отлично – я еще никогда не видел море, которое играло бы так живо и убедительно. А ведь на кастинг на роль моря кто только не приходил, какие только моря-океаны не появлялись, а все не то, не то… все было какое-то… ненастоящее, фальшивое, то переигрывает море, то, наоборот, как-то лениво играет, нехотя, исподволь…
А тут сразу видно – море.
Нежно плещется, ласкает песок, грозно шумит, беспокойно бурлит, волнуется, пляшет, искрится в лучах заката.
Сегодня весь день снимаю море.
Я еще не знаю, что его убьют.
Не сейчас.
Через год.
Когда я приду сюда, и увижу вместо моря мертвую, безжизненную пустыню, покрытую солеными вихрями.
– Вы убили море?
Так я буду спрашивать все моря, ездить от моря к морю, вопрошать:
– Вы убили мое море?
– Да как вы смеете!
Бурлит, шумит, переигрывает море, сразу видно, фальшивит…
Ну а как же иначе, уж не вы ли завидовали юной восходящей звезде?
Ну не до такой же степени, чтобы убить его! Да и вообще… как вы себе это представляете?
– Вы убили мое море?
– Ой, ну что вы говорите такое… – лениво ответит еще одно море, которое я не взял на главную роль, уж очень оно ленивое…
– Вы убили море? – буду спрашивать я, – вы убили мое море?
Я найду его. Уже потом, когда отчаюсь искать. Он будет бормотать какие-то оправдания про необходимость отвода реки для орошения чего-то там, что-то про экологию, что-то про пустынные районы, которые теперь зацвели – но мне будет все равно.
Он убил мое море.
Потом я буду подкарауливать его, сжимать револьвер.
Потому что.
Он убил мое море.
Он.
Убил.
Мое.
Море.
Я увижу его – когда он будет выходить из ресторана, десять шагов до машины, десять выстрелов.
И только потом я увижу, что он шел не один.
А под руку с морем.
С тем морем, которое переигрывает и фальшивит.
И пойму все.
Воскресшее лето
…а куда я иду?
Вот так, дохожу до перекрестка, где только-только начинается маленький городок – и спрашиваю себя, а куда я, собственно, иду.
В магазин… нет, не то, для магазина в такой час рановато. Значит, на работу. А где я, собственно, работаю. Не знаю. Нет, не то, что не помню, просто – не знаю.
Идти. Хоть куда-нибудь. Просто. Идти. В надежде, что ноги сами принесут, куда надо.
В надежде…
Что я здесь делаю этим летним утром, спрашиваю я себя, что я здесь делаю этим погожим утром, в маленьком городке, на мощеных улочках, зачем иду мимо еще не открывшихся кафе, мимо цветников, уютных садиков, мимо милых особнячков, мимо…
Зачем я…
…стоп.
Я.
А кто я.
Пробую вспомнить свое имя – имени нет. Год рождения… опять мимо.
Спрашиваю себя, бывает такое, чтобы люди появлялись вот так из ниоткуда ни с того ни с сего. Спохватываюсь, а кто мне вообще сказал, что я чело…
…нет. Хватит. Голова идет кругом, если она вообще есть у меня, эта голова. Найти. Найти хоть кого-нибудь в этом еще спящем городе, спросить… что спросить… кто я. И зачем я здесь.
Смотрю на венецианские окна, закрытые плотными шторами, на флорентийские окна, спрятанные гардинами – понимаю, придется подождать часика два, что-то подсказывает мне, что сегодня выходной, люди не скоро выберутся из-под своих одеял, и из флорентийских и венецианских окон не скоро повеет свежезаваренным кофе.
…замечаю её не сразу, едва не наступаю на неё, лежащую в придорожной траве, да и неудивительно, здесь, в овражке даже луч солнца её не разыщет.
Хочу окликнуть её – не могу. И не потому, что не знаю имени.
А потому что…
…потому что…
…уже понимаю – мертва.
Ужас сковал сердце – и тут же схлынул, когда понимаю – мертва уже давно, дней несколько как. Наклоняюсь, ищу, сама не знаю, что, – снова вздрагиваю, как от удара, когда вижу мертвые пустые глаза.
Меня подбрасывает на месте, – вот теперь не ждать, вот теперь бежать, бежать, стучать во все двери, скорее, скорее, тут такое…
Бегу.
Стучу в дверь трехэтажного особняка с башенками, колоннами, флорентийскими окнами, причудливыми балконами и террасами.
Жду.
Хочу снова заколотить в дверь, вовремя замечаю колокольчик, – он откликается тоскливым треньканьем.
В доме отдергивают шторы.
Открывают окна.
Распахивают двери на веранду, я понимаю – впускают меня. Вхожу во все окна сразу, как-то так получается у меня – входить во все окна сразу, разбегаться сразу по всем улицам…
– Ну, наконец-то! – хозяин дома недовольно смотрит на меня, поправляет свой клетчатый халат, – где вы были, позвольте поинтересоваться?
Я…
…что за мода пошла, опаздывать! Вот в наши времена такого не было, честное слово.
– Но… – спохватываюсь, – так ведь еще только восемь утра, что вы…
– Ах, восемь утра, говорите? А на календарь вы не удосужились посмотреть, а?
Удосуживаюсь посмотреть на календарь, – календарь как календарь, ничего особенного, десятое июня. Спохватываюсь, а когда, собственно, меня ждали. Не знаю.
– А… а когда вы… меня ждали?
Хозяин дома закатывает глаза, уже все понимаю – как я могу не знать, как я могу этого не знать. Хочет что-то сказать, – не успевает, в комнату врывается стайка детей, окружают меня, ура, ура, ура, обнимают, радуются, а давай на море, а давай на речку, а давай в лес, а давай, а давай, а давай…
Умоляюще смотрю на хозяина. Хозяин недовольно кивает мне, что стоишь, развлеки детей, иди с ними, куда они там просят, только, чур, не на море, там через железную дорогу идти надо, и не на речку, еще утонут, и не в лес, заблудятся еще, и… ка-а-а-кая еще стройка, на какую на крышу, я вам такую стройку-крышу покажу, мало не покажется… А черт с вами, все равно же по-своему все сделаете, не удержишь вас… Вы уж там посмотрите за чертенятами моими, чтобы не убились совсем…
Понимаю, что не могу возразить, что нет сил что-то возражать, что сейчас я пойду с ними – на речку, в лес, на море, на стройку, на крыши, и все одновременно, это я могу…
Стойте-стойте, вы меня-то не бросайте, куда вас понесло-то?
Спохватываюсь. Не бросаю. Остаюсь и в доме тоже, вытягиваюсь на ковре, вспоминаю:
– Там… женщину убили.
– Там… что вы сказали?
– Там женщину убили.
– Г-где?
– Там… в овраге… то есть, не знаю, может, убили и не в овраге, потом бросили в овраг…
Хозяин, сутулый, нервный, с проседью, – всплескивает руками:
– Слушайте, ну что это такое, а? мало того, что вы опоздали на десять дней, мы уже извелись все, так теперь еще и с таких новостей начинаете! Слушайте, вот обязательно надо такой день портить, а?
Вспыхиваю:
– Ну а что вы предлагаете…. Ничего не делать, ну лежит мертвое тело, ну пусть себе и лежит, да? Лежит себе, есть не просит?
– Что с вами поделаешь… счас… позвоним…
Шелестит клетчатый халат, хозяин долго возится с телефоном, набирает номер, бормочет что-то, путается, теряется, спохватывается, умоляюще смотрит на меня, а в каком овраге-то, хот адрес, что ли, назвали бы… Понимаю, что не знаю никакого адреса, я всего несколько часов в этом городе, на мое счастье хозяин тут же сам вспоминает, что в городе один-единственный овраг…
Дети побежали на море, заплывают за буйки, умоляюще смотрят на меня, а мы тихонечко, а мы осторожно, а вы никому не скажете, правда-правда, ну пожа-а-алуйста… Слежу за детьми, чтобы не утонули, а то два трупа, это уже перебор, да что я несу, один труп, и то уже перебор…
– Вы трогали тело? – полицейский недовольно смотрит на меня.
– Да… то есть, нет… то есть… нет, нет.
– Так да или нет?
– Нет…
Следователь поворачивается к хозяину:
– Вы знаете эту женщину?
– Первый раз вижу.
– И я тоже… похоже, приезжая какая-то… Хотя… хотя постойте… слушайте, как будто видел где-то… не помню, где…
– Вот-вот, и у меня такое же чувство… – хозяин смотрит на распростертое тело, – видел же… или нет… или да… нет, нет…
Мне что-то суют под нос, бумаги какие-то, здесь распишитесь, – хочу возразить, что даже имени своего не знаю, – тут же вижу свое имя в отчете, начинаю понимать…
…быть того не может…
…а ведь может…
Я -…
– Хоть бы воду согрели, что ли, – ворчит хозяйка кирпичного дома на углу.
Бросаюсь в кухню, еще отчаянно соображаю, что делать, вскипятить чайник, или разогреть воду в кастрюле – хозяйка смотрит на меня, кажется, сейчас покрутит пальцем у виска.
– Ох, ты ж, горе мое… да вы в реке-то воду согрейте, люди-то купаться хотят!
Покорно согреваю воду в реке, тут же кто-то ворчит, что можно было бы и улицы прогреть, тут же кто-то замечает, что жарковато, можно и ветерка, эй, давай, пошевеливайся, ветерок подай, да не сильный, послабее, куда ты так дуешь… Кто-то из мужчин спохватывается, да перестаньте вы ему указывать, а то обидится еще, ему лучше знать, что делать. Кумушки у ворот тут же парируют, это мы обижаться должны, десять дней его не было…
Мечусь по городу, стараюсь всем угодить, не могу, вхожу в дома – через раскрытые окна, спрашиваю то у того, то у другого, не видели ли вы эту женщину, ну эту, которую в овраге убили, ну, не в овраге, не знаю, где – люди разводят руками, что-то припоминаем, понять бы еще, что… нет, не помним… не было такой у нас тут…
– Здравствуйте.
Нет, не так он сказал, когда пришел ко мне. Он поклонился и сказал:
– Здравствуйте… уважаемое лето.
Вот это меня сразу насторожило, ко мне еще никто так не обращался, по имени, даже следователь. Мне показалось, пришедшему что-то нужно от меня – и показалось не зря.
– Э-э-э… утро доброе.
– И правда, очень доброе утро, теплое такое, летнее, это здорово у вас получилось, солнышко, ласточки… небо синее…
Так и хочется спросить – что вы от меня хотите.
Не спрашиваю.
– Уважаемое лето… вы… вы мне поможете…
Киваю:
– Помогу.
– Думаю, чем помочь, урожай там хороший в огороде или погоду отменную в выходной, да такому учтивому господину ничего не жалко…
– …найти убийцу…
Меня передергивает.
– Вам же не все равно, правда? Вы же… вы же так волновались, да? Вы же поможете…
Хватаюсь за соломинку:
– Вы… вы её знали?
– Знал. Любил…
Вздрагиваю. Понимаю, что все серьезнее, чем казалось.
– Но… постойте-постойте, а почему же вы её знали, а остальные говорят…
– …они врут.
– Врут?
– Врут.
– Все? Весь городок?
– Весь городок. Врет.
– Но… зачем?
– Вот это я и хотел бы знать.
Мне становится не по себе.
Слушайте, быть такого не может, я понимаю, один-два человека её убили, скрывают, но чтобы весь город…
На этот раз передергивает человека, который пришел ко мне.
– Вы думаете… в заговоре весь город?
– Ну, я такого не говори…
– …а ведь верно получается, они же все сказали, что её не помнят…
Спохватываюсь:
– Но вы-то её знаете?
Сглатывает:
– Знал… хорошо знал.
– Так скажите мне, кто она такая?
Мотает головой:
– Этого… этого я вам не могу сказать.
– Послушайте, вы странный человек, вы просите меня помочь, а сами ничего не говорите…
– Но… я правда ничего не могу вам про неё сказать…
Вежливо кланяюсь. Иду развешивать на деревьях спелую вишню, рассаживать последние одуванчики. Он догоняет, он хватает меня за плечи, смотрит умоляюще:
– Вы найдете убийцу… найдете… обязательно…
*
…на этой неделе лето на нас обиделось, и очень серьезно: как только начался июль, зарядили дожди с утра до вечера, крупные капли падали с листьев, стучали по крыше, река стала холодной, мокрой, промозглой. Уже не хотелось выбираться из дома в такую непогоду, хотелось разжечь камин и собраться в тесном домашнем кругу. Кто-то поговаривал, что лето ушло, уступило место осени, – но другие подтверждали, что это все еще именно лето – обиженное, озлобленное на нас на всех. Люди даже видывали, как лето с умным видом хаживает в городской архив, ищет что-то в старых газетах, в старых книгах, незнамо, что…
(из чьего-то дневника)
– Я знаю… я знаю, что случилось!
Просыпаюсь от крика, недовольно смотрю на лето, ну что ты опять вломилось в дом с утра пораньше, светишь в глаза, кричишь что-то, я знаю, я знаю, да что ты знаешь, что ты мелешь, какое наследство, не было у убитой никакого наследства, вообще никто не знает, кто покойница, а ты что-то про наследство несешь…
Поднимаюсь на постели, смотрю на лето в упор, ну это уже слишком…
– Уважаемое лето… это уже десятая версия происходящего с вашей стороны…
– Но я…
– …уважаемое лето… это уже тринадцатая версия происходящего, которую вы мне предлагаете…
– Тринадцатая – и значит, правильная, да?
– С чего вы взяли?
– Ну… так всегда бывает… в книжках…
– Мы не в книжке, уважаемое лето. Это жизнь. Я понимаю, вы решили прошертстить всю библиотеку, проштудировать все истории преступлений… похвальная тяга к знаниям… Но с чего вы взяли, что здесь произошло что-то подобное?
– А вы… – лето спохватывается, – у вас дети… а где ваша жена?
Меня передергивает, это уже слишком.
– Моя жена покойница уже два года, да будет вам известно. Если вы скажете, что это я её убил, и что это её труп лежит в овраге – мне больше не о чем с вами говорить.
– Ничего… – лето сжимает кулаки, которых у него нет, – я найду убийцу… пусть даже через много лет…
– Видите ли, уважаемое лето… – хозяин дома осторожно откашливается. Я не люблю, когда он так откашливается, значит, хочет сказать что-то неприятное.
– Что я вижу?
– Вы говорите… много лет… но у вас есть только одно лето… которое вы сами. У вас только три месяца…
Не понимаю. Оторопело смотрю на него.
– К-как три месяца?
– Даже не три, что я говорю… июль уже идет вовсю, уже половины вашей как не бывало…
Смотрю на себя, что он несет вообще, какой половины не бывало – не понимаю, что я вообще вижу, где мои ноги, почему я парю в воздухе, почему меня нет – до пояса, почему, почему…
– У вас осталось мало времени.
Это тот человек. Который говорил – я её люблю.
– У вас осталось мало времени.
– Вы… почему вы мне не сказали?
– Простите… я думал… вы знаете…
– Знаю? Откуда?
– Ну… не знаю… правда, откуда лето может знать, что оно кончится… Она вот не знала… не знала… только догадывалась о чем-то…
– Она… кто она?
– Она… которую убили…
Озарение.
Внезапное.
Яркое, как вспышка.
Бросаюсь в неприметный домик своего случайного друга, еще раз смотрю на фотографию – он и она, только сейчас понимаю, где я её видело…
– Так это же весна… весна!
Он кивает:
– Да. Её звали весна.
Еле сдерживаюсь, чтобы не засмеяться, понимаю, тут не до смеха.
– Так весна же тоже не вечная… вы… вы когда с ней познакомились?
– В марте.
– Ну вот, видите, все правильно, в марте она пришла, в мае её не стало… Что вы хотели, весна тоже три месяца живет…
Он бледнеет.
Понимаю, что делаю ему больно.
Очень больно.
Тихонько ускользаю прочь из дома – запахами цветов, шорохом ветра в листве, шумом дождя. Буквально натыкаюсь на того, в клетчатом халате, только он уже не в халате, на нем другое что-то…
– И что это? И что это, я вас спрашиваю?
– А… а что?
– Нет, вы на него посмотрите, оно еще спрашивает! Какой сейчас месяц, разрешите узнать?
– А-а-а-а…
– …вот именно, август! Ав-густ! А где грибы, хотел бы я знать?
– А…
– Бэ! Маслята, подберезовики, белые – где все это? А лисички, лисички где, я вас спрашиваю? А черника? Первое августа на дворе, Ламмас, Лугнасад, свадьба луга, черничные пироги пора печь – и где черника, я вас спрашиваю? Вы как работаете-то вообще?
Вспыхиваю:
– А ничего, что Лугнасад – начало жатвы? Что-то я не припомню, вы когда последний раз в руки серп брали? А косу?
– Да как вы смеете!
Он бросается на меня, – что-то происходит, отступаю от него, но не в пространстве, а как-то по-другому, почему-то тает человек передо мной, почему-то пропадают яблоки на ветках, почему-то снова пробиваются одуванчики.
Десятое июня, вот почему.
Смотрю на себя, наконец-то снова чувствую свое тело все, целиком, – остаться бы здесь навсегда, в первом своем дне, когда еще толком не понимаю, кто я, и что я.
Даже не удивляюсь, что я могу вот так легко шагнуть в июнь.
Ведь я – лето.
Ловлю себя на том, что иду теми же улочками, что и в первый день, сворачиваю к переулку, за которым начинается овраг. Сейчас я снова увижу её, почему я хочу снова увидеть её, почему…
Смотрю на умершую весну, в её волосах еще остались белые цветы, уже мертвые, но еще не потерявшие свою красоту. Спускаюсь в овраг, зачем-то поворачиваю мертвое тело, что я ищу, что мне вообще здесь нужно, что, что…
…вот оно…
Глубокая черная рана на груди.
*
– …вы трогали тело?
Да… мне показалось… а вдруг она живая еще… а вдруг еще можно что-то сделать… массаж сердца там, или я не знаю…
– Так может, вы и убили?
Вздрагиваю.
Вот оно, началось…
Тут же парирую:
– Так вы проверьте, когда она умерла, тут дней десять прошло, а я же тут только сегодня…
– …опоздали на десять дней! – добавляет господин в клетчатом халате, нет, это не халат у него, это пальто, да что за господин такой, все-то у него клетчатое. Дети господина обступают меня с криками, пошли-пошли-пошли, в лес, на речку, на море, на стройку, на край света… Господин тоже не отстает, да как вам не стыдно, да мы вас десять дней ждали, вы как работаете вообще, я на вас нажалуюсь, – киваю, думаю про себя, кому ж ты жаловаться-то будешь…
…нет, нет, какого черта я вообще тут делаю, назад, назад, в первое июня или еще там какое, когда весна была еще жива, когда еще можно было узнать, кто её убил, или вообще сделать так, чтобы никто её не убил…
Хочу отступить назад.
Не могу.
Что-то не дает, что-то не пускает, какая-то стена, но не в пространстве, а во времени, что-то…
Проклинаю себя, что опоздало на десять дней.
Проклинаю.
Спохватываюсь, хочу вернуться в июль, когда зарядили дожди, ведь можно все исправить, сделать солнце, жару, вот это вот все…
…меня коробит, еще успеваю подумать – интересно, бывают у времен года нервные срывы, или нет. А пропади оно все, пропади, пропади, чтоб вас всех с вашими клетчатыми халатами, с вашими претензиями, с вашими трупами, с вашими…
*
…лето окончательно обиделось на нас, – сегодня после полудня грянула гроза, с молниями, с громом, с градом, – грохот раскалывал небо, здоровенные градины колотили по крышам, от нашего роскошного сада осталось только печальное воспоминание. Больше всех досталось Пэгги, её здорово пришибло градиной, если бы Букман не затащил её на террасу, не знаю, что было бы с бедняжкой. Пожалуй, только тогда мы первый раз осознали, что лето не обязано нам прислуживать, что лето живет по своим законам и правилам, и если рассердится на нас окончательно, то нам несдобровать…
(из чьего-то дневника)
*
…сегодня празднуем Лугнасад.
Ну да. Успокаиваюсь, спохватываюсь, стыжусь, отматываюсь назад, кое-как мастерю теплый июль, убираю грозу с градом, после которой город стал похож на поле боя, готовлю чернику к началу августа, – в домах пекут черничные пироги, дети плетут фигурки из колосьев. Вечером собираемся в доме господина в клетчатом, пьем чай с пирогом, я устраиваю роскошный звездопад, дети наперебой загадывают желания.
Буквально налетаю на хозяина дома, он смотрит на меня, руки трясутся, глаза сверкают, да что опять не так…
– И что это? И как это понимать, я вас спрашиваю?
– А… что такое?
– А Юнона где?
– Это… это…
– Вы с ней были сегодня!
– Да я со всеми было…
– Я третий раз вас спрашиваю – где моя дочь?
Даже не поправляю, что не третий, а второй. Юнона, Юнона… я не помню имен, не помню лиц, для меня все люди на одно лицо, на одно имя – Люди…
– Она…
– Где. Моя. Дочь. Где вы с ней были, черт вас дери?
– В лесу… на речке… – припоминаю, ничего не могу припомнить, – у моря…
– Ну и где я теперь Юнону искать должен? В реке? В море? В лесу? Или её поездом переехало?
Отскакиваю назад – не назад по траве, а назад в утро Лугнасада, дети обступают меня толпой, а пошли, а пошли, а пошли, а туда, а туда, а туда…
Следить. Во что бы то ни стало – следить, ни упустить из виду ни… а кого я собираюсь не упускать из виду, я их не различаю, все на одно лицо, может, Юноны уже и нет, а я и не знаю…
Не выдерживаю:
– Ребята, а где Юнона?
– А… а туда пошла!
– А не, туда!
– А туда!
Понимаю, что я ничего не добьюсь, что Юноны уже нет, черт возьми, если её нет утром, значит…
…бросаюсь в дом, хозяин в клетчатом халате пьет чай на веранде.
– А… а Юнона где? – выпаливаю ему в лицо.
– Что значит, где, она с вами пошла, вы что…. Это я у вас должен спрашивать, где Юнона!
Снова возвращаюсь назад, в первое августа еще до рассвета, осторожно заглядываю в окна, в комнаты, где спят дети, вижу пустую кровать, понимаю, что Юноны нет.
Время играет со мной, время смеется, время не дает мне Юнону. Что-то подсказывает мне, что если я вернусь в десятое июня, Юноны не будет и там.
Потому что.
У времени свои правила.
Возвращаюсь в вечер Лугнасада, – бежать, искать Юнону, искать по лесам, по полям, по морям, ой, нет, нет, только не по морям, если кто-то утонет, в жизни себе не прощу… если кто-то утонет во мне… или мной… не знаю… человек бы сказал – если кто-то утонет этим летом, я говорю – если кто-то утонет мной…
Бежать.
Искать.
Найти – пока не нашли другие, это очень-очень важно. Прекрасно понимаю, что ничего мне за это не будет, если погибнет Юнона, не повесят же меня, в самом деле, и не сожгут… хотя кто их знает… в городке Таймбурге этим летом казнили лето за неисполнение своих обязанностей… да что я несу, каждым летом кто-то утонет, кто-то заблудится и погибнет, каждой зимой кто-то умрет от простуды, или там еще что, эдак каждое время года надо казнить… и каждый день… и каждый час…
Пробегаю мимо дома того человека, который любил весну, – что-то ёкает в сердце, почему я бегу к нему, почему я стучу в дверь, почему я врываюсь в дом, почему бегу по лестнице, залитой закатным солнцем…
– Вы… вы поможете мне?
– А? – он поднимает голову, выбирается из кресла, кажется, дремал человек, а тут я…
– А тут… а тут девочка пропала… а вы не поможете найти?
– Да… да вы что? – человек бледнеет, подскакивает, как ошпаренный. Понимаю, что значит для людей пропажа одного из них, понимаю, что этого-то мне точно не простят, долго еще будут вспоминать недобрым словом, а-а-а, это лето, когда девочка пропала, так и останусь в истории – лето, когда пропала девочка…
Человек мечется по комнате, бормочет что-то, да где она может быть, да куда вы с ней таскались вообще, вам, блин, только ребенка доверить, – я в ответ ляпаю что-то невпопад про лес, человек хватает со стены причудливое оружие, что-то настораживает меня, что-то, что-то…
…а вот оно что…
– Это вы её убили.
Человек падает в кресло, как подстреленный, бледнеет, покрывается красными пятнами, хватается за горло, хочет что-то сказать, не может.
Спрашиваю:
– Вы… зачем вы это сде… да что с вами?
Первый раз такое вижу у людей, чтобы мелкая дрожь, чтобы судороги, отчаянно вспоминаю номер скорой помощи, отчаянно понимаю, что не помню. Проклинаю себя, кто меня за язык тянул, что я вообще не могу остановиться, что я вообще продолжаю…
– Вы убили весну…
Он прячет лицо в ладонях, не то истерически смеется, не то рыдает, не то и то и другое вместе, я не понимаю.
– Вы… я… да… да…
– Вот… у оружия треугольный клинок… у весны была треугольная рана на груди… вы…
– …да…
– …но…
– …я любил её…
– …любили… и…
– …я… вы поймите… я хотел… чтобы она принадлежала мне… только мне… а она…
– Но это невозможно… весна принадлежит всем… всем!
Он бросается ко мне, лицо перекошено болью:
– Она моя, слышите вы? Моя! Это я любил её, это я… Да что вы вообще докажете, весна все равно до июня живет и умирает, ничего мне за это не будет, ничего!